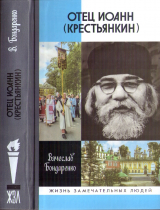
Текст книги "Отец Иоанн (Крестьянкин)"
Автор книги: Вячеслав Бондаренко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Глава 2
ОРЛОВСКИЕ ГОДЫ
В день рождения Вани в доме Крестьянкиных отмечались чьи-то именины – возможно, младшего брата Михаила Дмитриевича, 45-летнего Ивана. Ждали к столу и Елизавету Илларионовну, но тут как раз начались роды, и один из гостей недовольно пошутил:
– Ну и не вовремя мальчик-то родился...
На третий день, 31 марта, Ваню понесли крестить в храм Святого Илии Пророка, или, как его называли в народе, Николы на Песках. Идти было минуты две – храм стоял на той же Воскресенской улице, что и дом Крестьянкиных, шагах в пятидесяти правее. На фотографиях эта церковь не производит впечатление особенно большой и высокой, но воочию поражает величественными размерами. Она была построена в Екатерининские времена, когда Орёл уже был губернским городом. Её заложили в 1775 году на месте бывшего выгона, где стояла часовня в память о первой деревянной церкви Воскресения с приделом Пророка Божия Илии, выстроенной здесь в 1560-х годах, во время основания Орла. В 1776-м первым освятили южный придел Святителя Николая Чудотворца (отчего и пошло народное название храма), а главное здание было готово к 1790 году. 19 сентября 1858 года, когда Орёл сильно горел, пострадали трапезная и колокольня, но вскоре они были обновлены. В 1874-м в храме установили резной золочёный иконостас, в 1898-м вокруг возвели железную ограду на кирпичном фундаменте, а чуть позднее построили две каменные часовни, до наших дней не дошедшие. На начало века прихожанами храма были 924 мужчины и 900 женщин, из них 600 мужчин и 200 женщин были грамотными; в их число входили и родители Ивана.
Наиболее чтимыми в храме являлись иконы пророка Божия Илии, святителя Николая Чудотворца и святителя Митрофана Воронежского; все они являются покровителями семьи и брака, потому в народе храм часто называли «венчальным». Начиная с 1811 года ежегодно 20 июля, в Ильин день, в храм из всех городских церквей совершался крестный ход. «Какие замечательные крестные ходы были у нас в Орле, особенно пасхальные, – уже в старости вспоминал о. Иоанн (Крестьянкин). – Кругом разливалось море огня, благовестил торжественный колокольный звон. Это были настоящие торжества».
При советской власти храм был закрыт, но, к счастью, не снесён. На цветной фотографии, сделанной немцами в оккупированном Орле, видно, что в 1940-е годы малых куполов на церкви уже не было. После войны в ней размещалась швейная фабрика № 2, с 1963-го – филиал производственного объединения «Радуга». 4 июля 1995 года храм был возвращён приходской общине, в сентябре начались богослужения, а с марта 1996-го купола вновь украсили золочёные кресты. После открытия о. Иоанн подарил своему первому храму облачения, богослужебные книги и утварь; особо берегут в храме подаренное им Евангелие, которое ныне хранится в специальном киоте рядом с крестом, находившимся в гробе священноисповедника Георгия Коссова (о нём ещё будет речь ниже).
Храм высится на углу улиц Гагарина (бывшей Воскресенской) и Нормандия-Неман (бывшей Николо-Песковской). Сейчас вокруг разномастная застройка: с левой стороны магазин «Перекрёсток», с правой – через улицу старинные, но уже обновлённые частные домики, над которыми возвышаются два бело-бежевых с голубыми вставками высотных «столбика», порождение уже нашей эпохи; позади храм полукольцом охватывают девятиэтажки брежневских времён. А в начале XX века это была одноэтажная, деревянная южная окраина Орла. Если пойти от храма вперёд, то путник проходил мимо стоящего в глубине квартала 2-го Орловского духовного училища (сейчас в его перестроенном здании – средняя школа № 29), величественного собора Смоленской иконы Божией Матери, освящённого в 1895 году, – «родного» храма для старших поколений Крестьянкиных, – и минут через восемь достигал рыночной Кромской (сейчас Комсомольской) площади, на которой теперь разбит разрезанный дорогой пополам парк; ещё дальше – маленькая Щепная площадь, ныне застроенная многоэтажками, а левее располагалось Крестительское кладбище, окружённое стеной и усаженное в 1896 году тоненькими деревцами, – уже в конце XIX века этому погосту было сто лет. Если же идти от Николо-Лесковской вниз, то всего через квартал начиналась коротенькая Задняя Лесковская (сейчас – просто Лесковская) улица, а там уже ведущая к Брянску железная дорога, переезд с будкой, наличие которой особо отмечали старые карты, и город заканчивался. Современный же Орёл тянется и много южнее этого предела.
Ильинский храм был первым в жизни Вани Крестьянкина. Крестил младенца священник о. Николай Азбукин (он же раньше крестил Павла и Сергия Крестьянкиных); сослужил ему о. диакон Иоанн Адамов, а помогал псаломщик Евстигней. В метрической книге псаломщик сделал запись: «Родители: орловский мещанин Михаил Димитриев Крестьянкин и законная жена его Елисавета Иларионова. Восприемники: орловский мещанин Александр Михайлов Крестьянкин и орловская мещанка вдова Параскева Иларионова Овчинникова», то есть старший брат и родная тётка, сестра матери.
С младенчества Ваня страдал сильной близорукостью, был слабеньким, часто и подолгу болел. Доходило до того, что близкие вздыхали над его колыбелью: «Ванечку-то хоть бы Бог прибрал!» Таки произошло, но в другом смысле. Однажды, когда младенец почти умирал, до предела измученная и утомлённая Елизавета Илларионовна задремала над его кроваткой и вдруг увидела перед собой сияющую деву, в которой узнала святую великомученицу Варвару. «А ты мне его отдашь?» – спросила дева, указывая на младенца. Мать протянула к ней руки и... проснулась. На следующий день Ваня начал выздоравливать. И не было потом ни дня, чтобы он не поминал в молитве святую великомученицу, которая «прибрала» его к себе. К последней странице молитвослова о. Иоанна был приклеен бумажный кармашек, в котором лежала иконка святой великомученицы Варвары с надписью рукой батюшки: «Которая много значит в моей жизни».
3 июня 1912 года в семью Крестьянкиных пришло горе – в возрасте сорока девяти лет от воспаления лёгких скончался Михаил Дмитриевич. Елизавета Илларионовна, которой было тогда тридцать восемь, осталась одна с пятью детьми на руках (старшему четырнадцать лет, младшему – два года). Но в тяжкое время проявилась сила духа и стойкость характера этой удивительной женщины. О. Иоанн вспоминал, что по праздникам в маленький деревянный дом Крестьянкиных на Воскресенской набивалось полным-полно гостей, и для всех у матери находились и угощение, и доброе слово, а провожая людей, она ещё и снабжала их гостинцами для тех, кто не смог заглянуть на огонёк. И первые, самые простые и внятные уроки добра, милосердия, сострадания к ближнему мальчик получил именно от матери.
Что-то запоминалось на всю жизнь. Например, самовар, в котором варятся завёрнутые в марлю яйца к завтраку. И как только они готовы, у мамы начинает «болеть голова» (Елизавета Илларионовна и в самом деле страдала мигренями), «пропадает аппетит», и своё яйцо она отдаёт младшему, Ване. Это история из голодных лет, может быть, 1921-го или 1922-го. Тогда в доме Крестьянкиных нечего было менять даже на хлеб, оставалась только икона Божией Матери «Знамение». Но на все попытки перекупщиков получить икону и расплатиться с хозяйкой хлебом Ваня слышал твёрдое «Нет» из уст матери. Ещё больше она укрепилась в своём решении, когда увидела сон, в котором икона уходила из её дома на небо в огненном столпе. Образ так и остался в доме... А вот Ваня подкармливает слепых мышат, и мать ограждает его от досады соседа и друга семьи, купца Ивана Александровича Москвитина: «И что ты ему разрешаешь с мышами возиться, Лиза!..» И так же надолго врезается в память материнское неодобрение, когда на Рождество 1915-го пятилетний Ваня впервые в жизни сам проехался на извозчике – на гривенник, подаренный Москвитиным. Ничего не сказал, смолчал, утаил монетку, хотя обычно её отдавал маме... Стыд за проступок – хотя, кажется, что в нём такого? – остался навсегда. Как и стыд за то, что на Пасху 1917 года, оставшись дома один, отщипнул на пробу кусочек кулича, стоявшего на столе. «Я помню до сих пор этот грех», – признавался о. Иоанн в 1970-х.
Трогательная связь между сыном и матерью сохранялась до самой смерти Елизаветы Илларионовны. Даже свой необычный почерк, напоминающий старательные детские письмена, о. Иоанн унаследовал от матери.
Ваня рос не только болезненным, но и очень добрым. Над ним могли подшутить двоюродные братья, предложив полизать на морозе дверную ручку или усадив на коня без седла, но он не держал на них обиды. О мышатах уже упоминалось, а был ещё умерший цыплёнок, над которым мальчик долго плакал и которому устроил «христианское погребение». И первые его игры тоже были связаны именно с добротой, милосердием – и с церковью. Она стала для Вани родным домом с раннего детства, всё в расположенном по соседству храме для него было тёплым и притягательным. Когда Крестьянкины приходили в гости к соседям, у которых висел большой портрет некоего архимандрита, мальчик подолгу любовался его строгим величественным обликом. Воодушевлённо участвовал в венчаниях старших братьев – был «мальчиком с иконой» (много лет спустя о. Иоанн в мельчайших подробностях вспомнит эти венчания, наставляя перед браком о. Геннадия Нефедова и Ксению Правдолюбову). А насмотревшись на службы, он попросил маму сделать ему «кадило» из консервной банки, «епитрахиль» из полотенца и помогать во время «службы». Другая мать одёрнула бы сына, строго внушила бы ему, что игра и церковное таинство – несовместимые вещи. Но, видать, глубоко врождённое чувство такта Елизаветы Илларионовны сделало своё дело (а может быть, материнское сердце почувствовало, что это не просто игра). И сам о. Иоанн впоследствии, когда у него спрашивали, как относиться к такому поведению детей, отвечал:
– Это не игра! Это их жизнь. И не препятствуй им. Пусть только будет всё это серьёзно и строго. Как только заметишь какое-либо легкомыслие или улыбку – пресекай. Да они и сами перестанут «служить», когда выйдут из младенческого возраста.
Мать терпеливо участвовала в «службах» пятилетнего Вани, которые порой затягивались надолго. И можно предположить, что в своих «игральных» молитвах мальчик поминал павших за Родину на поле брани, – ведь с 1914 года Россия вела тяжелейшую войну, которую тогда называли Великой, или Второй Отечественной, и Орёл был переполнен ранеными, главным образом солдатами (всего в городе действовали 33 госпиталя, через город прошло больше 114 тысяч раненых, среди которых был и прадед автора этих строк)...
В марте 1916-го Ване Крестьянкину исполнилось шесть лет. И уже тогда было понятно, как резко отличается он от своих старших братьев и сестры. К примеру, окончивший в 1912 году Ильинскую церковно-приходскую школу Константин увлекался театром, не пропускал ни одной орловской премьеры, понемногу готовился освоить мастерство гримёра, учась у знаменитого в Орле Жозефа Рауля. А Ваня был весь сосредоточен на церкви. Вскоре он попросил у мамы разрешения самому прислуживать в храме, хотя бы недолго. В соседнем приходе, где алтарничал его ровесник, попросили стихарик, и целую неделю мальчик был счастлив, исполняя пономарское послушание. Но потом стихарь пришлось отдавать, и горю Вани не было конца – он плакал так, что утешить его не мог никто. В конце концов знакомый гробовщик Николай Соболев, сжалившись над малышом, изготовил для него первое в его жизни настоящее облачение – стихарь из золотой парчи, шедшей на обивку гробов. Именно этот стихарь, благословлённый епископом Орловским и Севским Григорием (Вахниным, 1865 – после 1919), надели на него во время хиротесии. Так шестилетний Ваня стал пономарём, впервые перешагнув порог храма Святого Илии Пророка в качестве не прихожанина, но служителя. А вернувшись домой с первой службы и барабаня кулачком в двери, радостно объявил:
– Открывайте, я ризу принёс!..
На первый взгляд обязанности у пономаря не такие уж и сложные. Но это только на первый взгляд. Это человек, который помогает священнику готовиться к богослужению – готовит облачения, приносит просфоры, вино, воду, ладан, возжигание в алтаре свечи. В процессе службы пономарь возжигает и подаёт кадило, готовит теплоту, во время причащения подаёт плат для отирания уст. Если необходимо, он участвует в чтении во время службы, выполняет обязанности звонаря и свещеносца; он также следит за порядком и чистотой в храме. Словом, это совершенно необходимый и важный участник церковной жизни. И для того чтобы чётко и правильно выполнять все пономарские обязанности, нужно хорошо знать порядок службы, относиться к делу ответственно, вдумчиво и серьёзно. Поэтому отношение к детям-пономарям у разных священников разное. Ведь ребёнок остаётся ребёнком – чего-то он просто не понимает в силу возраста, к чему-то относится поверхностно, может и полениться, и поозорничать, что-то просто забыть, с чем-то не справиться.
Мы знаем, что Ваня Крестьянкин исполнял обязанности пономаря ревностно и никаких нареканий не вызывал. Значит, он уже тогда, в шесть лет, хорошо понимал суть этого послушания. Конечно, как полагается, получил на него благословение матери и настоятеля храма. Прошёл торжественный и волнующий обряд посвящения в церковнослужители – хиротесию. И наверняка присутствовал на многих беседах, учитывал замечания, подсказки, которые ему давали. Тем более что первым его духовным наставником стал священник, который крестил его и венчан его родителей, – о. Николай Азбукин.
Протоиерей Николай Иванович Азбукин происходил из известной в Орле священнической семьи (в XX веке орловские Азбукины дали не только священников, но и учёных – ректора Томского мединститута Агафоника Павловича, врача-дефектолога Дмитрия Ивановича, одного из ведущих специалистов по телеграфии Павла Андреевича; мать философа С. Н. Булгакова также была урождённая Азбукина). О. Николай был законоучителем 3-го приходского мужского городского училища, заведовал одноклассной церковно-приходской школой при своём храме и Кирионовским домом призрения для больных священнослужителей, входил также в совет епархиального женского училища. Ване о. Николай внушал такое уважение, что и много лет спустя он помнил, как молился, глядя на его фотографию: «Господи! Быть бы мне таким, как он!» «Особенная была молитва, потому и услышана», – рассказывал об этом случае о. Иоанн.
Именно о. Николай преподал Ване первые уроки – не только церковной жизни, но просто жизни, жизни для Бога и людей. О двух таких ситуациях о. Иоанн вспоминал уже в старости. Однажды за поминальной трапезой о. Николай и Ваня сидели рядом, но мальчик ничего не ел, отговариваясь нездоровьем. Старушка-хозяйка очень сокрушалась... и вдруг догадалась, в чём причина: на дворе пятница, постный день, а на столе скоромное. А о. Николай уже на улице объяснил маленькому пономарю, как следовало поступить:
– Ты думаешь, Ваня, что я забыл, какой ныне день? Нет. Но и я, и ты знаем благоговение хозяев, и то, что произошло, это не нарочитое забвение устава Церкви, а ошибка, которую следовало покрыть любовью.
В другой раз священник и мальчик-пономарь вместе возвращались после освящения дома. Благодарные хозяева дали обоим по конверту с вознаграждением. О. Николай спросил, отблагодарили ли Ваню, и тот протянул батюшке свой конверт. А там лежала сумма, предназначенная для священника. О. Николай ни словом не намекнул на то, что произошла ошибка, и вернул конверт мальчику. И только дома Елизавета Илларионовна поняла, что батюшка поменялся с маленьким пономарём.
Хлопот пономарское служение доставляло немало. Под большие праздники, бывало, весь дом Крестьянкиных был заставлен лампадами и церковной утварью, которую нужно было почистить и вымыть. На помощь, конечно, приходила мама. А два раза в год, на Пасху и Рождество, о. Николай обходил с Ваней прихожан на дому, служил молебны. И на рождественских службах Ванины руки согревали связанные матерью рукавички, а душу – чтение молитв, глубокий спокойный голос о. Николая, радостные лица людей, к которым они приходили. ...Последняя предреволюционная Пасха, 10 апреля 1916-го (потом о. Иоанн вспоминал, как любил забираться на Пасху на колокольню Ильинского храма и звонить; однажды, спускаясь, упал с крутой лестницы, но, к счастью, ушибся несильно)... Последнее предреволюционное Рождество... И Пасха, и Рождество 1917-го будут уже совсем иными.
Именно во время своего пономарства Ваня понял, что хочет посвятить всю жизнь служению церкви. Ведь пономарь не обязательно становится священником – можно быть и мирянином, можно прислуживать в храме всю жизнь. Он же ещё совсем малышом почувствовал, понял: найден тот единственно верный путь, по которому он пойдёт. «Я родился для того, чтобы стать тем, кто я есть», – говорил о. Иоанн в старости. Для него это становление началось ещё в том возрасте, в каком дети впервые садятся за школьную парту. Более того, очень рано пришло понимание того, что он хочет стать не просто священником, но монахом. «Моё монашество началось с послушничества в шестилетнем возрасте, и до 56 лет проходило на приходе среди волнений и забот многомятежного мира» – так напишет архимандрит Иоанн (Крестьянкин) в предисловии к «Настольной книге для монашествующих и мирян».
Наверное, первыми Ваня увидел не монахов, а монахинь. В Введенской женской обители подвизалась дочь сестры Елизаветы Илларионовны, Мария (в монашестве Евгения), и монахини были нередкими гостьями в доме Крестьянкиных. Пока они пили чай с мамой, Ваня в прихожей с трепетом примерял на себя рясы и клобуки. И ещё в четырёхлетнем возрасте рассмешил гостий тем, что пообещал непременно стать монахом именно в их монастыре... Это было первое, ещё не осознанное соприкосновение с миром монашества, который затем стал для него идеалом, мечтой и к которому он будет стремиться.
Во всяком случае, по воспоминаниям орловских духовных дочерей о. Иоанна Клавдии и Веры Андреевых, когда маленькому пономарю указали на стоявших в храме, как положено, слева, девочек и в шутку предложили выбрать себе невесту («те, что поближе стоят, те побогаче, а дальше – победнее»), мальчик вполне серьёзно ответил:
– Мне невеста не нужна, я – монах.
...Если мирный довоенный уклад жизни Орла ушёл в прошлое в 1914-м, когда Ване было четыре года, то 1917 год безвозвратно переменил и уклад военный. Нет, серых шинелей на улицах меньше не стало, но на них расцвели теперь красные банты – символ разрыва со «старым режимом», осуждения низвергнутой власти государя. Полетели на мостовую двуглавые орлы – символы «поставщиков Двора Его Императорского Величества», торопливо замазывалось чёрной краской всё, связанное с прежним укладом страны. Нет сомнения, что семилетнему Ване творившееся в городе причиняло боль. Летом 1986 года в беседе с паломниками маститый старец о. Иоанн Крестьянкин с благодарностью вспоминал «воздух монархии», которого он успел глотнуть в детстве, и сожалел о том, что его собеседники не знают, что это такое. «Вы даже представить себе не можете, что это было за время! – говорил он. – И та Россия – как другая планета! Совсем всё другое, сейчас непредставимое!» «Он говорил это с какими-то возвышенными интонациями и часто поднимая вверх руки, как при молитвенных возгласах», – вспоминала слышавшая этот рассказ О. Б. Сокурова. «Мы – николаевские», – с гордостью повторял старец, имея в виду то, что принадлежит к давно ушедшей категории «дореволюционных» людей. И просил в письме: «Имей же, детка, ежедневно пред душевным взором <...> Государя нашего Императора Николая II, предавшего Россию в Руци Божии и скипетр свой – Царице Небесной, а себя – палачам за неё, как жертву живую». Небольшое изображение императора всегда находилось в его келии.
Доводилось ли Ване Крестьянкину самому видеть государя?.. При жизни будущего старца Николай II посещал Орёл единственный раз – 22 ноября 1914-го. Тогда император присутствовал на богослужении в Петропавловском соборе. И вполне возможно, что в многотысячной толпе, стоявшей у храма и приветствовавшей государя мощным «Ура», была и Елизавета Илларионовна Крестьянкина с четырёхлетним Ваней и другими детьми.
Но вернёмся в 1917-й. Тогда вместе со всей взбаламученной страной Орёл прошёл через «весеннее обострение», когда на улицах и площадях бушевали восторженные митинги во славу «свободы» и «демократии»; летнее осознание того, что какого-то волшебного мгновенного обновления жизни ждать вовсе не стоит; осеннее озлобление и опустошённость, последовавшие после разгрома «Корниловского мятежа». Царившее в обществе напряжение разрешилось октябрьским переворотом. В Орле, впрочем, новость приняли далеко не восторженно – 26 октября исполком городского совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов осудил вооружённое восстание в Петрограде, а на выборах в Учредительное собрание, прошедших в Орле 12—15 ноября, за большевиков проголосовали только 7 тысяч избирателей из 25 тысяч. О перевороте напоминали лишь редкие красные знамёна на зданиях. Тем не менее 25 ноября в городе был создан военно-революционный комитет, немедленно приступивший к организации в Орле «нового порядка». 10 января 1918-го горсовет признал советскую власть единственно законной, а 21 февраля ликвидировал городскую думу и городскую управу. Так для Орла началась советская эра.
Отразились события бурного года и на церковной жизни Орла. Новации в ней начались ещё при Временном правительстве. Так, 20 июня 1917 года церковно-приходские школы были переданы в ведение Министерства народного просвещения, а 14 июля принят закон о свободе совести, декларировавший свободу религиозного самоопределения с 14 лет. С недоумением и негодованием многие восприняли такую новацию, как проведение некоего «съезда духовенства и мирян» епархии. В апреле 1917-го этот съезд рассматривал вопрос о смещении с кафедры епископа Макария (Гневушева), назначенного на должность в январе, буквально перед самым переворотом, – за то, что он «при новом правительстве тормозит переустройство церковной жизни». В мае владыка Макарий был отправлен на покой в Смоленский Спасо-Авраамиев монастырь, а 4 сентября 1918 года расстрелян (палач выстрелил владыке в лоб) за «контрреволюционную деятельность» – одним из первых церковных иерархов. В 2000 году епископ Макарий был причислен к лику священномучеников... В августе 1917-го тот же съезд избрал новым епископом Орловским и Севским владыку Серафима, временно управлявшего епархией с 27 мая (в Орёл он прибыл 3 июня).
К этому времени, видимо, относится и знакомство с владыкой семилетнего Вани Крестьянкина. С замиранием сердца он провожал взглядом экипаж епископа, когда случалось тому проезжать по улице, и бегом сопровождал его. Однажды владыка Серафим, выглянув в окно, увидел бегущего рядом мальчика и спросил, как его зовут. Услышав ответ, попросил кучера остановить лошадь и пригласил мальчика сесть к нему. «У меня дух захватило от восторга», – вспоминал о. Иоанн и восемьдесят лет спустя...
– А что, Ванечка, не хочешь ли ты прислуживать мне во время Богослужения?
– Как? В алтаре, с архиереем?!
– Да.
– Очень хочу! – от всего сердца выпалил Ваня.
Так началось его знакомство с владыкой Серафимом – одним из главных его духовных учителей.
Преосвященнейший Серафим, в миру Михаил Митрофанович Остроумов, родился в 1880 году в Москве. До Первой мировой войны он был наместником Яблочинского Свято-Онуфриевского монастыря в Польше, ректором Холмской духовной академии. Умный, глубоко образованный, интеллигентный, владыка Серафим внешне мог произвести впечатление мягкого человека. Но когда дело касалось принципов, он проявлял твёрдость и решительность характера. Недаром в первой же своей проповеди, произнесённой в Орле 3 июня 1917-го в Петропавловском соборе, он сказал: «В наши дни пастыри должны не только проповедовать Христа, но и исповедовать Его, то есть быть готовыми к подвигу». Твёрдо, стойко встретил он летом 1922-го непомерно жёсткий приговор – семь лет заключения. Всегда оставался подлинным управителем Орловской епархии для тех, кто сохранил веру. В декабре 1926-го владыка был вновь арестован и навсегда покинул Орёл, с которым его столько связывало. 1 ноября 1927 года он был назначен архиепископом Смоленским и Дорогобужским, в Смоленске тоже проявил себя как мужественный и твёрдый архипастырь. И так же твёрдо он смотрел в лица своим палачам 8 декабря 1937 года в Катынском лесу под Смоленском... В 2014-м там был установлен памятник прославленному в лике священномучеников владыке.
...Настоящие испытания для верующих Орла и всей России начались с установлением советской власти. Новое правительство один за другим выпускало декреты, призванные подорвать влияние Православной Церкви на паству. Декрет «О земле» 26 октября 1917 года объявлял все церковные и монастырские земли народным достоянием, 11 ноября из ведения Церкви были изъяты все учебные заведения, 16 декабря был принят декрет «О разводах», а 18 декабря – «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», лишавший Церковь возможности регулировать юридические отношения в семье и аннулировавшие действенность церковного брака и развода. 23 января 1918 года был опубликован декрет «О свободе совести, церковных и религиозных обществах» (в дальнейшем переименован в декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»), который лишал Церковь всякого юридического статуса и права на собственность. 25 января Поместный Собор указал, что этот декрет «представляет собой, под видом закона о свободе совести, злостное покушение на весь строй жизни Православной Церкви и акт открытого против неё гонения». Дополнительное возмущение верующих вызвали введение григорианского календаря (после 31 января 1918 года сразу наступило 14 февраля) и реформа правописания (10 октября 1918 года).
Светлым лучом в этом царстве тьмы была для православных весть о восстановлении в России патриаршества (28 октября 1917 года) и избрании Патриархом Московским и всея Руси митрополита Тихона (Беллавина, 1865—1925) (21 ноября). Первые же действия Патриарха вселяли надежду на то, что Церковь сумеет отстоять свои права в новом государстве. 19 января 1918 года Патриарх Тихон выступил с посланием, в котором призвал всех православных встать на защиту Церкви, а тех, кто участвовал в беззакониях, жестокостях, расправах, грабеже церковного имущества, отлучил от Таинств и предал анафеме. «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы, – говорилось в послании. – Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей – загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей – земной».
В руководстве для действия епископу Орловскому и Севе кому Серафиму от 15 марта 1918 года разъяснялось, что отлучение могло накладываться как на отдельных лиц, так и на целые общества и селения. В случаях нападения грабителей и захватчиков на церковное достояние Патриарх советовал «призывать православный народ на защиту Церкви, ударяя в набат, рассылая гонцов и т. п.». Для защиты святынь предполагалось при всех церквях создать «союзы» из прихожан. В крайних случаях эти союзы могли заявлять себя собственниками имущества. Кроме того, документ призывал «всеми мерами оберегать от поругания и расхищения» священные сосуды и другие принадлежности богослужения во избежание попадания их в руки атеистов или иноверцев.
В знак протеста против гонений на Церковь 21 января 1918 года в Петрограде и 28 января в Москве верующие провели крестные ходы. В Орле был тоже устроен крестный ход. Благословляя его проведение, епископ Серафим заявил: «По примеру Петрограда и Москвы предполагается устроить торжественный крестный ход из всех церквей, в котором должны принять участие все от мала до велика, чтобы многотысячная церковная процессия явилась внушительным свидетельством отношения верующего русского народа к нынешней противохристианской политике большевистского правительства». Был и непосредственный повод – 1 февраля крупные силы Красной гвардии и милиции разогнали толпу прихожан, мешавшую снимать с колокольни Покровского храма двуглавых орлов. Наследующий день, несмотря на мороз и то, что в Орле было объявлено военное положение и запрещены «всякие демонстрации и уличные шествия», на улицы вышли 20 тысяч человек – треть населения города. Среди них был и семилетний иподиакон епископа Серафима Ваня Крестьянкин, шедший рядом с владыкой во главе огромной колонны. Крестный ход с пением «Христос воскресе из мёртвых» и «Воскресение Христово видевше...» прошёл от храма Иверской Божией Матери до Петропавловского собора, где была отслужена литургия. Затем на кадетском плацу владыка Серафим отслужил молебен, а наместник Волховского Троицкого Оптина мужского монастыря иеромонах Даниил (Троицкий, 1887—1934), по свидетельству следившего за действом чекиста, «произнёс публичную клятву, сводящуюся к тому, что он и всё духовенство от церкви никогда не отойдут и, несмотря ни на какие репрессии, от своих взглядов не откажутся». В ответ все присутствующие ответили громким «Клянёмся!».
Несмотря на сильную, по свидетельству очевидцев, «наэлектризованность» участников, крестный ход прошёл спокойно и закончился, к счастью, без инцидентов. А вот в Туле в тот же день произошла трагедия – местный крестный ход власти в упор расстреляли из винтовок и пулемётов, 8 человек были убиты, 11 ранены.
Усиление репрессий против верующих орловцев не заставило себя ждать. В тот же день, 2 февраля, большевистские солдаты под командой матроса ворвались в Орловское епархиальное училище и учинили обыск, причём инспектор училища и его жена были зверски избиты. 9 февраля был захвачен епархиальный свечной завод. 14 марта был заключён под домашний арест епископ Орловский и Севский Серафим, его дважды допрашивали, запретили получать корреспонденцию. 6 июля представители губернской ЧК обыскали Архиерейский дом, епархиальное собрание было разогнано под угрозой расстрела, епископ Елецкий Амвросий (Смирнов) арестован, а для владыки Серафима на тот день пришёлся уже второй в его жизни арест. 1 сентября было захвачено также здание духовной консистории, а бесценный архив, хранившийся там, выброшен на улицу и погиб.
Чёрное время настало и для монастырей Орловщины. В Ливенском уезде в ноябре 1918-го был полностью разорён местными крестьянами женский Марии-Магдалининский монастырь, такая же участь постигла Предтеченский монастырь в Кромском уезде. Всего у губернских монастырей было изъято 378 500 десятин земли. Представители власти вскрыли и осквернили усыпальницы святителя Тихона Задонского и преподобного Макария (Глухарёва). В Мценске древнюю резную скульптуру святителя Николая Чудотворца бросили в реку Зуша... И такие новости приходили почти каждый день, одна страшнее другой.






