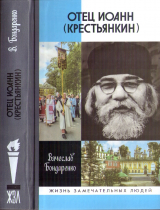
Текст книги "Отец Иоанн (Крестьянкин)"
Автор книги: Вячеслав Бондаренко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Сохранились и бесхитростные воспоминания певчей измайловского храма Ольги Алексеевны Воробьёвой: «Семья многодетная, муж Владимир – хороший сапожник – всё пропивал со своими товарищами. Батюшка в проповеди говорил: не надо ругать их, а с работы с любовию встретить и к обеду рюмочку для аппетита; жена послушалась, стала так делать, и он стал приносить получку, и в семье всё наладилось.
Как-то у одних родителей пропал мальчик шести лет. Они обращались всюду и очень плакали, а батюшка говорил: жив он, Божия Матерь вернёт его. И через несколько лет привезла женщина-азербайджанка, которая пожалела его (он потерялся и плакал) и взяла с собой. А когда прочитала, что семья ищет ребёнка, привезла его по адресу с ним, и сколько радости было, и служили благодарственный молебен».
Из показаний свидетелей по делу о. Иоанна мы знаем, что уже тогда, в конце 1940-х, он начал пользоваться у прихожан не просто любовью, а настоящим почитанием. Та же Александра Иванникова вспоминала, что «выстраивалась большая очередь к нему после проповеди: выяснить вопросы, получить благословение на что-то. Отвечая на вопрос кому-то, наставлял сразу всех, так как это всех касалось, так впоследствии было и в Печорах. Отвечал на вопросы с любовью, юмором, мудро, просто. Речь его была простая, язык хороший, не брезговал никем – какие бы люди ни приходили, он всем уделял внимание. Слушать его было полезно всем, особенном молодым. Молва о добром пастыре пошла по Москве, началось духовничество».
Благодаря протоколам допросов о. Иоанна в МГБ, известно, с какими именно вопросами и проблемами подходили москвичи конца 1940-х годов к священнику. Так, родители, желавшие воспитать детей в православной вере, спрашивали, можно ли дочери или сыну вступать в пионерскую организацию. Молодёжь интересовалась, противоречит ли религиозным убеждениям членство в комсомоле, обязательно ли венчаться при вступлении в брак. Множество молодых людей в возрасте 16—20 лет желало принять таинство крещения. Несмотря на тяжесть послевоенной жизни, было много желающих пожертвовать на храм. «Кто дал много – не жалей, кто дал мало – не скорби, – с улыбкой приговаривал батюшка, обходя паству с тарелкой для сбора. – Когда мы идём в квартиру, мы сначала ремонт делаем, а тут смотрите, как запущено – надо обновлять, престол освежить... Это Божий дом». «И тогда вороха наваливали денег», – вспоминала измайловский врач М. Е. Дроздова, затем принявшая монашеский постриг с именем Мария.
В это время батюшка начал приобретать славу не просто доброго деятельного пастыря, но прозорливца, человека, наделённого огромной духовной силой. Это следует из показаний священника, служившего с о. Иоанном в одном храме: «О Крестьянкине как о “прозорливом” “святом” человеке и “исцелителе” мне приходилось слышать как от верующих, так и от сослуживцев. Кроме того, я сам видел, как он в церкви села Измайлово в августе месяце 1948 года проделывал какие-то движения с чашей в руке над женщиной средних лет, которая была больна. Своими молитвами он как бы исцелял её от болезней. <...> Часто в церковь приезжают неизвестные лица и спрашивают, в том числе и у меня: “Где тут батюшка Иван, который бесов изгоняет”. Причём, к Крестьянкину, как к “прозорливому” неоднократно в 1949 году приезжала неизвестная мне женщина из гор. Ленинграда». Значит, известность батюшки уже вышагнула за пределы Москвы.
Валерий Николаевич Сергеев вспоминал об о. Иоанне, что «за те пять лет, что он прослужил в Измайлове, среди верующего народа всё больше распространялась слава о его абсолютном бессребреничестве, постнических и молитвенных подвигах. Среди прихожан Рождественского храма о нём ходили легенды, иногда, быть может, и вздорные. Так, священники-целибаты были тогда для многих в диковинку, и про отца Иоанна рассказывали, будто бы он кровью подписал клятву умирающей матери никогда не жениться. Подобные слухи (сам слышал) распространяли досужие старухи, сидя на скамейках в церковном дворе». А Александра Баранова запомнила отношение к батюшке измайловских детей: «Дети, которые были тогда, когда он служил в Измайлове, им было 5—7—10 лет, ходили в храм и тоже очень любили батюшку. Не уходили домой, пока не получат благословение, и вечером после всенощной приезжали домой в 11 часов вечера. Теперь некоторые из них, пенсионеры, вспоминают, как они за ним бегали по селу Измайлово, если не получили благословения, и до сего дня называют его “наш батюшка”, хотя с тех пор с ним не встречались, но забыть не могут».
24 февраля 1947 года в приходской жизни произошло горестное событие – в возрасте восьмидесяти трёх лет отошёл ко Господу старый настоятель храма, о. протоиерей Михаил Преферансов. И вскоре случилось так, что он уже после смерти своей спас о. Иоанна от грозившей ему беды. А было вот что: захотела принять крещение шестилетняя дочка крупных советских чиновников. Как именно она узнала о Таинстве, почему захотела креститься – неизвестно, но стояла на своём маленькая девочка не по-детски осознанно и твёрдо, и родители не смогли ей отказать. О. Иоанна привезли на квартиру к родителям ночью – днём было опасно. Малышка была одета в белое платье, с белым бантом в волосах; видно было, что её клонит в сон, но она терпеливо ждала батюшку – и дождалась... Впрочем, ночные тайны родителям не помогли – то ли соседи расстарались, то ли сослуживцы, но началось расследование дела, и нити его неизбежно привели к храму Рождества Христова в Измайлове. Спасло то, что расследователи так и не сумели установить, какой именно священник из храма крестил девочку. Тут-то «вину» на себя и «взял»... покойный о. Михаил: именно к его чёрномраморному надгробному памятнику, расположенному против алтарной части храма, подвели тех, кто расспрашивал. Мол, крестил недавно скончавшийся батюшка, а с него взятки гладки, на нет и суда нет. Так «дело» было закрыто.
Чуть позже произошёл ещё один эпизод, который свидетельствовал о том, что имя вроде бы обычного приходского священника с далёкой московской окраины приобрело широкую известность в столице. В храме раздался телефонный звонок: скончался брат известного советского деятеля, и его последняя воля – чтобы его отпели по православному обычаю[6]6
Легенда связывает этот случай с именем Г. М. Кржижановского. Однако у него не было братьев. Родственно связанный с семьей Кржижановских Д. Г. Подвойский в письме автору этих строк уверенно утверждает, что подобный эпизод был невозможен и по идейным соображениям. Так что кого именно отпевал о. Иоанн, пока остается тайной.
[Закрыть]. Выбор пал на храм Рождества Христова и о. Иоанна Крестьянкина. Поздно вечером к храму подъехали автомобили – несколько «побед» и чёрный ЗИС-110. Гроб с покойным в храм внесли крепкие люди с замкнутыми лицами. Один из них распорядился «кратко» отпеть покойного. Никто из вошедших не осенял себя крестным знамением. Среди приезжих священник узнал и знаменитого брата усопшего.
Но когда о. Иоанн раздал вошедшим поминальные свечи, взяли их все. А потом началась служба. Не «краткая», а полным чином, истовая и вдохновенная. Молодой священник, будто забыв о том, что он не один, молился над усопшим так, словно в гробу лежал его родственник... И лица вошедших постепенно изменились. Из надменных, каменных они стали живыми, разными – растерянными, угнетёнными, растроганными, возвышенными, задумчивыми. Когда служба закончилась, к о. Иоанну подошёл брат покойного и молча пожал ему руку.
А уже когда священник запирал двери храма, к нему вдруг обернулся один из тех, кто нёс гроб, – высокий мужчина лет пятидесяти. И неожиданно горячо прошептал прямо в лицо:
– Батюшка, как мне замолить свои грехи, как снять камень с души? Я ведь когда-то закрывал и разорял храмы...
После краткой паузы батюшка ответил таким же шёпотом:
– Сохраните в тайниках души веру в Бога и веру в Его милосердие. И Господь оградит вас в будущем от подобной беды.
...В 1947-м о. Иоанн получил благословение на заочную учёбу в Московской Духовной академии. Она была недавно преобразована из Богословского института, открывшегося летом 1944-го, и действовала на территории Новодевичьего монастыря. Многие студенты приходили в аудитории во фронтовых шинелях и гимнастёрках. Разброс в возрасте среди них был очень большой – поступали в академию и мужчины под шестьдесят, в основном старые, опытные псаломщики, и восемнадцатилетние юноши.
Занятия в Академии принесли о. Иоанну не только глубокую душевную и духовную радость, но и друзей – не на время учения, а навсегда. Причём среди них были как ровесники батюшки, например, Павел Голубцов (младший брат о. Николая Голубцова, будущий архиепископ Казанский и Марийский Сергий, 1906—1982), так и люди значительно младше его возрастом, родившиеся в начале 1920-х, – хорошо знакомый по общему кругу общения в храме Святого Иоанна Воина Константин Нечаев (будущий митрополит Питирим), Анатолий Мельников (будущий митрополит Ленинградский и Новгородский Антоний, 1924—1986). Все они мечтали о монашестве, все так или иначе были связаны с Троице-Сергиевой лаврой. Выдающийся реставратор церковной живописи Павел Голубцов принял постриг в лавре в апреле 1950-го, Анатолий Мельников – в июле 1950-го, Константин Нечаев – в апреле 1959-го. Рядом с единомышленниками в душе о. Иоанна крепла уверенность в том, что и его рано или поздно всё же обязательно ждёт монашеская стезя, что «неудача» в лавре 1946-го была важным уроком смирения и подчинения своей воли воле Господа и всё в его жизни идёт так, как и должно.
Вообще тот послевоенный набор академии дал немало ярких имён. Одновременно с о. Иоанном учились доктор богословия Алексей Буевский (1920—2009), о. протоиерей Дмитрий Дудко (1922—2004), митрополит Херсонский и Одесский Сергий (Петров, 1924—1990), митрополит Киевский и Галицкий Филарет (Денисенко, род. 1929). И как же по-разному сложились судьбы этих людей!.. Так, митрополит Филарет в 1990-х провозгласил себя «патриархом Киевским и всея Украины», за что был лишён сана и отлучён от Церкви; после 2014-го он неоднократно поддерживал украинскую сторону в братоубийственном конфликте на юго-востоке страны, а в 2017-м обратился к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с письмом, в котором призывал «забыть распри». А один из самых талантливых учеников, Евграф Дулуман (1928—2013), стал печально знаменитым в СССР пропагандистом атеизма, автором вышедших в конце 1950-х книг «Почему я перестал верить в бога» и «Почему я перестал верить в Христа».
Преподавательский состав послевоенной академии также был очень пёстрым, с разными подходами к ученикам и манерами преподавания. Так, о. Николай Колчицкий, читавший литургику, любил делиться подробностями своей богатой церковной биографии; о. Тихон Попов на лекциях импровизировал по памяти, так как был слеп; Николай Семёнович Никольский, читавший апологетику, основное богословие, еврейский язык и церковную археологию, мог спокойно заявить студентам о том, что «так называемая Большая Советская Энциклопедия – это дрянь, а вот Брокгауз и Ефрон – это действительно энциклопедия». Запоминались и изречения духовника академии, архимандрита Зосимы (Иджилова, 1899—1961), болгарина по происхождению, прошедшего в 1930-е через два ареста. Он почитался студентами как старец и, предостерегая их от греха, говорил так:
– На красный свет можно проехать. Но проскочишь раз, проскочишь два, а если всё время так ездить, авария неизбежна.
Среди преподавателей академии был и сосед о. Иоанна по Большому Козихинскому переулку, живший в доме напротив, – Анатолий Васильевич Ведерников (1901—1992). Выходец из простой крестьянской семьи Тверской губернии, Анатолий Васильевич был одним из образованнейших богословов страны и читал курс истории русской религиозной мысли. Такой предмет отсутствовал в дореволюционных академиях, Ведерников разрабатывал его сам, «с нуля». В 1948-м его отстранили от преподавания и уволили из академии, но, к счастью, не посадили, и вскоре митрополит Крутицкий и Коломенский Николай нашёл ему работу в издательском отделе Московского патриархата. В гостеприимном благочестивом доме Ведерниковых о. Иоанн не раз бывал, в 1949-м в подмосковном селе Гребнево венчал сына Анатолия Васильевича – Николая, который впоследствии стал известным священником и духовным композитором.
Один из новых друзей-соучеников, о. Сергий Орлов (1890—1975), пригласил о. Иоанна в подмосковное село Акулово, где жил. Орловы были потомственными священнослужителями – в Акулове служили также дед и отец о. Сергия. Самому ему выпала сложная и извилистая судьба. В молодости он увлекался социализмом, штудировал «Капитал» Маркса, но быстро пришёл к выводу, что «там всё филигранно расписано, только в жизни всё наоборот». Учился в Варшавском университете и Киевском политехническом институте. До войны работал преподавателем и директором средних школ в Москве и области, в июле 1946-го, уже в немолодом возрасте, был рукоположен во диакона, а через несколько дней – во иерея. Очень образованный и эрудированный, о. Сергий был тем не менее чрезвычайно скромным, простым и добродушным человеком. Почти никто не знал о его тайном постриге – в монашестве его имя было Серафим. Возможно, с о. Иоанном его свёл Анатолий Мельников, который был духовным чадом о. Сергия.
Маленький домик о. Сергия в Акулове был в буквальном смысле слова православной сокровищницей. Там хранились святыни упразднённого в 1927 году Серафимо-Дивеевского Троицкого монастыря. Ежедневная строгая, неспешная и благолепная молитва о. Сергия – непревзойдённого в Церкви знатока богослужебного устава – поддерживала в домике ту атмосферу, при которой, казалось, вот-вот отворится дверь и появится сам преподобный Серафим Саровский.
Именно совместные моления с о. Сергием, долгие разговоры с ним о монашестве подтолкнули о. Иоанна к пристальному изучению жизненного и духовного пути великого старца Серафима. Настолько пристальному, что именно его фигуру он избрал предметом для дипломной работы в академии. Эта работа – «Преподобный Серафим Саровский чудотворец и его значение для русской религиозно-нравственной жизни того времени» – впервые была опубликована в 2008 году в приложении к книге «Божий Инок».
Нет сомнения, что в ходе написания дипломной работы о. Иоанн стремился многое понять не только про старца Серафима, но и про себя самого. Он увидел важную параллель между духовным состоянием общества начала XIX века и современностью; в работе эта параллель проиллюстрирована яркой цитатой из «Беседы на гробе младенца о бессмертии души...» Е. И. Станевича (1818): «Христианство у многих стало не тем, чем оно есть по существу, но чем кому угодно, смотря по тому, у кого какое сердце. О Церкви же и говорить не для чего; у всякого стала своя внутренняя, где молятся какому-то Господу, о котором, если судить по наружным их действиям, производящим одни опустошения, то сей Господь должен быть духом разрушения и разорения». Произошёл полный разрыв между интеллектуальной и духовной жизнью народа, и позднейшие авторы наивно удивлялись, почему два величайших символа эпохи – Серафим Саровский и А. С. Пушкин – не только никогда не виделись, но даже и не слыхали друг о друге. На самом деле такая «невстреча» была глубоко закономерна: русские интеллектуалы пушкинской эпохи были как никогда далеки от подлинной Церкви, в лучшем случае заменяя её искренними попытками «прорыва» к вере собственными силами (деятельность Библейского общества; теоретизирования В. А. Жуковского, которые о. Иоанн, кстати, высоко ценил; паломничества в Иерусалим П. А. Вяземского и Н. В. Гоголя; творчество князя С. А. Ширинского-Шихматова, в монашестве Аникиты, А. С. Норова и А. Н. Муравьева). «Так далеко было это общество от живых истоков русской религиозной мысли, – пишет о. Иоанн, – что в 1836 г., спустя 3 года после кончины преподобного Серафима Саровского, Чаадаев скорбно произнёс приговор над религиозным развитием России, заявив, что единственным носителем света Христова в европейском обществе является римско-католическая церковь».
Именно оттуда протянулись незримые нити в XX век. Ведь богоборчество первых революционных лет возникло не на пустом месте, и люди, с радостью бросившиеся в разгромы храмов или, в лучшем случае, в обновленчество, росли во вполне благопристойной внешне духовной обстановке. Но именно что внешне. На самом же деле в стране на массовом уровне была безвозвратно утеряна суть христианства, состоящая в готовности подвига во имя Христа: «Даждь кровь, приими Дух».
Старец Серафим привёл о. Иоанна к ещё одной важнейшей мысли, которая на практике уже легла в основу его собственной судьбы: «По учению Святых Отцов и подвижников Православной Церкви необходимым средством достижения реального соединения с Богом является деятельное общение с ближними». Такие пастыри, носители серафимовского духа, уже встречались на жизненном пути Ивана Крестьянкина – о. Георгий Коссов из Спас-Чекряка, о. Александр Воскресенский из храма Святого Иоанна Воина. Теперь таким священником – никогда никому не отказывающим, всегда готовым прийти на помощь – был и он сам. Но как совместить «деятельное общение с ближними» с заветной мечтой – монашеством?.. Пытаясь постичь эту науку, о. Иоанн общался как с теми, кто всей душой стремился к монашеству, – друзьями по академии, – так и с опытными монахами. Наряду с о. Сергием в этот период в его жизни возник ещё один необычный человек – о. Иоанн (Иван Александрович) Соколов (1874 или 1880—1958). И это, без сомнения, было самое загадочное знакомство в жизни батюшки.
В кругу московских верующих о. Иоанн Соколов считался (и сейчас считается) одним из последних оптинских старцев, о его прозорливости ходили легенды. У о. Иоанна Крестьянкина после знакомства с ним также не возникло никаких сомнений в том, что перед ним – маститый, много повидавший в жизни игумен, и именно в таком качестве батюшка всю жизнь и воспринимал Соколова. На его надгробном памятнике высечены слова «Игумен Оптиной пустыни Иоанн Соколов». Но в действительности И. А. Соколов таковым не являлся. В процессе подготовки статьи «Из опыта изучения биографий братий Оптиной пустыни» (2009) историк Церкви иеромонах Платон (Рожков) изучил большой массив документов, хранящихся в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), и пришёл к однозначному выводу: ни в одном документе пустыни имя Ивана Александровича Соколова не упоминается и в игуменский сан он никогда не возводился. Более того, из архивных материалов следует, что сам Иван Александрович вовсе не был «подвижником благочестия» и «живым преподобномучеником», которым считал его о. Иоанн...
«Житийный» вариант биографии Ивана Соколова (его можно найти в Интернете и православной печати) гласит, что родился он в сентябре 1874 года в богатой московской семье, получил прекрасное образование (знал четыре языка), благодаря бабушке рано потянулся к монастырской жизни, в 16 лет поступил трудником в Оптину пустынь, затем принял там постриг, стал иеродиаконом, иеромонахом и игуменом. После закрытия пустыни вынужден был скрываться, некоторое время служил в московских храмах, затем трижды арестовывался, много лет провёл в ссылках, тюрьмах и психиатрических больницах, где на нём испытывали новейшие лекарства. Согласно другой вариации «жития» И. А. Соколова, в Оптиной пустыни он провёл 22 года в качестве трудника, принял тайный монашеский постриг с сохранением имени и в сентябре 1915 года, окончив по 2-му разряду Калужскую духовную семинарию, был определён священником в храм Святых Петра и Павла посёлка Дугненский Завод. После 1918 года о. Иоанна выслали с прихода, некоторое время он нелегально скрывался в Москве, а потом начал странническую жизнь. Когда его арестовывали – юродствовал, изображал из себя «абсолютно невежественного, тёмного деда» (именно так он охарактеризован в одном из протоколов). То есть согласно этой версии, оптинским игуменом он не был, но в священном сане состоял. Стоит заметить, что среди выпускников Калужской духовной семинарии 1915 года Иван Соколов действительно значится.
Но основные данные об «о. Иоанне Соколове», кочующие сейчас из статьи в статью и из книги в книгу, основаны исключительно на немногочисленных свидетельствах его духовных чад. А между тем сохранившиеся архивно-следственные дела Ивана Александровича содержат в себе немало подробностей, которые развенчивают благостный образ непрестанно страдавшего за веру «игумена».
Так, на допросе в 1927 году И. А. Соколов заявил: «Официально монахом или иеромонахом я нигде не был». Из того же протокола следует, что родился он в Москве в 1880 году в семье типографского наборщика; после того, как дом отобрали за долги, до 1925-го жил на квартире, после чего перебрался в подмосковное село Ромашково, где о нём пошла слава как о прозорливце и целителе. В 1927-м Соколова приговорили к трём годам ссылки, откуда он бежал и с конца 1937-го жил с чужим паспортом в деревне Липуниха. Во второй раз его арестовали в 1940 году. Тогда на допросе Иван Александрович пытался выдать себя за некоего «композитора» из Калуги и заявил, что церковь не посещает, ни в каком монастыре не был и священного сана не имел. Вскоре следствие выяснило, что владелец его паспорта, о. протоиерей Георгий Извеков, расстрелян в сентябре 1937-го, а сам «композитор» не знает нотной грамоты, после чего Соколов изменил показания – начал утверждать, что с 1897 по 1924 год находился в Оптиной пустыни, где в 1914-м был возведён в сан игумена. В итоге его осудили на пять лет ссылки в Казахстан. А во время третьего ареста, в 1950 году, Иван Александрович рассказывал о себе уже, что он «в школе учился только два года. Затем был “мальчиком” в магазине, а с 17-летнего возраста работал дворником в типографии в течение семнадцати лет». Далее следует фраза: «С 32-летнего возраста, по его словам, занимается деятельностью священнослужителя в старообрядческой общине». 11 августа 1950 года Соколова признали невменяемым и определили в психиатрическую больницу.
Заметим, что все три раза И. А. Соколова арестовывали за «антисоветскую деятельность», сводившуюся к тому, что он на частных квартирах раздавал бутылки с целебной водой, масло, предсказывал скорое падение советской власти, а иногда читал акафисты. О том, как формировалась легенда о нём как о священнослужителе, свидетельствуют его собственные показания: «В 1935 г., когда я стоял на паперти в греческой церкви, одна из женщин узнала меня и назвала о. Иоанном. Позже обратил внимание на меня и настоятель греческой церкви о. Иоанн, который, узнав, что есть игумен Оптиной пустыни, пригласил меня ему прислуживать. В большие праздники я помогал о. Иоанну в церкви, как это подобает по канону священнику в алтаре. Таким образом, я служил нештатным священником». Там же приводится свидетельство одной монахини, которая сообщает, что молебнов и прочих служб на дому Соколов не отправлял, да и вообще «у него не было рясы». Зато в 1940 году он постриг двух человек в монахи, причём один из постриженников, 15-летний подросток, в монашестве был наречён... Серёжей.
Конечно, встаёт вопрос: насколько можно доверять протоколам допросов, которые, как известно, нередко фальсифицировались и заполнялись самими следователями?.. По мнению о. Платона (Рожкова), в данном случае речь о фальсификации не идёт. «Судя по церковной терминологии, которую Соколов использовал в своих показаниях, его словарному запасу и грамотности в совокупности со всем вышесказанным, есть основания предполагать с большой долей вероятности, что Соколов не имел священного сана и едва ли мог быть монахом, – пишет исследователь. – По нашему мнению, псевдорелигиозная деятельность являлась для него средством к существованию, что оказалось возможным лишь в условиях разорённой церковной жизни, когда Церковь подвергалась гонениям, храмы по большей части закрывались, контроль священноначалия и связь прихожан с ним часто отсутствовали».
Спрашивается, как же о. Иоанн Крестьянкин не разглядел в новом знакомом его тёмную сторону? О. Платон (Рожков) отвечает на это вполне убедительно: «Нужно учитывать краткость их знакомства и личную доброжелательность мемуариста (о. Иоанна. – В. Б.), не замечавшего ничего худого в других людях. Неизвестно, каким было бы мнение покойного старца, если бы он узнал о закрытых подробностях жизни Соколова, но и в этом случае духовники и старцы крайне редко дают публичные отзывы негативного характера».
Кем же был Иван Александрович Соколов на самом деле? Самозванцем, присвоившим себе высокий сан игумена? Юродивым с тёмным прошлым? Священником, пережившим падение и так и не сумевшим подняться? Или в нём уживались все эти личности сразу?.. Вряд ли это удастся установить точно. Нам важно, что в жизни о. Иоанна Крестьянкина И. А. Соколов, кем бы он ни был, сыграл положительную роль. Судя по сохранившимся свидетельствам, этому человеку действительно был присущ дар прорицания, что позволяло поддерживать образ «старца в миру». А тень на о. Иоанна его знакомство и общение с Соколовым бросить не может. Для чистого всё было чисто, и, вероятно, батюшка видел в Иване Александровиче то высокое, главное, что, безусловно, присутствовало в этом изломанном, грешном человеке...
С о. Иоанном Соколов познакомился в качестве «оптинского игумена». О нём батюшке рассказали прихожане измайловского храма. Желание познакомиться с оптинцем было, конечно, велико, но... в те годы за такового мог выдать себя кто угодно, в том числе и агент МГБ, собиравший данные о «церковниках». Поэтому о. Иоанн послал к незнакомцу «разведку» в лице своей духовной дочери, певчей измайловского храма Ольги Воробьёвой. Составил для неё целый вопросник и долго наставлял – мол, если человек ответит на них так-то и так-то, то это подлинный старец, а если нет – то нет. Когда Ольга пробиралась огородами к домику в Филях, где жил Соколов, душа у неё от страха уходила в пятки. А Иван Александрович между тем стоял на крыльце домика и ещё издалека с улыбкой сказал:
– Олюшка приехала, да сомневается. Не бойся, проходи, радость моя. А уж отец-то Иоанн, отец-то Иоанн – какие хитрые вопросы придумал!
Тут же пересказал оторопевшей Ольге все «проверочные» вопросы и добавил:
– А отец Иоанн пусть приезжает, благословляю.
Так и познакомились отец Иоанн и Иван Соколов.
Был Иван Александрович маленького роста, горбатым, сильно хромал – как он сам уверял, в юности, расшалившись, спускался с колокольни в Оптиной через две ступеньки и неудачно упал. Но основные свои увечья он приобрёл много позже, во время странствований по ссылкам. Арестовывался он, как упоминалось, в 1927 и 1940 годах и возвращался почти инвалидом – с переломанными руками-ногами, без зубов, с выбитым глазом. Об этом глазе он только и вздыхал иногда: «Вот фонарь-то у меня один остался и светит плохо». Но это не мешало ему быть чрезвычайно проницательным человеком. «Придёшь к старцу, и вдруг мгновенно тот озарит тебя светом, уже неземным, благодатным, он заглянет внутрь и начинает разговор. До сих пор приходишь в трепет от этого воспоминания», – говорил о. Иоанн Крестьянкин о своих встречах с «о. Иоанном Соколовым», без всяких сомнений называя его «профессором Небесной Академии».
У нового знакомого о. Иоанн тоже оставил по себе доброе впечатление. По воспоминаниям одной из духовных чад батюшки, как-то Соколов после ухода о. Иоанна высказался о нём так: «Дивный батя! Постник, как древние». А ещё так: «Ой, всю жизнь будет крутиться, себя не жалеет». А в глаза звал его Ванечкой, наставлял по-своему, с приговорками: «Ничего не скажу, что я могу сказать, ведь я простой мужик-указник, так, плету кое-что...» (Люди, наверное, думали, что «оптинский игумен» говорит так по скромности, а это была чистая правда – он ведь и был «простым мужиком»...)
Обычно наставления Ивана Александровича Соколова были не всегда понятны тем, кто их получал. Он говорил, к примеру:
– Ванечка, будь посамолюбчивей.
Или:
– Ванечка, прошу и молю, не давай за всех поручительства.
Или:
– Ванечка, не будь везде хозяином.
Вот и гадай, что имеется в виду. После размышлений приходили ответы: «быть самолюбчивей» означало уделять хоть самое малое время себе, не разбрасываться временем и силами с чрезмерной щедростью; «не давать за всех поручительства» – быть осмотрительнее в высказываниях и поведении, ведь люди кругом разные, ручаться за всех нельзя. А пожелание «не быть везде хозяином» не затрагивало ли желание молодого священника, пусть неосознанно, следить за всеми процессами, происходившими в приходе, быть в курсе всего?..
Задал батюшка Ивану Александровичу и вопрос по поводу своего поступления в монастырь (видать, мысли о лавре всё-таки не давали ему покоя, возвращались время от времени). И услышал в ответ взволнованно-неясное:
– Куда? В какой монастырь? Там нынче везде сквозняки.
Что имелось в виду под сквозняками, стало понятно уже совсем скоро.
...В 1969 году в келии о. Иоанна (Крестьянкина) в Псково-Печерском монастыре пятеро молодых людей встречались со старцем. Тогда была сделана запись удивительного рассказа о. Иоанна о самом себе. Говорил он отчасти иносказательно, в третьем лице, но нет сомнения в том, что речь шла о его собственном духовном опыте.
«Прошло только три года, как он принял сан, и благодать священства носила его на крыльях. Ежедневно спозаранку приходя в храм и приложившись к престолу, он бежал к большому распятию, у которого изливал просьбы за себя и за всех, с кем сводила жизнь. В один из дней, по обыкновению припав лбом к стопам Спасителя, он услышал от Креста вопрос:
– Можешь ли ты любить Меня, как они?
Порывисто вскочив, священник обернулся. Храм был пуст, но вокруг Креста Христова, обступив его, стояли кресты разных размеров. Не возьмусь передать, что произошло в сердце собрата. Взмолившись, он впился взором в лик Спасителя. Крест безмолвствовал.
Память об увиденном тревогой преследовала его целый день. К вечеру он добрался до старца-духовника. Это был монах, уже прошедший лагерные мытарства, живой преподобномученик (имеется в виду И. А. Соколов. – В. Б.). Рассказывать о случившемся подробно не пришлось.
– Что ответило Господу твоё сердце? – прервал повествование вопрос старца. Только тогда священник поверил, что увиденное было не обольщением. Через короткое время видение повторилось с той лишь разницей, что на некоторых крестах были люди, дорогие его сердцу, погибшие в революционное лихолетье. Сердце батюшки сжалось от страха и жалости к ним и к себе. И вопрос, снова прозвучавший с Креста:
– Любишь ли ты Меня, как они? – опять остался без ответа.
Время шло. Мучительно болела душа за измену священной памяти отцам, за своё малодушие.
Всё навязчивее, всё ближе подступали и страхования. Враг бесчинствовал помыслами. Оставаясь в храме один, он в изнеможении лежал у Распятия. Всё тщетно. Освобождения не наступало. Мрак полонил душу.






