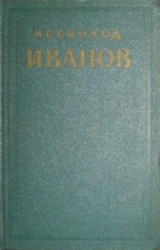
Текст книги "Избранные произведения. Том 2"
Автор книги: Всеволод Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 42 страниц)
Солнце светит особенно, как бы пронзая насквозь дома. Двери хлопают гулко, на полу трепещут листки бумаг, и ничто и никто не бросает живой тени в этих опустевших домах. Войдешь в комнату, а она словно радуется, что появился спокойный, знающий свою дорогу человек. Изредка по городу проскачет патруль, и о чем ни спроси, он крикнет: «Уехали! Интервенты близко, товарищ!»
На станциях в эшелонах много солдат и великое множество начальников. Эшелон идет, куда ему хочется. Начальник сидит, думает, затем посовещается и решает вдруг открыть здесь, против окна своего вагона, фронт. У каждого из начальников собственная карта фронта, и начальник неспособен понять, что фронт похож на цепь: пролезь между звеном ее, оттяни это звено – и нет никакой прочности в цепи, она слабее нитки. Здесь же каждое звено, оторвавшись от другого, действовало, шло вперед или отступало, как и когда ему казалось удобным.
То же самое в городе. Эвакуация шла без плана, торопливо, скачками. Капитан, который должен последним покинуть корабль, давно уже уехал, и эвакуацией заведовал юнга, никогда не бывавший даже в трюме.
– Кто прикрывает отступление и эвакуацию? – спросил Пархоменко у такого юнги.
– На линии Ворожбы стоит Луганский отряд Ворошилова, – ответил тот.
– А если я немцами подослан? – вдруг спросил Пархоменко.
Но юнга только мотнул головой, показывая этим, что он-то поймет, кто немец, а кто нет. Пархоменко рассвирепел:
– Теперь мне ясно, как меньшевики получили у вас состав с оружием. Город у вас получить можно, не только что состав.
И Пархоменко сказал меньшевикам, которых привез из Луганска:
– Идите.
– Куда?
– Куда хотите, но не в Луганск и не на фронт. Я туда еду. А вам второй раз со мной неприятно будет встречаться.
Бронепоезд и отряд Ворошилова он встретил возле станции Дубовязка. Вдоль полотна странничьим шагом, опираясь на недавно вырезанные палки, шли с вещевыми мешками солдаты старой армии. Они вяло просили табачку, никак не верили, что бронеплощадка хочет идти к фронту, и упрашивали взять если не их самих, то хотя бы письма домой. В движениях их чувствовалась небывалая усталость, и тянуло зевать при взгляде на их лица.
Пархоменко спросил о немцах.
– Мы его возле мельниц видали, ну и поторопились, – сказал сиплым голосом солдат, повязанный шалью. – У него орел-то на бронепоезде далеко виден. А ты, земляк, откуда?
– Из Луганска.
– Свое место, стало, защищаешь. А наше место – в Сибири, далеко… Пока враг до нас дойдет, мы три посева снимем. Счастливо оставаться, братцы!
Ворошилов, пожимая крепко руку Пархоменко, сказал:
– Вот так и воюем. Разведки нет, – отступающие солдаты да беженцы говорят, где немец. Связи нет. Штаб не то в Харькове, не то еще дальше…
– Нет его в Харькове, – сказал Пархоменко. – Харьков пуст.
– А нам как велено действовать?
– Я взял четыре вагона со снарядами да паровоз и приехал.
Ворошилов стукнул кулаком по орудию:
– А Украину все-таки будем отстаивать. Ты, Лавруша, принимаешь командование пехотой, я – у орудий.
– Слушаюсь, товарищ командир. Прикажете двигать вперед?
– Вперед!
Состав двинулся.
Перед ними понуро лежало коричневое поле. Пятна еще не стаявшего снега, покрытого желтоватой коркой, кое-где поблескивали в низинах. Солнце ушло в громадные весенние тучи. По непаханому полю удивленно скакали грачи. На горизонте грузно стояли мельницы, их крылья походили на тряпки. Ближе виден был пустой разъезд. Дымок дрожал за ним.
Ворошилов передал бинокль Пархоменко:
– Противник.
В черту деления попал зеленоватый ствол орудия с медленно приближающимся к биноклю дулом. От жерла и от дула, которое сначала казалось полумесяцем, затем кружком, очень трудно было оторваться.
– Совсем ошалели от гордости. В упор бить хотят.
– Учат нас, учат, – сказал со злостью Ворошилов, засовывая бинокль в футляр и спеша к орудию. – Давай командуй, Лавруша.
Красноармейцы, изредка стуча сапогом о сапог, чтобы сбросить липнущую сырую землю, быстро скользнули в поле и залегли. То, что они стряхивали землю с ног, указывало на их решимость и спокойствие, а то, что маневр был совершен быстро, говорило, что ряды их, несмотря на привезенное пополнение, очень редки и против врага долго не продержатся.
С бронепоезда послышался блестящий треск, лязг, которым всегда сопровождается первый выстрел, как будто орудия устраиваются поудобнее. Затем один за другим, с очень ровными и какими-то ловкими промежутками, начались выстрелы. И даже чувствовалось, что враг у разъезда вздрогнул, остановился, смотрит ошеломленно назад к мельницам, где находятся резервы и откуда идут серые цепи противника. Большие белые клубы муки выскакивали из мельниц, застилая собой их крылья.
– Вот вам и украинский хлеб, буржуйское брюхо! – сказал пожилой рабочий со впалыми щеками, лежавший рядом с Пархоменко. На поясе у него висели четыре подсумка, набитых патронами, да еще и пазуха топорщилась от припасенных патронов. Фамилия этого рабочего была Сочета, а профессия – формовщик. Он провел всю войну на фронте, был отпущен вчистую из-за ранений, агитировал бешено против войны, а когда позвала партия, оставил четверых детей, мать, жену и немедленно уехал с Ворошиловым. И сейчас, когда он увидал Пархоменко, он спросил не о своей семье, а о том, достаточно ли тот привез снарядов.
– Мука наша тучей уходит, – подхватил другой, в черной железнодорожной шинели и папахе, как видно, из депо.
– Это вам не шарлотки жрать! – крикнул кто-то визгливо, и хотя вряд ли многие здесь знали, что шарлотка – это сладкое блюдо из черных сухарей с яблоками, но всем это показалось почему-то чрезвычайно метким, и все засмеялись, и при каждом удачном выстреле, когда мука взметывалась, отрядники, хохоча, говорили: «Опять шарлотки нету».
– Ворошилов сам бьет, – с уважением сказал пожилой рабочий и вдруг, схватив за плечо Пархоменко, кинул его на землю. Что он крикнул при этом, нельзя было разобрать. Рядом засвистело, шаркнуло, чвакнуло. Под ложечкой засосало, и над головой пронеслось что-то душное и тарарахающее. Когда Пархоменко протер глаза, забитые мокрой землей, пожилой рабочий стоял на корточках, харкая кровью, а другой, в черной шинели, лежал неподвижно, с раздробленной осколками головой.
– Враг тоже умеет бить, – сказал пожилой рабочий.
Из вагонов, которые откатили назад, бежали с носилками санитары. Пархоменко схватил винтовку. Пожилой рабочий вытер рукавом пиджака алый и мокрый рот, внимательно взглянул в сверкающие и жаждущие боя глаза Пархоменко и сказал:
– Ты обожди команду давать. Пускай он поближе подойдет, нам далеко бежать трудно: спали плохо, да и почва сыра. А как он подойдет ближе, мы его и заставим глаза выпучить.
Он тревожно перевел глаза на ворошиловский бронепоезд. Вначале вражеские снаряды ложились с недолетом, возле телеграфных столбов, затем пошли перелеты, а сейчас видно было, что враги нащупали бронепоезд и готовятся по нему ударить. Непродолжительное время была пауза, словно враги набирали в грудь воздуху и сил. Команда бронепоезда чувствовала это – она выпускала снаряды один за другим с точностью изумительной. Цепи остановились, мельницы пылали, что-то загудело и завизжало во вражеском бронепоезде, по всей видимости взорвался вагон со снарядами, и одно мгновение казалось, что огромный бронепоезд поврежден. Но тут что-то словно разомкнулось возле нашего бронепоезда, острый клин ударил подле самых шпал, площадки приподняло – и мутное чернильное пятно закрыло орудие.
Пархоменко скорчило от ужаса. Снаряд ударил как раз в ту платформу, на которой стоял Ворошилов.
Пожилой рабочий сказал:
– Передай мне команду, а сам иди туда. Ребята думают, что Ворошилова убило.
Пархоменко побежал к бронепоезду. Назад Пархоменко не смотрел, но он чувствовал, что отряд пятится, слышал, что пожилой рабочий кого-то бранит чрезвычайно звонким голосом; какие слова он говорит, разобрать было нельзя.
Пархоменко поскользнулся возле самой насыпи и упал лицом в щебень. Только что он упал, совсем рядом пушисто вздрогнула земля, и в ногу ударило чем-то скользким и свистящим. Затем наступила большая тишина. Она тянулась долго, хотя Пархоменко успел только опереться на ладонь…
Знакомый голос, наполненный скорбью, послышался с насыпи:
– Убили? Лаврушу убили?
Пархоменко вскочил.
В серой воронке от снаряда, словно выложенной паклей, стоял Ворошилов. Лицо у него было наскоро перевязано, сквозь вату и бинт сочилась кровь. Всплеснув руками, он крикнул радостно:
– Ну и учат! Моя рожа хороша, да и твоя, Лавруша, не лучше. Видишь?
Он указал пальцем назад. Вагон со снарядами был взорван, он встал на дыбы поперек пути.
Ворошилов спрыгнул с насыпи. Подняв револьвер, он бежал по полю, легко перепрыгивая через лужицы. Пархоменко и вся уцелевшая команда бронепоезда бежали за ним, крича то же самое, что и он. Отряд, начавший было пятиться с холма, остановился. Те, кто стоял ближе, узнали Ворошилова. Штыки повернулись в сторону противника. Отчетливо и повелительно слышалось вдоль цепи:
– В атаку!.. За Советскую Украину!..
– А-а-а-а… Ура-а-у-у-а-а! – ответила цепь, и тут Пархоменко понял, что это-то и был тот крик и тот ответ, которого он ждал и ради которого ехал. Он чувствовал, как отвердели его ладони и как ловко лежит в них винтовка, как искусно и дельно действуют ноги и как отчетливо видят глаза. Они видят приближающихся сутулых врагов, идущих как-то странно, вприпрыжку, так, что у них мотаются головы. Весь он натянулся, напружинился, и то же самое чувствует вся цепь, которая кричит и думает вместе с ним, и каждый в отдельности. «Только бы ты не повернул, только бы нам скрестить штыки. Мы тебе покажем!»
«К оружию!» – вот клич, который раздался по городам и селам Украины. «К оружию, революционные рабочие, солдаты и крестьяне! Организованные шайки германских империалистов, ставящие себе задачей наживу и грабеж, устремились на Украину!»
Украинские рабочие и крестьяне понимали, что с этими разбойниками и налетчиками может быть только беспощадная расправа, истребление их вместе и в отдельности! Страна уже начала было заниматься своими внутренними делами, налаживала свое хозяйство, разоренное войной, – и в этот час немецкие налетчики, организовав множество разноцветных русских и украинских банд из бывших помещиков и купцов, начали занимать города, села и деревни. В таком наглом и неприкрытом виде грабеж уже давно не производился.
– Что это такое происходит? Что немцы делают? – спрашивал Пархоменко. – Они нашу кровь льют, как воду!
– Борьба, – отвечал Ворошилов, – борьба между двумя мирами: пролетарским и буржуазным. Когда буржуа видит, что опасность грозит самой основе его существования, он оставляет в стороне все разговоры о справедливости, культуре и свободе. Эти слова говорятся ими только для того, чтобы покрепче держать в кабале народ, чтобы основательней его обманывать, убедить его, что капиталистические цепи на нем бренчат во имя высших общечеловеческих задач! Ничего, рабочие скоро поймут все!..
Глава двадцатаяШтрауб приехал в Конотоп, в расположение 27-го германского корпуса, ранним утром. Крупная нарядная роса лежала на молодой траве и узких листьях. Поеживаясь и от весеннего холодка, и от еще не исчезнувшей совсем лихорадки, Эрнст долго, пока не высохла роса, ходил по деревянному перрону вокзала.
Но в штабе корпуса, оказалось, работа не утихала всю ночь, а корпусный генерал, с которым непременно нужно было встретиться Эрнсту, уехал в штаб дивизии, в село – километрах в пятнадцати – двадцати.
– Его превосходительство ездит на позиции ежедневно, – сказал розовый адъютант, блестя выбритым, словно эмалевым, подбородком и явно наслаждаясь своим, как ему казалось, строптивым видом и голосом. – Кроме того, господин Штрауб, вы должны были явиться сюда три дня назад.
– Я мучился малярией.
– Генерал на позиции, – повторил адъютант. – Если угодно, я напишу вам пропуск.
– У меня есть пропуск, – сказал Штрауб и вышел.
На вязкой, пахнущей сеном и грязью площади перед зданием штаба стояло несколько извозчиков. Штрауб выбрал парного, сел и приказал ехать в село, где находился штаб дивизии. Низенький извозчик с длинным носом, утиным и желтым, и с громадными желтыми бровями, пересекавшими, словно канава, всю площадь его лба, попробовал, щелкая, крепость бича и взлез на козлы.
Они миновали закрытые лавки, переезд через линии железной дороги, какое-то пожарище, от которого почему-то сильно пахло карболкой, и выехали в поле.
– Из чиновников будете? – спросил, не оборачиваясь, возница.
Штрауб, глядя в его тощую, покрытую выцветшими заплатами спину, нехотя сказал:
– Чиновник.
– То-то смотрю, что чиновник. Плохо вам нынче будет. И чиновники, сказывают, будут у немцев свои. А сами виноваты!
Штраубу, несмотря на легкий озноб и неудовольствие по поводу отсутствия корпусного, все же было приятно, что из-за отменного выговора его принимают за русского. Забавляясь этим, он спросил:
– А чем же мы виноваты?
– Виноваты, виноваты. Была земля русская как русская. Очень хорошо. Теперь вы, украинцы, говорите: отдайте нам землю, мы, украинцы, сами будем управлять. Ладно. Берите. Взяли. И тут же отдали немцам. Спасибо, порадовали. А все оттого, что чиновники сидели, не говоря уже о барах, и к простому народу не прислушивались.
– Выходит, простой народ не отдал бы землю немцам?
– Полено есть – поленом бей. Берданка имеется – гвоздями заряжай берданку. Угаром удушить можешь – души. А вот, сказывают, на позициях огнеметы такие были…
Он подобрал вожжи, перекинул ногу к седоку. Лицо у него горело злобой. Толстая стеганая фуражка, из днища которой лезла маслянистая пакля, была сдвинута назад, показывая потную красную черту там, где кончался лоб. И эти две черты – желтая, прикрывающая узенькие глаза, и красная – особенно неприятны были Эрнсту. Неприятны были и широкие, с клочками зелени, поля, и мягкая дорога, по которой почти неслышно бежали дрожки. «А что, если он меня к повстанцам увозит?» – вдруг подумал Эрнст, и хотя мысль эта казалась ему вздорной, все же он весь передернулся, хотел было лезть за портсигаром, но вспомнил, что тот серебряный, и сидел, держа руки так, чтобы в случае, если мужик кинется, можно было схватить его за горло.
– Огнеметы, – хрипел мужик, – огонь адский мечут, и прямо керосином горящим, а? Я полагаю, что хорошо бы буржуям зад керосином – да и поджечь. Пускай бегут с огнем. Во-о!..
Он захохотал, повернулся, ударил коней сначала вожжами, а затем бичом.
Эрнст сказал сдержанно:
– Весьма странное отношение к немцам.
– А? – спросил, не поняв, возница. – Чего?
– Плохо, говорю, думаешь о немцах.
– Плохо? А чего мне о них хорошо думать? Грабители и есть грабители. Гляди-ка!
Он указал вперед на дорогу. Шоссе пересекал проселок. Трое немецких солдат, жуя хлеб, гнали большое стадо свиней. Лица у них были довольные, они помахивали хворостинами и с таким рвением не давали свинье оторваться от стада, словно она решала войну.
– Вот пригонят на станцию, погрузят, увезут. Все так. И ты понадобишься – и тебя погрузят, увезут. А то еще посылки шлют шлюхам своим. Я бы послал им тоже посылку.
– Какую?
– А голов бы десять офицерских да буржуйских засолил в ящик, да к ихним командирам, в Берлин: ешьте, сволочи!
Эрнст даже тряхнул головой, удивленный этой злобой. А мужик с желтым утиным носом, двигая острыми лопатками и шевеля вожжами, продолжал:
– А как же иначе? Вот везу я тебя на паре. Паре-то цена всего пятьдесят целковых вместе с дрожками. А копил я деньги на эту пару десять почти лет. Теперь, дай бог, если до вечера она будет при мне.
Показались село, зеленовато-стальной пруд, белая церковь в саду густого черепахового цвета. Тонко, почти неуловимо, благовестили в церкви. Мужик снял фуражку, перекрестился. Тогда Эрнст достал портсигар. Поднялись на холм. За селом, влево, видны были мельницы, а за ними, черные с белой каймой по подолу, овраги. Эрнсту подумалось, что пора бы выпить водки, закусить, и он про себя улыбнулся, сказав: «Час, похоже, адмиральский». Он протянул портсигар вознице и тотчас подумал: «Ах, напрасно». И точно – это было напрасно. Возница взял сигару, подул на нее, понюхал и сказал:
– А табак-то наш!
– Да нет, табак голландский.
– Ну, я – то знаю свой табак. Наш.
По склону он подкатил к длинному кирпичному зданию школы, стоявшей на берегу пруда. Несколько стекольщиков с ящиками, туго набитыми голубоватым стеклом, суетились с замазкой, царапали алмазом. Солдаты вели куда-то телефонные провода. Опрятные автомобили стояли на лужайке. В сарае гукала передвижная электростанция. Даже пруд казался чистым. Возница с неудовольствием осмотрел все это и, сплюнув, спросил:
– Здесь обождать, что ли?
– Здесь.
Корпусный генерал, по общему мнению очень дальновидный и умный, беседовал с офицерами дивизии в учительской. Сквозь тонкие белые двери доносился чей-то пронзительный, чрезмерно чеканящий слова голос, а в коридоре приятно пахло краской и мелом, полы были наскоблены, вымыты и посыпаны маленькими сосновыми веточками, – от них шел отличный запах. Адъютант, пожилой, с двумя подбородками, выразил полное удовольствие видеть почтенного господина Штрауба и мерным шагом, широко расставляя толстые ноги, отправился доложить корпусному. Вернулся он быстро. Корпусный самое большее через полчаса примет его. А пока можно курить. Не угодно ли сигару? А, голландские? Голландцы – большие искусники. Адъютант любил в молодости путешествовать по Голландии и Дании, а под старость попал вот сюда, в восточные пустыни. Как доехал сюда господин Штрауб? Дороги здесь отвратительны. Его счастье, что мало дождей. Забавный возница?
Адъютант выслушал рассказ о яростном вознице. Молодой офицер с чрезвычайно короткими усиками, похожими на запятые, принес голубой пакет. Адъютант сказал ему что-то на ухо. Офицер кивнул головой и ушел. Легонько потрагивая усики цвета какао, адъютант внимательно изучал полученную бумагу и вдруг спросил:
– Извините, господин Штрауб, вы, кажется, сейчас из Харькова?
– Нет. Я был болен малярией и не смог попасть в Харьков.
– Извините.
Эрнст сидел на табурете, от которого тоже сильно пахло краской, смотрел в пол и думал. Озноб исчез. Значит, уже далеко за полдень. Сильно хотелось есть. Мимо прошел австрийский офицер, громко жуя. Он взглянул усталыми глазами на Эрнста, на его штатский костюм и подумал, наверное, о доме, семье. Эрнст вспомнил Ковно, дочь коменданта и свою первую любовь. Вспомнил он и свою поездку в Ковно сейчас же после разгрома крепости, которую разрушили в три дня по выкраденным им планам. Дом коменданта сгорел, сад вытоптали и сожгли, и никто в городе не смог сказать, куда уехал комендант, к тому же выяснилось, что тот комендант, отец его любви, покинул Ковно как раз перед войной, а куда уехал неизвестно… «Но скажите хотя бы, вышла ли она замуж?» – допытывался Эрнст у владелицы номеров, которая помнила коменданта, так как покупала в крепостном огороде овощи. «Не знаю», – ответила владелица. И Эрнсту было и тогда и сейчас приятно думать, что «она» еще, быть может, не вышла замуж, храня о нем память.
– Пожалуйте, – сказал адъютант.
Корпусный генерал, жилистый, длинный, с круглым черепом, похожим на чашу, завтракал. Учительская была уже пуста. Одно окно ее раскрыли, чтобы проветрить. Генерал, далеко высовывая широкий, как у коровы, язык, быстро ел парового цыпленка. Генерал мотнул локтем. Адъютант закрыл окно и вышел. Генерал молча, не приглашая Эрнста сесть, доел цыпленка, вытер рот шитым украинским полотенцем и, задумчиво разглядывая черно-красный узор на нем, спросил:
– Вы из Харькова, господин Штрауб?
– Нет, ваше превосходительство. Я был болен и не мог попасть…
– Чем вы были больны?
– Малярией.
– Вы болели малярией и не попали в Харьков?
– Так точно, ваше превосходительство.
– А те меры, которые по вашему предложению командование признало нужными?
– Мои агенты отправили оружие и в Луганск, и в…
– Отправить – одно. Использовать – другое. Как ваши агенты использовали немецкое оружие? Вы не знаете? А я знаю. Оно попало в руки большевиков!
Штрауб поднял глаза на генерала:
– Я освобожден от занимаемой должности, ваше превосходительство?
– Нет. Но в Харьков поедет другой наш представитель. – Корпусный взял карандаш и, зачеркивая строки доклада Штрауба, которых он касался в разговоре, сказал: – В вашем докладе есть знание обычаев украинцев и русских. Вы знаете и местности. Но у вас нет широты! Вы мало ищете людей, на которых, при колонизации этой страны, мы должны опираться… хотя бы первое время. Страна богатая, и в дальнейшем ее, конечно, заполнят немцы, но пока… Вы должны действовать более широко: организовывать пронемецкие партии, словом… А вы пишете в вашем докладе: в Путивле тридцать пять красногвардейцев с двумя орудиями бились против двух немецких полков! Херсон защищался несколько дней!.. Ха-ха! Одно мое слово – и в полчаса мои орудия сметут и Херсон и Путивль! Вы что хотите сказать?
– Мой доклад упирается в то, ваше превосходительство, что чем серьезней война, тем больше должно быть у меня подчиненных, а стало быть, и средств. Путивль и Херсон – доказательство некоторойтвердости духа русских и украинцев, а твердость надо учитывать…
– Я слушаю вас, господин Штрауб.
– Мне это очень приятно, ваше превосходительство. Ваши знания и авторитет чрезвычайно ценит высшее командование. Чрезвычайно! И если вы окажете любезность поддержать мои предложения, то, несомненно, высшее командование усилит ассигновки, расширит сеть агентов и, главное, бросит их в коммунистическую партию. Пример с Путивлем и Херсоном я привожу как знак огромных потенциальных сил народа, и стоит Ленину…
Корпусный взял тарелку с косточками цыпленка и сумрачно взглянул в середину ее. Эрнсту этот взгляд показался дурным предзнаменованием. Он прервал свою речь, сказав:
– Впрочем, все это написано в моем докладе.
– Да, я читал ваш доклад. Вы утверждаете, что Рим, Греция, даже Наполеон побеждали благодаря сети шпионов и диверсантов и что стратегия современной войны требует усиления этой сети, из нитяной превращая ее в проволочную, так сказать?
– Да.
Генерал со стуком поставил тарелку на стол и сказал:
– А не умаляете ли вы значение и силу германской армии?
Где-то справа послышались взрывы, упало что-то грузное. Эрнст уже привык определять расстояние. Чуть покусывая верхнюю губу, он мысленно вымерял его. Да, приблизительно километра три отсюда, не больше. Если это направо, то, значит… Он восстановил в памяти пейзаж, видный с пригорка. Пруд, церковь, ветлы, дома, выгон, поле, мельницы, опять бесконечное черное поле. Значит, русские бьют в мельницы. Он посмотрел на генерала. Тот тоже, видимо, высчитывал расстояние.
Мимо окна на рослых лошадях, не сгибаясь, проскакали всадники. Где-то загудел броневик. Вошел адъютант, подал три пакета, но было ясно, что приходил он не с пакетами, а с успокоением, и Эрнсту было приятно узнать это. Генерал разорвал пакеты, прочитал, подумал и подошел к окну. Сквозь новые светлые стекла, почти не дрожавшие от выстрелов, виден был пруд, в котором покачивались низкие тучи и ветлы, светлые, с тонкими ветвями. Корпусный слегка потер правое плечо, словно оно мозжило. По ту сторону пруда шагало ровно и строго множество солдат, и через промежутки слышалась команда.
Корпусный вернулся к столу и опять вытер губы полотенцем. Эрнст почувствовал, что его губы тоже сухи. Корпусный взял пакет, вынул оттуда бумагу и, глядя поверх нее на Эрнста, сказал:
– Гусеница притворяется листом, чтобы ее не склевали. Но буре, которая ломает дерево и рвет листья, зачем притворяться тишиной? Вот почему мы считаем, что вы развиваете крайние теории, господин Штрауб.
– Следовательно, высшее командование считает…
– Высшее командование считает вас попрежнему опытным и умелым, господин Штрауб. Вашу сеть на Украине оно очень ценит и потому-то полагает, что ваше пребывание на Дону необходимо командованию. Дон – это мост между Германией и Турцией.
– Я перехожу на этот мост?
– Надеюсь, он будет вашим мостом славы, – любезно заключил корпусный. – Но помните: надо действовать шире, шире!..
Когда Эрнст вышел на крыльцо, солнце чуть отклонилось от зенита. До вечера было еще далеко, а на козлах вместо утконосого возницы уже сидел германский солдат.
– А где мой возница? – спросил Штрауб.
– Его убрали, – делая многозначительный жест рукой, ответил адъютант.
«Это хорошо, что убирают болтунов, и вообще чем больше убить чужих людей, тем лучше: тем свободнее на земле. Но все-таки генерал преувеличивает силу армии и преуменьшает силу «комнатной войны», которую я веду, – подумал Штрауб, садясь в экипаж. – Германские власти – тупы и ограниченны. У них ничего не выйдет! Пора бы искать более деятельных хозяев…»
И, глядя в широкую спину возницы-солдата, он спросил сам себя: «Где искать?.. Что надо искать – это ясно. Но – где?..»







