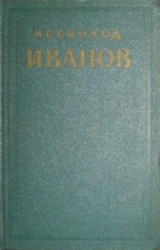
Текст книги "Избранные произведения. Том 2"
Автор книги: Всеволод Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 42 страниц)
Вышел Эрнст вместе с Овцевым. Подняв ладонь, Овцев пробовал жару. Затем он вынул газовый шарфик и вправил его под фуражку, чтобы защитить затылок от солнца. В тени каменных домов генерал непременно останавливался, чтобы подышать прохладой, так как считал, что каменный дом имеет тень более густую, чем деревянный.
– Ваш зять Быков очень любит Веру Николаевну?
– Безумно, – дыша с хрипотой, ответил Овцев.
– А вы меня помните, Николай Григорьевич?
– Нет.
– Ковно. Офицерское собрание, казачий офицер из Сибири.
– Васька? Очень рад! Очень рад! – воскликнул без малейшей радости Овцев, и Эрнст не мог понять, почему тот его называет Васькой, словно кота сибирского. Но глаза Овцева быстро увлажнились, когда он прокричал: – Ох, какие были у меня сливы! Вы помните сливы, сразу же за окном начинались? А пришлось бросить, перевестись.
«Эх, шляпа ты был, шляпа и остался, – подумал Эрнст. – Ему не жалко украденных планов, а жалко слив».
– Так, значит, ко мне? – предложил Овцев.
– С удовольствием, – ответил Эрнст.
– Спаситель, сколько произошло! – И Овцев толкнул Эрнста в бок, словно не веря, что тот цел, потому что тут же воскликнул: – Но позвольте? Ведь говорили, да и в газетах было даже тиснуто, что вы в Немане потонули. А тут возьми да и вынырни на Волге… – Он рассмеялся, очень довольный своей шуткой. – То казак, то эмиссар… «то мореплаватель, то плотник…» – Он вздохнул. – А какой здесь был отличный белый хлеб. Верите ли, в булку ткнешь пальцем, а она взвизгнет, как пятнадцатилетняя девушка, и сожмется, ах! Но, к сожалению, Сталин все прекратил, посадил весь город на черный, и кишки у нас вместо бледнолицых стали неграми. – Он рассмеялся. – Но мы добываем. Через штаб. И каким нас сегодня борщом Верочка угостит, голубчик вы мой! – И он ткнул пальцем себя в губы. – Вкушаете?
– Слегка, – ответил Эрнст. – И вишневку достаете через штаб?
– Тоже.
Вера, увидав Эрнста, тихо охнула и даже качнулась к нему, как бы желая поцеловать его. Она узнала его сразу, несмотря на то, что он был в штатском, сильно загорел и переменил прическу. Она пополнела, особенно сильно в плечах, и, оглядывая ее, Эрнст подумал: «А как великолепно вздремнуть около такой груди после обеда». Да и она явно любовалась его обтянутым, пригнанным лицом, где все разложено, как следует, и все в меру. Так шорник – даже если и не сам сработал – любуется хомутом и сбруей на коне: нигде не жмет, не тянет, и краски и кожи отпущено как раз, а куда идет конь и что он волочит, не все ли равно…
Домик, в котором жили Овцевы, стоял на берегу Царицы. По склону спускались яблони, крохотную беседку обвивал хмель. Но и яблони, и хмель, и беседка – все это имело жалкий и чрезвычайно поношенный вид, и не удивительно, что, вернувшись домой, Овцев перестал зевать и оживился, увидав свежие огурчики и борщ. После обеда, как все русские генералы, он решил вздремнуть, разостлал коврик в какой-то ямке и, громко вздыхая, лег на него и немедленно заснул.
– Вы удивились, что я жив, что я такой? – тихо спросил Эрнст.
– Какой? – спросила она низким грудным голосом, искоса оглядывая его лицо.
Он мужским чутьем понял, что если говорить о самом важном и нужном, то надо говорить сейчас же. Он, только проверяя себя, повторил:
– Такой.
– Какой? – переспросила она все тем же голосом, и он сказал:
– Мое настоящее имя – Штрауб. Я приехал в Ковно со специальными поручениями, полюбил вас, но вынужден был уехать! Теперь я вернулся к вам. Моя любовь мучила меня…
Он схватил ее руки и сильно сжал их. Глаза ее широко глядели на него. По всей видимости, она осталась той же Верой, горячей, решительной, и Эрнст почувствовал беспокойство. Он говорил ей слова любви, и он верил себе, но одновременно он думал, что если увести ее сейчас к себе в гостиницу, то обратно она уже не вернется, а ведь ее муж и отец необходимы ему и всей его дальнейшей высокой карьере, у порога которой, несомненно, он сейчас находится.
Он поцеловал ее руки, отшатнулся и сказал:
– Нам необходимо бежать в Америку!
– Почему в Америку? – тихо спросила Вера.
– Только там тишина и спокойствие, только там любовь.
– Можно и здесь добиться спокойствия, если желаешь, – возразила она.
– Здесь спокойствие, Вера Николаевна?
Через два часа, счастливый и довольный своей сдержанностью и тем, что угадал и целесообразно направил характер Веры, он шел по кислому и тесному коридору «Московских номеров». Навстречу ему шагал высокий мужчина с бритой головой и черными усами. На нем щеголевато сидели зеленая гимнастерка и черные галифе. Эрнст посторонился.
Высокий мужчина вдруг остановился.
Эрнст остановился тоже.
– А, господин студент Штрауб, – сказал высокий.
– Вы мне? – спросил Штрауб, чувствуя, что внутри повисла какая-то мешкообразная холодноватая слизь. – Вы мне, гражданин?
– Вам.
– Так я не Штрауб, а Свечкин, Григорий Моисеич, из Славяносербска.
– И в Берлине не учились?
– А чего мне в Берлине учиться, господин хороший? Учился я в двухклассном, в Славяносербске. С меня и этого хватит…
– И в Макаровом Яру не бывали?
– Где это такой?
– А чего ж побледнели, раз не бывали? – сказал Пархоменко.
– Да, может, вам документы показать?
Эрнст торопливо полез в карман. Пархоменко стоял против него, упираясь слегка рукой в стену, и глядел, как черноволосый роется в карманах, доставая какие-то истрепанные записные книжки и показывая их… В книжках записаны размер и количество леса, – он, видите ли, специалист по лесному делу, приказчик… Показал он и маленькие носовые платки, которые везет ребятам в подарок, и письма к какой-то бабушке в Чернигов, которые никак не удается отправить, потому что, видите ли, нет сообщения…
– Родственников, значит, много?
– Да, есть родственники.
– И в Луганске водятся?
– Двоюродный брат есть в Луганске.
– Как фамилия?
– Сысоев.
– Ну ладно, – сказал Пархоменко. – Извиняюсь. Точка.
Эрнст повернулся и пошел.
– А почему вы обратно в номер идете? – спросил его Пархоменко. – Ведь вы мне навстречу шли. Или боитесь, что я к вам в номер загляну?
Эрнст взмахнул руками:
– Да, пожалуйста, заглядывайте. Что мне от вас скрывать! Иду, потому что надо денег взять побольше, может быть ребятам какой еще подарочек куплю. Трое их у меня…
– А говорил только что – двое?
– Трое! Ослышались, гражданин комиссар.
– Три – это бабушки, а детей двое, – сказал, смеясь, Пархоменко, идя следом за Штраубом. – Один двоюродный брат в Луганске, а двое в Славяносербске, а жена в Камышине…
– В Камышине и есть, – подхватил, останавливаясь в дверях, Штрауб. – В тринадцатом годе женился, тамошнего протоиерея дочь. Оладьи печет – о-ох!.. – Он зажмурил глаза и откинул назад голову. – Да кабы да к этим оладьям, господин хороший, да еще и сорокаградусной, так я считаю, что лучше жизни и быть не может… – Он внезапно понизил голос: – А если нам самогону дернуть для знакомства? Зачем вам тратить зря на меня время? Наши ребята, лесовые, подарили мне бутылочку первачу… не скажу, чтобы запах хорош, но в сердце отдает – ух! – Он легонько дотронулся до локтя Пархоменко и сказал: – Тут я вам и все про родственников расскажу…
– Времени нет.
Пархоменко обернулся и крикнул:
– Вася!
Выскочил из соседнего номера Вася Гайворон.
– Своди-ка этого черного лебедя для начала в милицию…
В милиции подтвердилось – да и свидетели нашлись, – что перед лицом властей стоит действительно приказчик лесного склада № 8 Григорий Моисеич Свечкин из Славяносербска. Допрашивали коротко, небрежно, уж очень много спекулянтов попадало в руки.
Прямо из милиции Штрауб отправился на вокзал и сел в поезд, направляющийся в Сарепту, а водолив баржи «Мария 17» на другой день принес записку Вере Николаевне об отъезде Штрауба.
– Удочкой много не поймаешь, – сказал Пархоменко, узнав, что Г. М. Свечкин не вернулся в свой номер. – Сетью их надо ловить. Упустили! Не-ет, надо на кадета крепкие сети!
– А похоже, что сети-то развертывают, – сказал Вася Гайворон. – Без сетей, Александр Яковлевич, нельзя.
Глава четырнадцатаяВошел Сталин. Кипы газет возвышались на площадке вагона, загромождали узкий проход, лезли на столы. Газеты выгрузил сегодня ранним утром московский поезд. Памятны были лица кондукторов, истомленные, фисташково-серые от голода, команды рабочих в одежде, как бы сшитой на вырост, их суровые ищущие взгляды, выдававшие неукротимое стремление – доставить в Москву поезд любого тоннажа, только бы был в нем хлеб, хлеб, хлеб… Кипы глухо падали на землю у вагонов. Это были «Правда», «Известия», «Деревенская беднота», плакаты, стихи, даже ноты, все то, что как-либо могло передать дыхание и силу революции, ее напряженность, упорство – все то, чем жил и владел великий город.
Сталин осторожно, стараясь не задеть газет пыльными сапогами, боком пробрался в умывальную. Теплая бурая вода полилась из крана, смывая заводскую копоть, следы нефти и крошечные кусочки угля. В двери показалось лицо проводника. Он протягивал из-за газет тоненький кусочек мыла, Сталин несколько удивленно приподнял брови, похожие на распахнутые крылья птицы, и заложил за уши черные пряди волос. Проводник сипло сказал:
– Такой у нас посетитель – пищи не берет, а мыла не напасешься. И моется, и моется, будто с рожденья не умывался.
Сталин, слегка покачиваясь, как корабль на полном ходу, крепко вытер полотенцем руки, подобранное, исхудавшее лицо.
– Читает? – спросил он, указывая глазами на Пархоменко.
– Этот? Этот посетитель с утра читает, – ответил проводник. – Я ему и мыла посулил – не встает.
Пархоменко сидел к Сталину спиной. Видны были загорелый и широкий затылок, мощная шея с туго натянутыми мускулами, часть щеки, тщательно выбритой, и кончик черного уса, прикасавшийся к полотняной рубашке. Подле локтя его лежали ломоть черного хлеба, соль на бумажке, коротенькие перья молодого, почти синего лука. На стене, против него, висела карта, страшная карта 1918 года!
Сталин, изредка поглядывая в телеграммы, вынутые из кармана френча, передвинул назад нанизанные на булавочку красные лепестки бумаги, уже слегка выцветшей, потому что на карту обильно падало солнце.
– Весь наш фронт теперь свыше шести тысяч километров, – спокойно сказал Сталин, этим беспощадным спокойствием своим как бы испытывая мужество Пархоменко. – Моря отняты. У нас почти нет соленой воды. – Он указал рукой на Петроград. – Здесь? Здесь тоже нет соленой воды. Здесь блокада.
Странная рука истории, чертя границы фронтов, создала профиль изможденной женской головы. Линия лица была повернута к Украине, узел волос – к Сибири. Надбровная дуга начиналась у Петрограда, лицо лежало вдоль немецкой границы на Украине, подбородок упирался в Воронеж. От Саратова до Астрахани – горло этой головы, и так как Волга на карте была изображена широкой синей чертой, то это создавало полное впечатление жилы, снабжающей гортань кровью, силой, дыханьем жизни. Царицын стоял как раз возле кадыка, так что казалось: ткни кадет ножом – и смерть!
Сталин вел рукой по карте. Дойдя до Царицына, он отпустил руку и, беря трубку, чуть щурясь, спросил:
– Страшно?
– Даже пескарей ловить, и то возле омута ходить, – сказал Пархоменко. – Не дети – знаем, за что брались.
Он сидел на табурете, твердо расставив ноги и положив ладони на прочитанные газеты.
– Ваши дети где?
– Отправил в Самару.
– В Самаре чехословаки, – строго сказал Сталин, дабы Пархоменко и не сомневался, будто от него что-то желают скрыть. Вообще эта резкая манера подчеркивать правду вначале несколько ошеломляла, а затем вдохновляла, вселяя бодрость. Этот человек видел мир всегда – и в колосе, как его часто видят многие, и цельным – в снопах. Он ничего не боится и не только сам не боится, но и, сверх того, другим не дает возможностей скрыться в тщетной игре воображения, в какой-либо неосуществимой надежде, а умеет находить и в воображении, и в надежде других нечто более близкое и реальное, что рождает и бесстрашие и победу. Были походы, сражения, разлука, – все это, быть может, надолго, он и сам был одет по-походному: куртка, брюки, вправленные в сапоги, а так как папиросы в этой сутолоке и в хлопотах можно и измять, и потерять, – то трубка. Так он может идти, спать, говорить, наблюдать за боем, выхватить винтовку, побежать в атаку, выбить врага; так и поступало и жило множество рабочих людей, привыкших к тяжелой и изнурительной работе, к тяжелому куску хлеба, к правде жизни, очень суровой и очень увлекательной. Эта твердость и смелое признание горькой правды понравились Пархоменко. Пархоменко ощутил всю тяжесть времени, и это ощущение перешло в гордость, в сознание того, что он, простой человек, участник великих событий, руководимых большевистской партией, Лениным, Сталиным.
Сталин говорил тихо, не спеша, зная, что жизнь не глина, а камень и что в жизни этой много преград к осуществлению твоих замыслов и что все твои поступки надо хорошенько обдумать. Утром, как только появился Пархоменко, приготовивший было целый доклад, Сталин сказал:
– Садитесь. Читайте, пожалуйста. Вам, – и он придвинул ему еду, – вот этот ломоть хлеба, лук и соль. – И он ушел исполнять обычную свою работу. Этим он как бы говорил Пархоменко, что тот должен понять самое главное, а понять это самое главное можно, только ознакомившись с жизнью всего мира, всей нашей страны, с мыслями об этом нашего учителя Ленина. Пока Пархоменко читал, Сталин приходил в вагон несколько раз. Он расспрашивал товарищей, спорил, убеждал и все-таки успевал следить за чтением Пархоменко. Время от времени он клал перед ним особо важные номера газет или статьи. И все это не спеша, просто, точно и ловко. Он и весь длинный и синий вагон, в котором Сталин приехал из Москвы, казалось, тщательнейше хранили в себе простоту, ловкость и смелость, сгущенную в этом городе. У входа висели солдатские шинели, рядом стояла пишущая машинка, на столах всюду чернильницы из синего стекла, с воронкой: опрокинешь – не прольется, деревянные ручки и множество брошюр и журналов, внутреннее действие которых приравнивалось к снарядам. Когда человек покидал вагон, ему выдавали пачку брошюр. Все соседние вагоны поезда были оклеены плакатами, только один, этот синий, возле которого всегда ходил рабочий во френче с ружьем за плечами, не был оклеен, а люди, к нему подходившие, сразу приобретали то напряженное выражение лиц, которое свойственно плакату, а выходили с лицами, которых никогда не выразит плакат и которые передает только великий художник.
Когда солнце светило уже с запада, синий вагон попадал в тень пакгауза. Пакгауз весь день стоял с широко распахнутыми дверьми как в сторону путей, так и в сторону шоссе. По шоссе к нему волы влекли фуры, кони – телеги, подскакивали грузовики, испуская густые клубы черного вонючего дыма, так что волы и кони долго мотали головой. Грузчики перетаскивали в пакгауз пшеницу, рыбу, хлопок, соль и никак не могли наполнить его, потому что немедленно мешки и тюки перекидывались на платформы и в вагоны. Иногда охрана, поставив винтовки в козлы, таскала мешки вместе с грузчиками, а иногда, чтобы поскорее освободить путь, приходили красноармейцы и служащие. Тогда Сталин подходил к окну, и видно было, что ему самому хотелось схватить тяжелый, вкусно пахнущий мешок, легко взбросить его на плечо и внести его в товарный вагон, пока еще прохладный, но вместе с мешками наполнявшийся светом и теплом. Но появлялись ждущие ответа люди, и через одно мгновение Сталин отходил к ним от окна.
А как трудно нагрузить эти пакгаузы! Вместе со статьями в газетах Сталин показывал Пархоменко сводки районных уполномоченных. В одном поселке коммуниста, сбиравшего зерно, кулаки повесили на крыльях мельницы; в другом – связав, воткнули рабочего головой в закром с мукой и держали так, пока рабочий не задохся.
– Питерский рабочий, – сказал Сталин, – по фамилии Гущин. И тоже семья, трое детей.
Изредка раздавался гудок паровоза. Вагон обдавало паром. Крытые рыжие и некрытые платформы, с которых на линию падали тени рабочих, державших винтовки, выстраивались возле пакгауза. Рабочий, дежуривший у синего вагона, узнав знакомых, махал фуражкой, слегка приподняв винтовку, а затем опять начинал кружить, и хруст его шагов смешивался с шорохом отбрасываемых его ногой блестящих кусочков угля и шлака. Глухо звякали, словно утопая в жаре, буфера, и вдруг – надо полагать, идучи на обед, – запели грузчики что-то веселое.
– Поют, – сказал Пархоменко, не отрываясь от чтения.
Сталину тоже, видимо, было приятно слушать пение, и он сказал:
– Сейчас они чаще ругаются, чем поют. Но будет время, скажем: «Теперь они чаще поют, чем ругаются». – И он добавил, указывая карандашом на карту: – Капиталисты чертят границы. Думают, карандаш вечен, не сотрется. А сотрется!
Глава пятнадцатая– Все прочли?
– Все, товарищ народный комиссар.
– А это внимательно прочли?
И он указал на письмо Ленина к питерским рабочим о голоде. Палец упирался в узкий газетный столбец.
– «Катастрофа перед нами, – читал он вполголоса, словно опасаясь, что Пархоменко побоится это прочесть, – она придвинулась совсем, совсем близко. За непомерно тяжелым маем идут еще более тяжелые июнь, июль и август». Так пишет наш учитель Ленин.
И от этих слов как-то особенно ярко выделилось и встало перед Пархоменко все то важное и значительное, о чем говорили газеты, сводки, приказы: и решение партии учить поголовно всех коммунистов военному делу; и решение немедленно обезоружить деревенскую и городскую буржуазию и вооружить бедноту; и то, что Москва и Питер на военном положении; и что рабочие там получают в день одну шестнадцатую фунта хлеба, да и то со жмыхами; и что поезда наполнены спекулянтами; и что враги лезут в Красную Армию, а когда партия требует тщательного отбора специалистов, то Троцкий стоит перед ними на коленях.
Сталин отломил крошечный кусочек хлеба и положил его на газету.
– Вот это одна шестнадцатая, – сказал он. – А здесь еще нет жмыхов. А это прочитал?
Он показывает еще поволжскую газету. Там в статье «Долой обувь!» с подзаголовком «Открытое письмо к молодежи» редакция писала: «Некоторые говорят, что без привычки трудно ходить босиком, особенно в городе по камням. Это верно, но ведь привыкнуть к этому нетрудно и недолго, достаточно два-три дня походить босиком, и уже на третий, на четвертый не захочется надевать обувь».
– А это?
В другой газете предлагается «в целях наиболее успешной заготовки лаптей для нужд Красной Армии освободить от мобилизации кустарей-лапотников».
– Все читал, – ответил Пархоменко.
– Я скажу, чтобы вам всех газет отобрали сколько надо, – сказал Сталин. – По сотне экземпляров провезете?
– Провезу, – ответил Пархоменко.
– И царицынские газеты?
– Слушаюсь, – сказал Пархоменко.
Сталин пристально взглянул на него и указал на сердце:
– Здесь все в порядке?
Он сел верхом на стул. Пархоменко сел напротив.
– Хватит ли у вас смелости раздать украинским бойцам «Правду»? Бойцы думают сапоги получить, а им газеты предлагают и лапти.
– Мы идем босиком.
– Из центра спрашивают: что за украинцы? Первого мая украинские банды Петренко начали банки грабить в Царицыне.
Он показал телеграмму.
– Из центра приказывают разоружать все отряды с Украины. «Банды», говорят.
– Почему Троцкий может так приказывать? – Пархоменко побагровел и стукнул кулаком по столу. – Мы сюда почти все донецко-криворожское свое правительство послали. Что ж оно молчит?
– Все, что оно способно понять, сказало.
Пархоменко вскочил.
– Тут мало места для беготни, – не спеша сказал Сталин, разжигая трубку, и, явно любуясь ловкими движениями Пархоменко, добавил: – Зачем сердиться?
Пархоменко хотел сказать: «Да как же не сердиться», но тотчас же понял, что сердиться действительно не на что и что если из центра не велят пускать в Царицын украинскую армию, то, прежде чем нарушить этот приказ, надо хорошо знать, почему ты его нарушаешь.
И Пархоменко, чувствуя легкий стыд за свою горячность, сел на табурет и сказал тихо:
– Но ведь у нас Ворошилов, старый большевик, донецкий рабочий…
Сталин, сделав легкий жест рукой, как бы отодвигая в сторону попытку Пархоменко спрятаться за авторитет Ворошилова, сказал:
– Посланы вы, товарищ Пархоменко, а это значит, вы знаете массы, с которыми идете, не правда ли? И, зная народ, вы утверждаете, что покажете ему все эти газеты, иначе говоря, покажете ему всю правду?
– Покажу.
– Значит, украинцы доверяют большевикам? Значит, не испугаются трудностей, не убегут, не сдадутся белоказакам?
– Совершенно верно.
Сталин слегка откинулся назад и рассмеялся тихим гортанным смехом:
– Очень хорошо. В Царицыне созывается общегородская партийная конференция. Полагаю, что нам удастся ввести и на конференцию и в общегородской партийный комитет представителей вашей армии. В первую очередь товарища Ворошилова. Сколько у вас членов партии?
Пархоменко ответил.
И неожиданно Сталин стал называть много фамилий донецких рабочих, спрашивал, куда кто назначен, и кивал одобрительно головой, когда узнавал, что все эти товарищи работают превосходно и воюют великолепно.
– Приходите скорее, – сказал он. – Мне кажется, так желает Царицын.
Пархоменко рассмеялся.
– Но ведь штаб СКВО протестует против нашего прихода?
– А мы СКВО пройдем с огнем насквозь… – И, улыбаясь, Сталин сделал резкое движение ладонью, как бы прорезал насквозь штаб.
Он заглянул в глаза Пархоменко и добавил:
– А в Самару пробирается один товарищ. Напишите письмо семье, товарищ Пархоменко, постараемся доставить.







