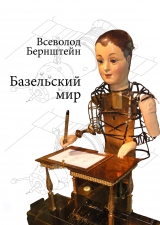
Текст книги "Базельский мир"
Автор книги: Всеволод Бернштейн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
В голове у меня мелькнула неожиданная мысль.
– Кажется, есть, – ответил я.
– Брат! – раскосые глаза Рустама повлажнели. – Дай я тебя обниму!
Он встал из-за столика, и крепко сжал меня в объятиях.
Уговорить Комина не составило большого труда. Собственно, я его и не уговаривал. В пятницу вечером я объявил: «Завтра подъем в шесть, садимся в поезд и едем в Лугано». Комин попробовал вяло протестовать, но я сказал ему: «Послушай, это – свинство! Когда тебе нужна была моя помощь, ты выдергивал меня среди ночи, таскал по горам с жутким похмельем и считал, что так и нужно. А теперь мне, точнее, одному хорошему человеку нужна наша помощь, твоя и моя».
Комин не нашел, что возразить.
– А что надо делать? – спросил он.
– Сниматься в кино. Тебе досталась роль Вергилия.
– Кого? – удивился Комин.
– Вергилия, поэта. Я играю Данте. Это экранизация «Божественной комедии». Мы с тобой будем спускаться в ад.
– А почему в Лугано? Поближе спуска не нашлось?
– Не капризничай, ты пока еще не звезда. Режиссер сказал в Лугано, значит, в Лугано.
– Режиссер… – протяжно произнес Комин и больше ничего не сказал.
Два с половиной часа в поезде он проспал, слова роли учить отказался, всем своим видом показывая полное безразличие к затее. Я добросовестно прочитал свою роль два раза, а на третьем тоже уснул.
На вокзале в Лугано нас встречал Рустам. Он долго тряс нам руки и лез обниматься.
– Ребята, молодцы, что приехали! Как я рад вас видеть!
Мы сели в его машину и поехали в сторону пригородов.
– Все готово! – рассказывал Рустам. – Только вас ждем. Массовка – сто человек, представляешь? Таких съемок у меня еще не было! Я даже и мечтать не смел. Только времени в обрез, очень мало. В три часа нам всем надо в церкви быть.
– А церковь зачем?
– Как зачем? Это же свадьба!
– Свадьба? – удивился я.
– Ну да – свадьба!
– Ты же сказал, что съемки фильма!
– Правильно! – кивнул Рустам. – Сначала съемки фильма, а потом свадьба, точнее, это все одновременно.
Комин на заднем сидении тихо застонал, словно у него разболелся зуб.
– Понимаете, – Рустам повернулся к Комину, отчего машина вильнула в сторону обочины.
– Смотри на дорогу! – прошипел я.
– Понимаете! – снова начал Рустам. – Они мне сказали, что хотели бы чего-нибудь необычного, ну, чтобы это была необычная свадьба. Я им говорю, а давайте кино снимем, всем коллективом, «Божественную комедию». Я давно мечтал об этом, случая не представлялось. Они: О, супер, давай! Только они хотели не «Ад», а «Рай», вторую часть, то есть. Ну, вроде логично, у людей такое событие, начало семейной жизни. А мне «Ад» больше нравится, там все круче гораздо. И потом, «Ад» – это же начало произведения. В общем, мы долго спорили, и мне удалось их убедить. Решили снимать «Ад», первые главы. Для них это элемент юмора такой, им нравится. Да вы не переживайте, ребята! Эти заказчики – хорошие люди, я таких сроду не встречал, полюбил их, как родных. Правда, они все там только по-итальянски говорят. Немного сложно общаться. Я по-итальянски только «дестра» и «синистра» знаю, лево-право, то есть. Еще «переколозо».
– А что такое «переколозо»? – поинтересовался я.
– «Переколозо» значит «опасно», – объяснил Рустам. – Но вы не переживайте, там ничего такого нет. Говорю же, милейшие люди.
По бокам дороги мелькали пальмы, в промежутках между буйной тропической растительностью сверкала изумрудная полоска озера, светило солнце. Думать о плохом не хотелось.
Рустам свернул с шоссе на проселочную дорогу, тянущуюся среди виноградников.
– Вот и приехали! Это здесь, – машина въехала в широкие распахнутые ворота винного хозяйства. На выгоревшей от солнца вывеске можно было разобрать только слово «дегустации». Виноградники прилепились на крутом склоне. У подножия склона стоял красивый старинный дом и чуть в стороне пара таких же старинных сараев. Перед домом были устроены белоснежные навесы, под ними – длинные столы с винами и закусками и множество веселых людей. Похоже, обещанная на вывеске дегустация была в самом разгаре. Появление нашей машины люди встретили радостными возгласами и поднятыми бокалами. Рустам помахал из окна в ответ и направил машину мимо столов, к дальним постройкам.
– Перекусим в перерыве, – объявил он нам. – Сейчас быстро переодеваться!
Мы выгрузились у ветхого сарая, где была устроена гардеробная. Рустам порылся в тюках и извлек кусок белой ткани.
– Это туника Вергилия! – он протянул ее Комину. – Надевай!
Он снова порылся в тюках и достал ворох пестрого тряпья:
– А это тебе!
Мне предназначался цветастый балахон, кожаный пояс с кошельком и тюбетейка. Легкомысленная расцветка балахона внушала подозрения.
– Ты уверен, что это мужское? – спросил я. – Я все-таки Дант, а не боярыня Морозова.
– Мужское, мужское, – торопливо заверил Рустам.
«Послать его к чертям, режиссера этого, – подумал я. – Так ведь отсюда теперь не выберешься, завез, подлец, бог знает куда».
Я посмотрел на Комина, он вертел в руках тунику и думал, похоже, о том же самом.
Рустам почувствовал, что над проектом сгущаются тучи.
– Ну, вы тут переодевайтесь! – пропел он медовым голосом. – А я побегу, дам команду на общее построение. – И растворился в пыльном дверном проеме.
– Прохиндей! – бросил я ему в след. – Вот мы попали! Ты извини, Саня! – повернулся я к Комину. – Я ей-богу не знал, что тут свадьба!
Комин пожал плечами.
– Свадьба так свадьба! Давай одеваться, – он начал натягивать на себя тунику.
Я помог ему расправить складки, а он помог мне с балахоном. Среди разбитой мебели и куч тряпья обнаружилось старинное подслеповатое зеркало с коричневыми пигментными пятнами. Сквозь пыль и трещины в нем проявились две нелепые фигуры – завсегдатая Сандуновских бань и торговца дынями с узбекского рынка.
– Обувь подкачала, – сказал торговец, показывая на кроссовки на ногах у обоих.
Завсегдатай бань согласно кивнул.
– Надо поискать. Может, тут где-то есть сандалии.
Сандалий не нашлось, зато обнаружились старые сапоги для верховой езды и ветхие кожаные башмаки. Сапоги я взял себе, а башмаки достались Комину.
Когда мы закончили переобувание, вбежал запыхавшийся Рустам с бутылью прозрачной жидкости.
– Все готово! – объявил он. – Давайте, быстренько по стаканчику за успех предприятия! Это граппа, домашняя, чистый нектар! Эх, черт! – хлопнул он себя по лбу. – Стаканы забыл! Ну, ничего, из горлышка!
Он приложился первым, протянул бутылку Комину. Комин сделал несколько больших глотков и отдал бутылку мне. Граппа и вправду оказалась на удивление хороша и пришлась очень кстати. Отхлебнув три-четыре раза, я вернул бутылку никакому не банщику, а самому настоящему Вергилию.
Пышная брюнетка с отчетливыми усиками на верхней губе, немного смущаясь, выкрикнула что-то по-итальянски и громко хлопнула киношной хлопушкой.
– Так, ребятки! Пошли! Пошли! – скомандовал из-за установленной на штативе камеры Рустам. – Смотрим по сторонам, вы в волшебном лесу!
Слегка поддерживая друг друга, мы с Коминым тронулись по узкой каменистой тропинке. Никакого леса, ни волшебного, ни даже обыкновенного, вокруг нас не было. Были цветочные кусты, камни и колючие кучи срубленных виноградных лоз. Лес Рустам обещал вставить в фильм потом, на стадии монтажа.
– Стоп! Встали! – раздалась команда режиссера. – Смотрим наверх, видим огненные буквы. Вергилий, поднимай руку! Читай с выражением!
Прямо перед нами возник подросток с большим листом бумаги, на котором крупными буквами был написан текст.
– Я увожу к отверженным селеньям, я увожу сквозь вековечный стон, я увожу к погибшим поколеньям, – начал читать Комин.
– Стоп! – закричал Рустам. – Торжественней! Умоляю, торжественней! А ты, Дант, что ты стоишь, будто трамвая ждешь?
– А что ж мне делать?
– Ужасайся!
– Я ужасаюсь.
– Что-то не заметно. Ты нагляднее ужасайся! Нагляднее!
Я промолчал, мысленно запустив в Рустама камнем.
– Еще разок! Поехали! – раздалось из-за камеры.
– Входящие! Оставьте упованья! – торжественно дочитал Комин надпись.
– Отлично! – выкрикнул Рустам. – Вы двое пока свободны. Теперь оркестр! Оркестро, пор фавор!
На тропинке появились люди с духовыми инструментами в цилиндрах и синих мундирах с длинными фалдами. Они быстро и организованно начали строиться в две шеренги.
Мы подошли к Рустаму, нацелившись на его сумку, валявшуюся рядом со штативом. Из сумки торчало горлышко бутылки с граппой.
Рустам быстро все понял и сам достал бутылку.
– В «Божественной комедии» разве был духовой оркестр? – спросил я, принимая бутылку. – Что-то я не припомню.
Рустам смущенно почесал нос.
– Не было, конечно. Но понимаете, у них в местной коммуне очень хороший духовой оркестр. Они кучу призов на всяких конкурсах собрали. Просто молодцы! Короче, устроители свадьбы меня попросили, ну, чтоб я оркестр задействовал. Так, мол, веселее, и вообще. А я что, мне не жалко… Тем более играют они и вправду очень здорово. Да что там оркестр! У них тут певица есть, сопрано, Сильвией зовут, что характерно, простая продавщица из супермаркета. Голос божественный! – Рустам молитвенно сложил руки, копируя своих итальянских заказчиков. – Они в этом деле тут очень здорово разбираются. Говорят, до Ла Скалы чуть-чуть не дотягивает. Вы сами услышите, она сейчас переодевается.
– Эк ты, брат, развернулся! – искренне подивился я. – Когда мы с тобой последний раз виделись, у тебя в арсенале «летающие поцелуи» да «золотые шары» были. А теперь – и сопрано, и оркестр с призами.
Рустам расплылся в довольной улыбке.
– Так растем потихоньку. Только вы не подумайте, что это свадьба ради свадьбы, – сказал он, обращаясь к Комину. – Я настоящее кино давно собирался снять. Вон, Володька подтвердит. Тут просто так совпало, и свадьба, и люди хорошие, и Данте. Все одно к одному.
Оркестр тем временем закончил построение.
– Надо дальше двигаться, – засуетился Рустам. – Вы далеко не уходите, скоро снова понадобитесь.
Над виноградниками грянул бодрый марш. Солнце весело играло в начищенных до блеска трубах, все вокруг улыбались, пахло сухими травами, небо было пронзительно голубым, а граппа мягкой и душистой. Действительно – все одно к одному.
Я развалился прямо на теплой земле, Комин сидел рядом и читал распечатки текста «Божественной комедии», которые я дал ему в поезде.
– Нравится? – спросил я.
Комин пожал плечами.
Вот и пойми, что этому человеку надо.
Я собрался было немного поспать, но перед нами снова возник Рустам:
– Подъем! Ваш выход! Значит, следующая мизансцена такая: Дант с Вергилием идут по дороге, видят накрытые столы, люди пьют и закусывают, Сильвия поет. Вергилий смотрит на все это так, немного отстраненно. Но Дант поражен. Ты поражен, – повторил мне Рустам. – Дант спрашивает: Чей это крик? Какой толпы, страданьем побежденной? Вергилий отвечает: То горестный удел…, и так далее, текст тебе покажут.
– Я знаю текст, – неожиданно сказал Комин.
– Знаешь? Прекрасно! – обрадовался Рустам. – Тогда начинаем! Все на исходные позиции!
– Эй, откуда ты знаешь текст? – я подтолкнул Комина плечом.
– Выучил, – ответил он.
Раздалась команда «мотор!». Заиграл оркестр, но уже не так громко и не марш, а что-то лирическое. Вступила величественная Сильвия со своим знаменитым на всю округу сопрано. На певице было длинное концертное платье с блестками. За накрытыми столами стихли разговоры, все стали слушать певицу, но вежливое молчание длилось не больше минуты, легкомысленное солнечное настроение взяло верх, и над столами вновь зазвучали смешки и засверкали улыбки.
Рустам снимал все это камерой с рук. Он подкрадывался то к певице, то к оркестрантам, то к гостям. Потом направил камеру на нас и подал знак. Мы с Коминым двинулись мимо столов. Я изо всех сил старался выглядеть пораженным.
– Чей это крик? Какой толпы, страданьем побежденной? – спросил я, указывая на счастливые лица нарядных, безмятежно болтающих людей.
Комин гордо поднял голову, сузил глаза, придав взгляду пронзительность, и продекламировал:
– То горестный удел
Тех жалких душ, что прожили, не зная
Ни славы, ни позора смертных дел.
Он выпростал руку из туники и протянул ее к оркестру:
– И с ними ангелов дурная стая,
Что, не восстав, была и не верна
Всевышнему, средину соблюдая.
Их свергло небо, не терпя пятна;
И пропасть Ада их не принимает,
Иначе возгордилась бы вина.
Я поикал глазами паренька с подсказками. Он держал наготове листок с моей репликой.
– Учитель, что их так терзает
И понуждает к жалобам таким?
Комин грозно свел брови.
– Ответ недолгий подобает.
И смертный час для них недостижим,
И эта жизнь настолько нестерпима,
Что все другое было б легче им.
Их память на земле невоскресима;
От них и суд, и милость отошли.
Они не стоят слов: взгляни – и мимо!
– Отлично! Снято! – закричал Рустам. – Всем спасибо! Граци! Граци миле!
Ассистенты засуетились, Комин остался стоять на месте, все еще в образе Вергилия. Он царственно положил мне руку на плечо.
– Жалкие души, что прожили, не зная ни славы, ни позора смертных дел. От них и суд, и милость отошли. Они не стоят слов: взгляни – и мимо! По-моему, гениально!
– Что ты хочешь – Данте! – сказал я, освобождая плечо.
– Я не про Данте. Данте – само собой. Я про это! – Комин обвел рукой пространство вокруг. – Режиссер-то наш большой молодец. Надо же такое придумать!
– Да? – удивился я. – А я вот, честно говоря, не понял задумки. У Данте страдающая толпа, стоны, вопли. А тут довольные сытые физиономии, оркестр. Какой же это ад?
– Так и у Данте это не ад. Таких даже в ад не пускают. «Их память на земли невоскресима, от них и суд, и милость отошли…». Все в точку.
– Ну, это ты напрасно. Что ты так взъелся? Симпатичные люди. Пришли повеселиться на свадьбе.
– Я не про них.
– А про кого?
Комин посмотрел на меня и ничего не ответил.
– Про кого? – повторил я.
Комин развернулся и пошел прочь.
– Про кого? – крикнул я ему вслед.
Для участников съемок накрыли отдельный стол, за которым уместился и оркестр в полном составе, и наша маленькая съемочная группа, кроме Комина, который ушел куда-то в поле и так и не появлялся.
– Володя! Сюда! – позвал меня Рустам, показывая на свободное место рядом.
Я сел, он тут же налил мне вина.
– Ребята, какие же все-таки молодцы! Все получилось просто супер! А Саша где?
– Не знаю, – ответил я. – Он, по-моему, никак не может выйти из роли. Вергилий хренов.
Рустам ничего не понял, но на всякий случай расхохотался.
– Вот объясни мне, – я отодвинул от себя бокал с вином. – Что ты хотел сказать этим своим фильмом?
Рустам жадно уплетал закуски, запивая вином:
– Слушай, Володя, я понимаю, что ты журналист и все такое. Только я интервью давать не умею. И вот это «что хотел сказать», «какая главная идея», «какой месседж» – это вообще не ко мне.
– Я тебя не как журналист спрашиваю. Просто как… как друг. Объясни мне. Ведь это свадьба. Ты – свадебный оператор. Допустим, съемки кино, Данте – это, как ты говоришь, фишка. Ты предложил, заказчик согласился. Он хотел «Рай», ты уговорил на «Ад». Но где здесь ад? Или даже не ад, а что там, у Данте, преддверие? Они же все поют, смеются!
Рустам тоже поставил свой бокал. Откашлялся.
– Трудно объяснить. – Он вытер рот рукой. – Они ведь смеются не потому, что им весело, а потому что так принято. Потому что свадьба, потому что они итальянцы… Им вроде как не полагается грустить. Многие люди и живут так, понимаешь? Как бы на автомате, что-то делают просто потому, что так принято. Делают, делают, делают, делают всю жизнь. А потом оказывается, что ничего и не сделали. Ни хорошего, ни плохого, ничего. Я еще потом хочу снять, как они столы убирают, как тенты сворачивают, и чтобы потом снова чистое поле – без всяких следов. Отыграли свадьбу – и ничего. Снова пустота. Понимаешь?
Я пристально вглядывался в раскосые татарские глаза Рустама, надеясь прочитать в них ответ. Но ничего не увидел.
– Не понимаю, – признался я. – Не понимаю, зачем тебе это? У тебя ж все хорошо. Студия, заказы. Зачем это?
В татарских глазах сверкнул задорный огонек.
– А зачем тебе Базельуорлд? У тебя тоже все хорошо. Зачем тебе это?
– Из-за Комина, – сказал я. – Я его предал. Так получилось. Почти случайно. Теперь отдаю долг. Хотя он про это не знает.
Рустам стал серьезным, на смуглых скулах шевельнулись желваки.
– Ясно, – сказал он. – Я тоже вроде как отдаю долг. Своему отцу. Он у меня знаешь какой был, энтузиаст, комсомолец. Из того поколения. Приехал строить комбинат и проработал на нем всю жизнь. Он моих свадебных дел на дух не переносил. Считал, ерундой занимаюсь. Ругались с ним в дым. Говорил, я своим сыном гордиться хочу, а сын у меня на чужих свадьбах лакействует, хоть и с видеокамерой. Ну, я ему про их энтузиазм идиотский. Так, слово за слово… – Рустам помолчал и вздохнул. – Только после его смерти я понял, что он был прав. Теперь вот наверстываю.
Я стоял перед старинным зеркалом в темном захламленном сарае среди ворохов тряпья и разбитой мебели. Из зеркала на меня смотрел уставший человек, сутулый, с опущенными плечами. Смотреть на него было неприятно, а уж разговаривать и подавно.
– Не понимаю, – вот и все, что я сказал ему.
Из Новосибирска прибыл клиент за «Панераем». Клиент хорошо знакомый, каждый лыжный сезон он обновлял свой часовой парк. Приятный человек, по-сибирски сдержанный, вежливый – после нескольких выполненных заказов мы оставались с ним «на вы». Звали его Николай Петрович. Как обычно, перед покупкой мы встретились в кафе, чтобы проговорить цены и условия. Николай Петрович рассказал про сибирскую жизнь, я поведал скудные швейцарские новости. Заговорили о часах.
– Николай Петрович, скажите, а зачем вам вообще этот «Панерай»?
– Ну, как? – удивился Николай Петрович. – Это же легендарная марка!
– Легендарная? Вы имеете в виду эту историю про итальянских боевых пловцов, якобы они носили такие часы во Вторую Мировую?
– А разве не носили? – насторожился мой собеседник.
– Знаете, есть такой анекдот про итальянский боевой дух. Итальянский окоп под Сталинградом. Дан сигнал идти в атаку. Молоденький лейтенант вскакивает на бруствер, размахивает пистолетом и кричит: «Вперед, храбрые львы! В атаку! Надерем задницу русскому медведю! Ура!». Все солдаты в окопе тут же захлопали в ладоши: «Ах, наш лейтенант, какой смельчак! Какой герой! Браво! Браво!», но никто не тронулся с места. Лейтенант получил свою пулю, и на этом все успокоилось. Этот анекдот мне рассказал знакомый итальянец. Поверьте, я сам нежно люблю итальянцев, но причем здесь боевой дух каких-то мифических пловцов!? Зачем вы верите в эти маркетинговые сказки, Николай Петрович? Вы! Ваш дед сломал хребет Гитлеру! Если вас интересует боевой дух, купите «Луч», или «Стрелу», или «Командирские», в конце концов.
– Вы какие-то странные вещи говорите, – Николай Петрович выглядел обескураженным.
– Почему же странные? Я нахожу свои суждения очень логичными. Готов их отстаивать.
– По-вашему, «Панерай» – плохие часы?
– Я вам покажу хорошие часы, – я снял с руки «открытое сердце», выставочную модель. Шапиро настоял, чтобы я их носил. Как полагается владельцу марки.
Николай Петрович надел другие очки, осторожно взял часы и принялся их рассматривать.
– «Роже де Барбюс», – прочитал он. – Что-то знакомое. Я припоминаю, был такой часовщик…
– Никогда не было! – сказал я. – Роже де Барбюса придумал Даниэль Шапиро. Он и сделал эти часы. Не просто сделал. Шапиро двадцать лет нянчился с этой моделью, поливал ее потом и слезами. Смотрите, как движется секундная стрелка, она будто парит, плавно и в то же время немного нервно. Нервы Шапиро здесь намотаны на барабан вместо заводной пружины, они дают жизнь этим часам.
– Неплохо, – Николай Петрович вернул мне часы. – Но понимаете, «Панерай» знают все, а кто знает этого Шапиро.
– Так он здесь, недалеко, – я показал рукой направление. – У него ателье в пяти минутах ходьбы. Хотите, я вас познакомлю, он будет рад. И вы лично узнаете человека, который сделал эти часы. А вот узнать человека, который делает «Панерай», боюсь, невозможно.
– Давайте, все-таки, остановимся на «Панерае», – сухо предложил Николай Петрович.
– Воля ваша, – развел я руками.
Николай Петрович достал смартфон и быстро пролистал в нем нашу переписку.
– Значит, вы говорите, стандартная скидка, – он нашел нужное сообщение. – А нельзя ли получить больше? Все-таки, мы не первый год у них покупаем.
– Конечно, можно спросить и больше, – сказал я. – Вы же помните их старшего менеджера. Некий Кунц, гусь надутый. Он мнит себя очень умным, и любит учить жизни, особенно в том, что касается Швейцарии и не-Швейцарии. Так вот этот Кунц ответит нам своей фирменной заготовкой: «Видите ли, господа, у нас в Швейцарии сложилась определенная культура скидок». Он так и скажет: «рабатт-культур», по-моему, он это уродливое слово сам выдумал. «Мы не можем предоставлять вам скидки, как в Африке», скажет он. И вот тут, Николай Петрович, я рекомендую вам напомнить господину Кунцу, что согласно данным Швейцарского экономического бюро, доходы часовой промышленности за последний год упали на четверть. И что ехать в Африку за скидками вы не собираетесь, но вам совсем несложно проехать час-другой по автобану, до ближайшего бутика в Германии, где нынче восхитительно дешевый евро и совсем другая «рабатт-культур». Не думаю, что после этих слов Кунц будет продолжать жадничать. Я бы и сам ему это с удовольствием сказал, Николай Петрович, но, вы же понимаете, у меня другое амплуа.
Николай Петрович внимательно посмотрел на меня.
– А какое у вас амплуа, Владимир? Что-то я никак не пойму.
– Ну, я тут вроде зазывалы. Знаете, как на курортах в Греции или Турции, стоят перед ресторанами и хватают прохожих за рукав. Только моя роль не такая определенная. Я на вашей стороне, и на стороне Кунца, довольно трудно разобраться. Слуга двух господ.
– Вы получаете комиссию? – возможно, он начал подозревать, что я собираюсь просить у него больше денег за услуги.
– Не в этот раз, Николай Петрович, – сказал я. – Знаете, наверное, вам лучше в бутик без меня пойти. Я обо всем договорился, часы приготовлены, вас там ждут. Все будет хорошо. А я не пойду. Понимаете, меня давно подмывало пнуть этого Кунца в пах. Сегодня, боюсь, не сдержусь. Желаю вам приятной покупки!
Я оставил безмерно удивленного Николая Петровича в кафе и вышел на улицу. Сам себе я был удивлен не меньше. Хотя я только что лишил себя нескольких сотен франков комиссии, это было скорее приятное удивление. Я посмотрел на часы. Мне подарено два часа свободного времени. Никаких встреч, никаких звонков, решил я, просто прогуляюсь, соберусь с мыслями. И кстати! «Открытое сердце» на циферблате было распахнуто широко как никогда. Я бодро зашагал по улице, прислушиваясь к новому чувству, которое парным молочным теплом разливалось внутри: я сильный, я свободный, я хозяин своей жизни. Погода стояла прекрасная, тёплый фён принес запах весны, будто кто-то вставил в усталый цюрихский февраль новые батарейки, звуки стали отчетливей, краски ярче, небо выше.
– Владимир! – по-весеннему звонко стрельнуло в спину.
Я обернулся. У притормозившего черного «мерседеса» опустилось стекло, первое, что бросилось в глаза – щедро вылепленные надбровные дуги и плечи, как палуба авианосца. За рулем сидел Николай, покупатель золотого «бреге».
– Владимир, есть вопрос, – сказал Николай.
– Какой вопрос? – удивился я.
Николай открыл пассажирскую дверь.
– Давайте немного проедемся, а то здесь нельзя останавливаться.
Останавливаться и вправду было нельзя, улица узкая. Вслед за «мерседесом» уже пристроился мебельный фургон, водитель которого нетерпеливо всплескивал руками.
– Две минуты! – сказал Николай.
Я заметил в салоне на заднем сидении еще одного человека, разглядеть его было невозможно из-за тонированных стекол.
Конечно же, я не собирался садиться в «мерседес» и уже открыл рот, чтобы сказать об этом Николаю, но мебельный фургон истерично засигналил. И я сел.
Николай нажал на газ, «мерседес» сорвался с места.
– Так что за вопрос? – В зеркало я увидел, как пассажир сзади сделал резкое движение, почувствовал слабый укол в шею.
– Какого черта! – заорал я. Хотел поднять руки, чтобы защититься, но руки вмиг оказались неимоверно тяжелыми, и веки, и голова. Не в силах удерживать их, я завалился набок и закрыл глаза.
Темноту прорезал сноп искр, резкая боль тисками схватила всю левую половину головы. Я закричал, но крик мой никуда не вырвался, словно я кричал в подушку. Искры погасли, я увидел в мутной пелене Николая. Своей шкафоподобной фигурой он занимал все доступное для обзора пространство. Кроме Николая, не было ничего. Он коротко размахнулся и ударил меня по правой щеке. Ударил отрытой ладонью, играючи, но ощущение было такое, будто меня саданули доской. Снова искры.
– Ты что, сдурел! – я дернулся и почувствовал боль в запястьях, руки были сведены за спиной, ноги не двигались. Я оказался привязанным к стулу. – Пусти! – заерзал я.
Николай любовно погладил свой кулак и воткнул его мне в солнечное сплетение. Дыхание перекрыло, глаза полезли на лоб. Я извивался на стуле, Николай разглядывал меня с медицинским спокойствием, чуть наклонив голову вбок.
– За что?! – прохрипел я, когда дыхание вернулось. – Если с часами какие проблемы, ты скажи нормально, там заводская гарантия, все решим.
Я повернул голову, чтобы осмотреться, и пропустил момент следующего удара. Снова перекрыло дыхание, потом меня долго рвало слизью. Николай терпеливо подождал, пока закончатся спазмы, и снова ударил.
– Убьет! – мелькнуло сквозь боль. Все вокруг поплыло. Из пелены проявились лица жены и дочки. – Держаться! Не терять сознание! – Николай бил с расстановкой, деловито сопя. Боль больше не отступала, она спеленала тело, как кокон.
– Всё! – вложил я остатки сил в крик.
Что-то произошло. Николай отодвинулся. Пространство, которое он целиком занимал своей тушей, какое-то время оставалось пустым. Белесая размытая пустота. Пустота держалась долго, лишь слегка подрагивала, как знойное марево над шоссе. Потом пятно. Я с трудом сфокусировал взгляд. Мужской ботинок коричневой кожи. Совсем рядом с моим лицом. Немодный фасон, слегка стоптанная подошва, но начищен безукоризненно. Знакомый ботинок. Ботинок Лещенко. Я заплакал, навзрыд, не сдерживая себя. Плакал долго. Лещенко терпеливо ждал. Потом он помог мне подняться, усадил на стул, салфеткой вытер выблеванную слизь с рубашки. Сел на стул напротив. Закурил.
– Что, Владимир, больно? – сказал он, выпуская дым. – А я предупреждал тебя – без самодеятельности. Предупреждал?
У меня опять навернулись слезы.
– Что я сделал? Я все расскажу, не надо бить!
Тонкие губы Лещенко съехали в сторону, как бы говоря: «быстро ты спекся, даже неинтересно…».
– Рассказывай! – Лещенко крякнул от самодовольства и откинулся на стуле.
– О чем?
– О Шапиро рассказывай.
– О Шапиро? – удивился я. – О Даниэле Шапиро?
Лещенко молча сверлил меня взглядом.
– Это… это просто часовщик.
– Николая позвать? – спросил Лещенко. – Второй раз я его могу и не остановить.
– Не надо Николая! – взмолился я. – Я все расскажу. Только ты спрашивай, что не так с этим Шапиро? Я его едва знаю!
– Когда последний раз виделись с ним?
– Неделю назад. Он передавал мне дела, разные бумаги. Мы у него часовую марку купили.
– Взрывчатку он сам делает? – резко спросил Лещенко.
– Что? – я подумал, мне послышалось. – Взрывчатку?
– Да, взрывчатку, – повторил Лещенко.
– Я не знаю ни о какой взрывчатке! Клянусь! Тут какая-то ошибка! Мы не собирались никого взрывать. Я же тебе рассказывал. Только пустить дым и все! Я сам против этой затеи, каждый день отговариваю Комина. Это хулиганство, обыкновенное хулиганство. Никакого взрыва не будет! И взрывчатки нет, и не может быть. Ты же знаешь Комина! А Шапиро здесь вообще не при делах! Он не с нами. Продал марку и все! Я ему даже на стенде запретил появляться, это было условие продажи. Нам от него только стенд был нужен. Только стенд…
Лещенко поднял вверх два пальца с сигаретой, приказывая мне замолчать.
– Позавчера, – медленно начал он, – Шапиро вышел на нашего крота. Он заказал у него компоненты для изготовления взрывного устройства. – Не спуская с меня глаз, он затянулся и выпустил дым. – Что скажешь?
«Часы апокалипсиса!» – вспомнил я. Лещенко заметил, что я что-то вспомнил.
– Часы апокалипсиса, – повторил я вслух. – Он говорил о них, просто упоминал, я даже не вдавался в подробности. Это давно было, еще до продажи марки…
– Ты знаешь, кто ты есть? – спросил Лещенко.
– Идиот, я знаю, я вляпался.
– Нет, не идиот. Гораздо хуже. Шапиро – террорист. И ты его финансируешь. За взрывчатку он собирался платить твоими деньгами. Таких, как ты, карают жестче террористов. Если бы Шапиро вышел не на нашего крота, а на американского, летел бы ты уже с отбитыми почками в грузовом контейнере в сторону Гуантанамо. – Лещенко многозначительно замолчал, давая мне возможность представить картину.
Я представил. Осторожно пощупал свой правый бок, где очень болела обработанная Николаем печень.
– Спасибо за вашу доброту, – сказал я.
Лещенко усмехнулся.
– Не бзди, Николай – хороший специалист. Лишнего не зацепит. Даже синяков почти не останется. Приводи себя в порядок. Чтобы выбраться из задницы, куда ты сам себя загнал, тебе нужно будет очень сильно постараться.
На лестнице перед входом в кафе «Жюль Верн» было сильно накурено. Свободных столиков в кафе не было, здесь никогда не бывает свободных столиков по вечерам. Лучший панорамный вид на старый город и неплохие коктейли сделали это заведение на предпоследнем этаже башни обсерватории Урания суперпопулярным. Мне столик был не нужен. Я ждал Шапиро. Договорились с ним на восемь, но я пришел пораньше, чтобы осмотреться, собраться с мыслями, еще раз прокрутить в голове предстоящий разговор. Взял в баре пиво и вышел на лестницу, где толкались отовсюду изгоняемые, но не унывающие курильщики.
Ровно в восемь двери лифта открылись, и из них вышел румяный от морозца Шапиро. Он снял перчатку и крепко пожал мою руку.
– Роскошный антициклон! – воскликнул он. – Минус два и безоблачное небо. Лучшая погода для астрономических наблюдений! Прошу! – он пригласил меня подняться по лестнице еще на один пролет к малозаметной двери с крошечной табличкой «Обсерватория».
– Даже не знал, что это действующая обсерватория, – признался я, пока Шапиро возился с ключами.
– Это немодное место, – сказал Шапиро. – Раньше пробовали устраивать экскурсии для публики, но сейчас, кажется, прекратили. Нет желающих. Только школьники, студенты. И я.
Мы зашли внутрь. Щелкнул выключатель. Лампы загорелись не сразу, лишь после нескольких прерывистых вспышек, словно завелся киноаппарат, и перед нами возникла декорация из Жюля Верна или какого-то очень раннего фильма о Джеймсе Бонде – куполообразный потолок, обшитый деревянными досками, огромный телескоп, похожий на нацеленную в небо пушку. У телескопа – передвижная платформа со стальными перилами. Множество приборов вдоль стен.








