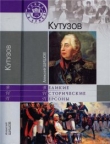Текст книги "Русско-прусские хроники"
Автор книги: Вольдемар Балязин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 31 страниц)
Он возвел в звание генералиссимуса-лейтенанта и Генерального комиссара Святой инквизиции Великого магистра Ордена Грозы, Пламени и Урагана кардинала Лауренцио и наградил его орденом "Пылающего Костра", ибо, как сказал Василиск, Лауренцио был сам пылающим костром и обнаженным мечом католической диктатуры.
На пиру Василиск был необыкновенно весел и добр и сам поднял два тоста. Один он провозгласил за своих коннетаблей, ставших генералиссимусами-лейтенантами, и за всех, кто под их командованием громил "Черных ландскнехтов". А второй тост он поднял за терпеливый и добрый итальянский народ, который работал всю войну, как большая сложная машина, в которой безотказно крутились все колесики и винтики.
А все кардиналы, архиепископы и братья из ВКЛ, представлявшие свои национальные секты, предлагали только один и тот же тост – за Василиска, величайшего полководца всех времен и народов.
Яркая кроваво-красная звезда Василиска Великого взошла в зенит, и во всех странах к его сторонникам стали относиться с почтительной боязнью.
И к нам, кенигсбергским католикам, тоже стали относиться по-другому, и мы из людей третьего сорта превратились в людей несомненно сорта наивысшего, и мы вздохнули с облегчением – теперь нас уже никто ни в чем не подозревал, тем более что власть папы распространилась на многие страны, в том числе и соседние с нами, откуда его коннетабли выгнали "Черных ландскнехтов". Теперь и в Венгрии, и в Польше, и в Богемии, и в Саксонии, и в Моравии, и в самом Бранденбурге власть перешла в руки тех, кто руководил местными конфедерациями Паладинов Христа и состоял во Всемирной Католической Лиге.
Кроме того, когда великая победа была одержана, то и во всех других странах, даже не участвовавших в войне, очень сильно возрос престиж католиков, и миссионерам папы Василиска стало гораздо легче проповедовать Слово Божие и среди мавров, и на Ниле, и в далеком Китае, где раньше католические миссии не имели почти никакого успеха, даже в никому дотоле неведомой стране Норд-Коре, где правил "Живой Бог, Сын Бога и Отец Бога" по имени Чучхе. Этот самый Чучхе принял кайфолическую веру, обратил в эту веру и весь свой народ, но, как утверждали наши миссионеры, в душе как был язычником, так и остался.
Что же касается Бесноватого, то его смрадные останки закопали в дремучем лесу под Тевтонским Дубом, которому еще до Рождества Христова поклонялись варвары – тевтоны. А его соратников – фельдмаршалов Германа Толстяка и Вилли Кейтера, а также еще двадцать прочих эмиссаров, ляйтеров и иных шишек из всех "Трех С" – изловили и отвезли в город Нюрнберг, где почти всех и повесили. Трех, правда, отпустили с богом, одного посадили на цепь, признав сумасшедшим, хотя, честно говоря, едва ли среди этих выродков был хотя бы один нормальный, а Герман Толстяк и еще один обвиняемый, не дождавшись казни, покончили самоубийством.
В общем, после разгрома Зигфрида Бесноватого весь мир пришел в движение, и всем казалось, что слова "Великого хорала", в котором говорилось о неминуемой победе "Копателей", вот-вот оправдаются, ибо пол-Европы перешло под власть папы.
И как только война кончилась, в Кенигсберге объявился Эмиль Хубельман. Оказывается, он за год до конца войны, когда в соседней с нами Польше началось восстание местного населения против "Черных ландскнехтов", тайно перешел границу где-то в мазурских болотах, связался с братьями из Польской КП и был направлен военным капелланом в партизанскую бригаду имени Святого Казимира. Он храбро воевал и вернулся после победы над общим врагом всех католиков, получив от примаса Польши военный орден "Крест Жальгириса"83.
Вслед за тем бригадный капеллан Хубельман, как говорили, впавший в особую милость у папы, получил степень Доктора Богословия и Аттестат, выданный Высшей Аттестационной Комиссей Папской Академии наук.
(В то время место богослова в ученой иерархии определялось не тем, сколько трактатов он написал и в скольких теологических диспутах победил, но прежде всего тем, как проявил он себя на практике. И особенно важно было то, состоял ли он в "Обществе друзей Инквизиции", а в нем состояли только ее осведомители, и доказал ли он верность Церкви в войне с неверными.)
А Эмиль доказал это и, как говорили, будучи активным членом "Общества друзей Инквизиции" и показавшим себя храбрым воином. Оттого-то и взошла в зенит звезда теолога и верного сына Церкви Эмиля Хубельмана.
А тут еще пронесся слух, что Эмиль Хубельман и вообще скоро покинет Кенигсберг, ибо ему предоставляют место профессора в Ватиканской Академии Ортодоксальных наук, в аббревиатуре ВАОН, в которую, как говорили, было очень нелегко попасть даже хорошо образованному клирику.
Я не знал, что такое ВАОН, и спросил об этом патера Иннокентия. И он сказал, что лет десять назад он и сам пытался поступить туда, но не прошел конкурсного экзамена, ибо экзамен оказался очень трудным, а кроме того, сказал патер, там с неохотой принимали священников из других стран, помимо Италии, хотя в общих правилах приема в ВАОН указывалось, что в ней имеют право учиться священники, не только безупречно прослужившие не менее пяти лет патерами в приходах, но и заслужившие одобрение архипастырей, которые и направляли их туда с согласия местного синклита, снабдив не просто письмом какого-то патера, но коллегиальной письменной рекомендацией, заверенной печатью даже не епископа, а только архиепископа, а еще лучше – кардинала.
После строгого экзамена принятые в ВАОН готовились опытнейшими богословами для того, чтобы в скором будущем стать деканами теологических или философских факультетов, благочинными епархий, настоятелями монастырей или же оставлялись при ВАОН для того, чтобы дальше совершенствоваться в Догматическом Богословии и стать Докторами Ортодоксии.
Именно этим последним, кто должен был толковать, комментировать, аргументировать и цензуровать сочинения других богословов, а также писать свои собственные труды и всякий день опровергать ереси, и позволялось на самом последнем курсе Академии, когда ум их уже был изощрен в догматике и диалектике, а душа тверда, позволялось читать разные еретические сочинения с тою благой целью, чтобы хорошо знать аргументы противников католичества и умело опровергать их контрдоводами, а на их лживую пропаганду ересей отвечать сокрушительной так называемой контрпропагандой.
Итак, как говорили еще совсем недавно в поверженном ныне Бранденбурге, "каждому свое". Мне – экзамены в семинарии, а высокоученому теологу Эмилю кафедра в Ватиканской Академии.
Но, мне кажется, что я радовался предстоящей поездке в Рим не менее Хубельмана – у меня вся жизнь была впереди, а он, по сути дела, был уже глубоким стариком.
Радовало меня и то, что война уже кончилась, и теперь путь мой лежал только через дружественные папе Василиску католические страны.
Я решил, что лучше всего будет поездка через Польшу, Богемию и Австрию. А там – Италия.
Иоганн ехал вместе со мной, и он согласился с избранным мною маршрутом. Родители тоже одобрили мой план. Патер Иннокентий, узнав об этом, одобрительно погладил меня по голове и промолвил:
– Ну, сын мой, с Богом! А я поеду в Данциг к викарию нашего епископа и получу от него благословение на вашу поездку, ибо одного моего рекомендательного письма будет недостаточно. По правилам для поступления в семинарию нужна еще и подпись викария и, главное, печать его преосвященства84.
Слезы благодарности навернулись у меня на глазах:
доброму патеру Иннокентию предстояла ради нас и неближняя дорога, и немалые расходы, и изрядные хлопоты.
"Ах, как жаль,– подумал я,– что нет у нас в Кенигсберге своей кафедры85. А маленькая община позволяет держать здесь лишь патера. А как было здесь хорошо до победы поганых лютеран – наш Кенигсбергский кафедральный собор был знаменит на весь мир, и епископ Кенигсбергский был не последним из князей Церкви. А теперь во всех храмах позаседали проклятые протестантские еретики, и у нас остался всего один храм – ив нем наша свеча – Патер Иннокентий".
Патер вернулся через неделю и привез два рекомендательных письма, заверенных подписью данцигского викария и печатью его преосвященства.
– Храните эти письма у самого сердца,– сказал нам наставник, передавая бумаги.– Без этих бумаг никто в Риме не сможет вам помочь. В Риме очень строгие порядки, там документ, или, как называют его в народе, бумажка, всегда важнее всего, даже важнее человека. Недаром римляне говорят: "Без бумажки ты – букашка, а с бумажкой – человек".
Патер задумался и вдруг улыбнулся:
– В дни моей молодости один озорной вагант написал об этом песню и там были такие слова:
За столом бумажка будет пить чаи, Человечек – под столом валяться, скомканный.
Я не поверил в серьезность сказанного, однако, оказавшись в Риме и даже еще по пути туда, сумел много раз убедиться в совершеннейшей справедливости слов нашего наставника86.
Но прежде чем я уехал в Рим, произошло огромное несчастье – тяжко заболел и перед самым нашим отъездом скончался мой любимый наставник Джованни Сперотто.
Я и Ганс Томан не уходили из его дома все последние дни, то сидя рядом с ним, то ожидая на кухне указаний и поручений его хозяйки – ив аптеку надо было сбегать, и позвать цирюльника, чтобы для облегчения болезни отворить кровь, то сбегать за доктором, а то и помочь хозяйке в хлопотах по дому и по уходу за больным.
Наконец, все наши заботы уже не смогли облегчить участь несчастного старика.
Он попросил позвать патера Иннокентия. Патер пришел немедленно и попросил всех, кто был в комнате умирающего, выйти из нее, чтобы исповедать и причастить сеньора Джованни.
Патер пробыл около часа и, выйдя, сказал, что мы можем войти к умирающему, ибо он еще жив и хочет со всеми попрощаться.
Все мы подбадривали старика, но, выходя, плакали, ибо видели, что смерть уже стоит у его изголовья. Последним он попрощался с Гансом, и когда тот вышел, мы поняли, что старый солдат и музыкант умирает.
Ганс сильно плакал, не стыдясь слез, и только повторял:
"Он один понимал меня, и я верил ему одному".
В те мгновения я не придал словам Ганса особого значения, но потом, вспомнив их и размышляя над ними, убедился в глубоком смысле и правдивости сказанного моим товарищем. Я вспомнил, что после занятий Томан часто оставался у старика, а нередко я, приходя к назначенному часу, уже заставал их вместе, и видно было, что Ганс пришел не только что, а сидит здесь уже изрядное время.
Я вскоре понял, что"Ганс гораздо ближе Сперотто, чем я, и хотя мне было это в обиду, но я не понимал, чем Томан лучше меня, тем более что мои успехи в изучении итальянского были большими, чем у моего напарника.
Видно, их связывала какая-то тайна или большее духовное сходство, чего, впрочем, я обнаружить не мог, может быть, от того, что по молодости не замечал этого. ,
Но в эти минуты, мне казалось, я все понял и вдруг обнаружил в себе мерзкое чувство совершенно не соответствующей моменту зависти: я завидовал тому, что последним возле умирающего был не я, а он, Ганс Томан.
Все эти чувства промелькнули у меня в голове и сердце за считанные Мгновения. И как только я поймал себя на мысли о греховности зависти в столь неподходящий момент, Ганс перестал плакать и прерывающимся голосом сказал мне: "Иди, он просит тебя зайти к нему". "Боже,– подумал я,– все же ты услышал меня".
Когда я вошел, Джованни был совсем плох. Он дышал с трудом и взор его был замутнен, но старик узнал меня и сделал мне знак подойти к постели.
Я подошел и встал перед ним на колени. Он, собрав последние силы, положил мне сухую и легкую руку на голову и сказал тихо и проникновенно: "Томас, мальчик мой, я должен отдать тебе мой дневник и завещание, которое прошу передать в руки твоей матери". "Она здесь,– сказал я,– позвать ее?" "Нет,– ответил Джованни осознанно и твердо.– Я не хочу, чтобы она видела, как я умираю". И он показал мне на шкаф и сказал, что в самом низу стоит шкатулка и в ней лежат зеленая тетрадь и коричневый конверт. Тетрадь он попросил сохранить в тайне от всех, а конверт отдать матушке. Я быстро нашел все, спрятал тетрадь за пазуху, а конверт решил вынести за дверь не пряча.
Я поцеловал умирающему руку и услышал, как он прошептал мне: "Да хранит тебя Бог". И замолк.
"Он умер",– сказал я, оказавшись за порогом опочивальни. Патер и лекарь, не слышно ступая, пошли в комнату покойного, а мы все встали и начали хором молиться за упокой его души.
Матушка моя была безутешна и горько плакала вместе с квартирной хозяйкой Джованни.
Дома я передал конверт матери, но она не стала вскрывать его и сделала это через три дня – только после того, как мы возвратились с кладбища.
В конверте, действительно, лежало нотариально заверенное завещание, согласно которому отцу, матери, всем нам, троим братьям, и бабушке Анне завещалась равная сумма – по двести золотых пиастров, а кроме того, еще триста пиастров Сперотто завещал патеру Иннокентию на милостыню для бедных.
Отметив девятый день после смерти доброго старика, мы на следующее утро решили уезжать в Рим.
Я и Иоганн попрощались на остановке дилижанса с патером Иннокентием, с родителями, с плачущей бабушкой Анной и сели в пассажирский дилижанс, направлявшийся через Данциг в Варшаву. Отец и мать Иоганна возвратились со стоянки дилижанса домой, а мои родители и бабушка, наняв дорожный фиакр, провожали меня до Бранденбургских ворот. Там возницы остановили свои экипажы, я вышел, попрощался еще раз и поехал навстречу своей судьбе, оглядываясь назад, но почти ничего не видел, ибо пошел дождь, из-за чего стекло стало мутным, да и я, признаться, плакал, но старался, чтобы никто из окружавших меня пассажиров, а особенно Иоганн, этого не заметил.
А он не мог этого заметить, по той простой причине, что как сел в дилижанс, так и углубился в какую-то толстую тетрадь. Причем, наверное, для того, чтобы я ему не мешал, отсел от меня подальше. Я же все больше смотрел в окно на проплывающие мимо деревни и пейзажи, а он все читал и читал. А когда я как-то спросил: "Ганс, что это ты все время читаешь?", он ответил: "Латинские штудии, Томас. Ведь впереди у нас невероятно трудные экзамены".
Тогда и я вспомнил, что у меня тоже есть записи уроков по-латыни, но когда раскрыл дорожную сумку, то сначала увидел зеленую тетрадь Сперотто и тут же предпочел ее скучным латинским штудиям.
И хотя смотреть в окно было порой довольно занятно, но все же самым сильным впечатлением от всей дороги из Кенигсберга в Рим оказалось чтение "Дневников" Сперотто. Я читал их почти не отрываясь и корил себя за слабоволие, за то, что не могу приняться за латинские уроки, которые для меня сейчас важнее всего на свете. Однако уговоры не помогали, и я, засыпая, давал себе слово – с утра заняться латынью, но, проснувшись, вновь хватался за зеленую тетрадь и продолжал читать дальше, утешая себя тем, что это тоже неплохо, так как, читая "Дневники" Джованни, я совершенствую свои знания в итальянском, ибо его "Дневник" был написан именно на этом языке.
Да, пожалуй, для того, чтобы мой сумбурный рассказ стал более связным, плавным – в который уж раз пишу я это!– наверное, имеет смысл вклеить и "Дневник" Джованни Сперотто именно сюда, так как рукопись эта о последовательности событий моей жизни, а "Дневник" я прочел именно по пути из Кенигсберга в Рим и место ему – здесь.
Итак, вот они, его записи87.
IV. ДОРОГОЙ БОГОВ.
Историко-приключенческая повесть.
"В 1976 году издательство "Детская Литература" выпустило мою историко-приключенческую повесть "Дорогой богов", посвященную невероятной судьбе польского графа Люриса-Августа Беньовского, многими называвшегося одним из величайших авантюристов своего времени. Беньовский был взят в плен русскими войсками во время Барского восстания за независимость Польши в 1768 году. Он бежал из плена, был отправлен на Камчатку, бежал и оттуда, захватив галеон "Святой Петр" и дойдя на нем до Мадагаскара, где стал первым президентом Союза Малагасийских племен. В молодости, скитаясь по Европе, Бениовский побывал в Кенигсберге, познакомился с комендантом города генералом Василием Ивановичем Суворовым и его сыном, подполковником Александром Васильевичем. Остановившись на время в Кенигсберге, Бениовский слушал лекции профессора Канта, а затем, опасаясь ареста, скрылся из города. О его пребывании в Кенигсберге, в этой книге посвящены две главы".
Глава пятая.
повествующая о встрече трех человек в деревенской кузнице, о сыновних чувствах подполковника Суворова и о верноподданном Куно фон Манштейне, попытавшемся загладить свою вину благородным и смелым поступком
Не успел Морис отойти от Ченстохова и трех верст, как погода сразу же переменилась: откуда ни возьмись, появилась темная клубящаяся туча. Она шла низко-низко, вбивая в притихшую землю слепящие стрелы молний и пригибая траву летевшим впереди нее ветром. Через несколько минут солнце скрылось за тучей, молнии полыхнули где-то рядом и прямо над головой ударил гром. Гроза застала Мориса в чистом поле. Спрятаться было негде. Морис промок с головы до ног за какие-нибудь три минуты и потом уже шел, не обращая внимания ни на гром, ни на молнии, ни на ливень.
Когда гроза стихла, но дождь еще шел и по лужам прыгали веселые пузыри, Морис увидел за поворотом, у перекрестка дорог, деревенскую кузницу и, дойдя до нее, свернул под навес. Пользуясь неожиданной передышкой, кузнец бросил под дождем и кувалду и клещи и теперь сидел под навесом у огня. Сидел он на чурбаке у грубо сколоченного стола. На другом чурбаке, спиной к Морису, сидел человек, одежда которого была сшита из светло-серой парусины, а голова повязана бледно-голубым платком. Оба они, негромко переговариваясь, хлебали щи. Увидев подходившего к ним незнакомца, они. замолчали. Кузнец жестом пригласил Мориса к столу, но он" учтиво поблагодарил хозяина и сел на третий чурбак, стоявший возле жарко горевшей печи.
Человек в платке возобновил прерванный разговор.
– А как война началась,– говорил он,– тут уж пришли мы во Бесконечное разорение. Под английским флагом пойдешь – французы топят, под французским пойдешь – англичане. Пока имперские земли держали нейтралитет, плавать было хотя и трудно, но все-таки можно, а вот как и империя ввязалась в нойну, тут мы все и сошли на берег. Хорошо еще, что живы остались. Помыкался я, помыкался и в Пиллау и в Кролевце да и подался на старое место под Братиславу, откуда сам я родом. Три года прокрестьянствовал, зимой время от времени занимался извозом, ан нет, тянет море обратно. Вот и иду в Кролевец, авось там дела сейчас получше, чем три года назад.
Между тем дождь усилился. За его шумом Морис не совсем хорошо слышал, о чем говорят кузнец и прохожий матрос.
Когда же он прислушался, то не слова, а голос матроса о чем-то напомнил Морису, но первые несколько мгновений он никак не мог вспомнить, где ему довелось слышать его. Морис стал внимательно следить за разговором.
– Мы живем к Кролевцу поближе вашего,– ответил кузнец матросу.Приходилось мне встречать людей, которые бывали в Кролевце, когда был он под прусским королем, приходилось встречать и тех, кто остался в нем жить после того, как взяли его русские. И многие из его мещан, которым доводилось проезжать мимо моей кузни, говорили мне, что русские солдаты ни ремесленникам, ни торговцам никаких обид не чинят, и даже говорили, что от налогов и податей всех вообще городских обывателей начисто освободили.
– И я хоть и слыхал то же самое,– отозвался матрос,– только не верю в это. Видано ли дело: взять у неприятеля город и не только не стребовать с него контрибуцию, но еще обывателя от податей освободить!
Кузнец пожал плечами. Как будто немного обидевшись, проговорил:
– Дыма без огня не бывает. Значит, что-то такое есть, коли люди в один голос подтверждают.
– Я наверное знаю, что это так,– произнес Морис, и кузнец с матросом с любопытством взглянули на него.– Русские, заняв Кролевец, или Кенигсберг, ка"к называют его немцы, на первых порах более всего хотели расположить местное население к себе и к своей императрице. А как это лучше всего можно было сделать? Разумеется, освободив обывателей от того тяжкого бремени, какое наложил на них постоянно нуждавшийся в деньгах прусский король. Зачем им это было нужно делать, спросите вы. Отвечу. Русским выгодно иметь благорасположенных к ним горожан в тылу их наступающей армии. Им выгодно и то, что трудолюбивые и аккуратные ремесленники Кролевца работают без боязни, что все сделанное ими или какую-нибудь часть сделанного заберут налоговые агенты. Им выгодно также развивать торговлю, в том числе и морскую. И я думаю, приятель,– Морис повернул голову к матросу,– что ты без труда найдешь работу в Кролевце...
Матрос, все время слушавший молча, при последних словах повернулся к нему, и Морис от удивления оборвал фразу на полуслове. Перед ним сидел Андрей, его старый знакомец Андрей, с которым довелось ему коротать дорогу от Братисла-вЫ до Вербова, мерзнуть на постоялых дворах и отбиваться от волков.
Андрей заметил удивленно радостное выражение лица его неожиданного собеседника и недоуменно повел плечом – он не узнал Мориса. Болезненная худоба, грязная, потертая одежда и то, как появился он, хромая, под навесом кузницы,– все это не позволяло Андрею признать в сидевшем перед ним человеке молодого барича, которого три года назад он привез в богатый графский дом возле деревни Вербово.
Морис понял, что Андрей не узнал его, и решил до поры до времени не признаваться в том, кто он и каково его настоящее имя.
И кузнец и Андрей с первых же слов Мориса сообразили, что перед ними сидит не простой человек. Поэтому учтивее, чем если бы он разговаривал со своим братом' простолюдином, Андрей спросил:
– А откуда вашей милости все это известно? Причем слова "ваша милость" можно было принять и как легкую дружескую насмешку, и как дань уважения знающему человеку.
Морис произнес весело:
– Вот уж и "ваша милость"! Кузнец, улыбнувшсь, добавил:
– Ты бы еще сказал: "Ваше сиятельство, господин граф или барон"!
И очень удивился, когда на эту его реплику Морис рассмеялся так заразительно и звонко, как будто кузнец отпустил бог весть какую смешную 'шутку. Кончив смеяться, Морис сказал:
– Я служил вахмистром в кавалерии и одно время был связным между русским и австрийским штабами. Видел русских, говорил с ними. Они мне так это и объяснили. Да вот царапнуло меня.– Морис выразительно стукнул палкой по полу.– Теперь иду к одному приятелю в Лифляндию. Говорил, что найдет мне подходящее дело. Надеюсь, не подведет.
Кузнец немного удивился, что раненый вахмистр не носит своей старой кавалерийской формы, но не -придал этому особого значения и дружелюбно заметил:
– Такому толковому парню любое дело подойдет, а если хочешь,– добавил он,– оставайся у меня. Подучу тебя кузнечному ремеслу. Дело это неплохое, всегда будешь с куском хлеба.
И, заметив, что Морис колеблется, не зная, следует ли согласиться с полученным предложением или же отказаться от него, кузнец продолжал:
– Ты не смотри, что я весь в саже и что кузница у меня старая да грязная. Деньжата у меня водятся. Даст бог, года через три-четыре я это дело побоку пущу, а на месте кузни сооружу заезжий двор. А если ко мне в подмастерья пойдешь, то мы с тобой и побыстрее дело это свершим: место здесь бойкое, народ валом валит, работы хоть отбавляй.– И, решив окончить разговор, добавил: – А я тебя не обижу. Первый год кормить-поить буду, во второй год положу тебе по пяти грошей в день.
– Спасибо тебе,– сказал Морис.– Остался бы, да вот приятель мой в Лифляндии меня ждет, идти надо.
– Ну что ж, иди,– ответил кузнец.– Значит, и в самом деле не можешь, а то кто бы от такой выгоды отказался!
– Куда ты, говоришь, идешь, приятель? – спросил Мориса матрос.
– В Лпфляндию, на мызу Тоотцен,– повторил Морис.
– Так нам с тобой по пути. Мы вместе можем добраться до Кролевца, а там тебе очень удобно будет морем добраться до Ревеля или Риги. И безопасно это, потому что, как мне говорили, теперь от Кролевца до Кронштадта на всех путях русские фрегаты и никаких других военных кораблей в Балтийском море нет.
Предложение Андрея показалось Морису заманчивым, но, немного поразмыслив, он решил отказаться. "Пойдем мы вдвоем,– подумал он,– а в моем нынешнем состоянии я Андрею не чета. Будь у меня хоть немного денег, лучше и не надо мне попутчика, чем он. А так нет, не годится".
И Морис ответил, обращаясь к кузнецу:
– А знаешь, хозяин, я, пожалуй, останусь у тебя на пару-недель. А то денег у меня 'нет, а идти надо.– И, повернувшись к матросу, сказал: – А если ты, моряк, хочешь пойти со мной дальше через две-три недели, оставайся здесь со мной вместе, деньги и для тебя не будут лишними. А там – ив дорогу.– И, не дав опомниться матросу от неожиданного предложения, спросил с лукавой усмешкой: – Ну как, Андрей, по рукам?
Андрей от изумления замер и пристально всмотрелся в лицо "вахмистра".
– Морис Август? Да вы ли это?! – воскликнул Андрей.– Вот ведь чудо! Не иначе, как ченстоховская божья матерь свела нас с вами!
...Больше месяца проработали Морис с Андреем у кузнеца; пора была горячая, дел "было до того много, что даже спать иногда приходилось урывками. От работы на воздухе с клещами и кувалдой Морис окреп и, казалось, даже раздался в плечах.
Однажды он поймал себя на мысли, что слова женевского часовщика о необходимости и полезности ручного труда не вызывают у него никакого протеста. И даже более того – нравятся ему.
Морис спросил себя, а не опустился ли он до уровня ремесленника, как и советовал господин Руссо? И, продолжая этот невольный диалог с самим собою, ответил: "Возможно". Но странное дело: и это не вызвало у него ни малейшего протеста, а почему-то пробудило довольство собою,
Улыбнувшись самому себе, Морис прошептал: "Спуститесь до уровня ремесленника, чтобы стать выше своего праздного сословия!"
Тихим осенним утром в ту короткую пору, когда в природе ярко вспыхивают все цвета и краски, когда небо становится пронзительно синим, а листья на деревьях желтыми и красными, когда в полях только начинает пробиваться изумрудная озимь и черную свежевспаханную землю перед восходом солнца покрывает серебряный иней, в эту короткую пору Андрей и Морис двинулись в дорогу, на север, к далекому морю.
Без приключений дошли они до небольшого польского городка Серадзи, а там на барже сплавились вниз по Варте до того места, где река круто поворачивала на запад. Здесь Морис и Андрей сошли на берег и снова двинулись пешком. Еще двое суток добирались они по полям и перелескам до города Добжиня, что стоял на правом берегу другой реки – Вислы, а оттуда опять поплыли на север к Эльблонгу. Наконец, сделав пятидневный переход к северо-востоку, поздним вечером добрались до Кролевца.
Город они увидели издали. Кролевец привольно раскинулся среди полей и лугов по обеим сторонам тихого, лениво текущего Прегеля. Пока путники добрались до городского предместья, успело стемнеть.
Уже в густых сумерках Морис и Андрей прошли чистенькой зеленой улицей предместья.
Почтенные обыватели в чепцах и спальных колпаках иногда выглядывали из окон, оплетенных плющом и диким виноградом, провожая Мориса и Андрея настороженными и любопытными взглядами. Вскоре улица оборвалась на' берегу глубокого рва, наполненного тинистой водой. На другой стороне рва торчал поднятый к небу разводной мост, почти закрывший собою видневшиеся из-за него большие железные ворота. Слева и справа от ворот тянулся, насколько мог охватить глаз, крутой и высокий земляной вал, поросший по склонам кустами и деревьями, с торчащими кое-где руинами старой городской стены. На той стороне рва, слева от моста, стояла полосатая будка, но часового в ней не было.
Уже совсем стемнело, но Морис и Андрей стояли у рва, не решаясь позвать стражников.
Между тем на противоположном берегу показался человек.
По силуэту было видно, что это солдат: даже в темноте высокий кивер и длинный штык были отчетливо заметны. Солдат поставил ружье в сторону, прислонив его к будке, а сам куда-то ушел. Вскоре он вернулся, неся на плече длинную лестницу. Поставив лестницу к воротам, солдат проворно взобрался на самый ее верх и стал стучать кремнем о кресало. Искры весело запрыгали в темноте, и, наконец, зажегся сначала один надво-ротный фонарь, ла ним другой.
Неяркие багровые блики упали на воду. Светлый круг у ворот, казалось, оттеснил ночную тьму, и за пределами этого круга темнота стала еще более густой и черной.
Засветив второй фонарь, солдат, почуяв, что кто-то стоит неподалеку от него, резко обернулся и, как показалось Морису, испуганно крикнул:
– Эй, что за люди?!
Спрыгнув на землю, солдат быстро побежал к будке, схватил ружье и, заметно успокоившись, спросил по-немецки:
– Кто вы такие?
И тогда Морис по-русински сказал солдату:
– Путники мы, матросы. Припозднились вот в дороге. Не опустишь ли, браток, мост?
Солдат понял все, что сказал ему Морис, и уже дружелюбно, с сожалением в голосе произнес:
– Не разрешается это нам. Подождите до света. С первыми петухами и пустим вас в город.
Морис и Андрей совсем уже было собрались повернуть назад, как до их слуха донеслось цоканье копыт. Вскоре рядом с ними остановили коней двое всадников. Один из них был здоровенный чернобородый казак в лихо заломленной набекрень шапке, с медной серьгой в ухе, другой – щуплый и маленький, в .мундире пехотного офицера, но очень ловко, по-кавалерийски, .сидевший в седле.
Осадив коней у самой воды, всадники не спешились. Казак рявкнул густым басом:
– Эй, пехота, опускай мост!
На что солдат с той стороны рва спросил:
– А кто такие будете, что вам среди ночи буду мост опускать?
Казак ответил:
– Его высокоблагородие господин подполковник Суворов с денщиком!
– Погодите айн момент, ваше высокоблагородие! – крикнул солдат и нырнул в железную калиточку возле ворот.
Не более чем через минуту он выскочил оттуда с тремя солдатами, и они споро закрутили ручки лебедок, стоящих слева и справа от моста. Черная громада моста легко сдвинулась, и с тихим скрипом мост лег на берег.
Следом за солдатами выбежал заспанный капрал, неся в одной руке фонарь, а другой на ходу поправляя треуголку.
Андрей толкнул Мориса в бок, и Морис, догадавшись, чего Андрей от него ожидает, обратился к щуплому офицеру:
– .Господин подполковник, разрешите и нам вместе с вами войти в город?
– Не меня просить надо. Не я здесь пускаю – не пускаю,– резкой скороговоркой выпалил офицер и легонько пустил коня на мост.
Заспанный капрал спросил у офицера документы, бегло просмотрел их и, приложив два пальца к треуголке, спросил: