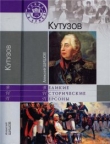Текст книги "Русско-прусские хроники"
Автор книги: Вольдемар Балязин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 31 страниц)
Для чего мне сразу же спорить и ссориться с частью моих читателей из-за такой безделицы, тем более что в потоке времени день моего рождения остался там, где и был, а откуда вести его отсчет – от сотворения мира, от греческих календ или Рождества Христова, не все ли равно?13
Родился я в Кенигсберге, в столице Прусского королевства, в правоверной католической семье – о ней я напишу позднее – и был крещен в единственной католической церкви, ибо город был почти полностью протестантским.
Крестил меня патер Иннокентий, и так как я родился в день святого апостола Фомы, то он и стал моим патроном, но на местный немецкий лад в детстве стали звать меня Томасом. А вследствие того, что моя мать была итальянкой, то она иногда называла меня на свой лад Томмазо.
Итак, я предстану в моей книге под этими тремя именами, ибо в разное время меня называли то так, а то и этак.
А Вольфом меня назвали, когда я окончил семинарию и, принимая монашество, переменил имя. Отец Ректор, памятуя, откуда я пришел в Рим и где родился, посоветовал мне взять чисто тевтонское имя – Вольф. Так я стал Вольфом де Map.
Я родился в то время, когда зараза протестантизма уже давно и надежно свила в Кенигсберге многочисленные гнезда. Нас, католиков, было в городе не более чем один человек из двадцати. И это в городе, который почти три века был оплотом истинной веры – католицизма!
Кенигсберг был необычным городом. В давние времена сюда пришли рыцари Тевтонского ордена и утвердились здесь, завоевав земли язычников – пруссов, разрушив их капища и низринув идолов, которым эти дикари поклонялись. Великие магистры ордена стали здесь полновластными хозяевами – у них под рукой были сотни, а то и тысячи вооруженных людей – рыцарей, кнехтов, простых братьев, служивших Ордену по найму, но верных магистрам, ибо все они были католики и все могли держать в руках оружие. А кроме того, сами папы благословляли и поставляли Великих магистров и Пруссию для руководства Орденом, и отсвет папского благословения всегда сиял над этими благочестивыми и смелыми мужами.
Однако и императоры Германии тоже хотели иметь свою долю во всех этих делах, а так как Великие магистры чаще всего были выходцами из лучших домов Германии14, то немецкая кровь говорила в них порою сильнее, чем просвещенный Римом разум, и они иногда, не обращая слишком большого внимания на клятву, данную Риму, вступали в светские игры, учиняя комплоты с императорами. Однако же следует признать, что только денежные и другие корыстные интересы побуждали их к таким поступкам, но в душе они всегда оставались верными католиками.
Лютерова зараза, зародившаяся в землях Империи, пронеслась по Европе как чума. Одна за другой покорялись "бешеному быку Мартину" страны с их гражданами, а стало быть, и епархии с их прихожанами. Первой отпала от Святого престола Германия, потом Швейцария, Швеция, Англия и многие иные страны. Во главе этих новых еретических государств встали разные люди иной раз это были их собственные короли и герцоги, иной раз бургомистры и члены городских муниципалитетов, случалось, что и простолюдины деревенские мужики и отставные солдаты становились новоявленными "кардиналами" нового протестантского антипапы Мартина Лютера.
Я не раз размышлял над феноменом протестантизма, над тем, почему именно в 1519 году возникла вселенская лютерова ересь и почему она так быстро победила во многих странах христианского мира? Однако же пока повременю писать об этом, а расскажу обо всем в своем месте, когда придет пора поведать о годах обучения в семинарии, где знающие и, как мне тогда казалось, честные богословы и наставники знакомили нас с этим наваждением и давали ему разные, но в общем-то интересные объяснения.
А здесь я намерен объяснить, почему должен был хотя бы упомянуть о Реформации и лютеровой ереси. Может быть, и не стал бы, да больно уж много значила она для нас, простых смертных, обыкновенных бюргеров, для любой семьи и любого отдельного человека. Иногда думают, что-де такого страшного или же опасного в богословских догматических диспутах? Что плохого могут принести их результаты для простого мирянина – тем более что результатов самого спора как средства выявления истины эти диспуты никогда не приносили?
Для ученого-богослова итог диспута, чего бы он ни касался, всегда мог кончиться плохо – спорь он о чистилище, или о вознесении Богородицы, или о чем другом, столь же отвлеченном, потому что ученый-богослов, если он ошибался, должен был как минимум покаяться и в зависимости от глубины заблуждения и степени вины обязательно нес наказание – от малой эпитимии до сожжения живым на костре15. А победитель диспута из лиценциата превращался в доктора и тем самым не только укреплял свой авторитет среди ученых собратьев, но и получал немалую прибавку к жалованью. Случалось же, что о диспуте узнавали в Риме, и если папе и кардиналам было угодно, то они делали диспутанта деканом богословского факультета, а то и ректором семинарии или даже академии. Нередко же сами диспуты инспирировались Ватиканом, чтобы утвердить какое-нибудь новое положение, и тогда победитель диспута вознаграждался по-царски, получая либо большую пожизненную пенсию, либо становясь приором богатого монастыря или главой какого-нибудь тучного аббатства.
Так вот, возвращаясь к вопросу о том, какую опасность могли представлять для мирян – мужиков, ремесленников, дворян, купцов и прочих, кто не носил сутаны и не прислуживал за деньги церкви,– эти диспуты о чертях и ангелах?
Это сейчас, когда я пишу мою книгу, они не то, чтобы приутихли, нет, пожалуй, еще более разгорелись, чем когда-либо, только теперь к эпитимьям почти не прибегают, а уж если такое и случается, то ограничиваются покаянием и уж, в крайнем случае, велят сорок раз прочитать "Отче наш" или "Верую".
И опять я ушел в сторону – вот она старческая болтливость. И опять не ответил на вопрос, который сам же и задал. Так вот отвечаю.
И Лютер начал с богословских споров, а кончилось" это тем, что христианский мир раскололся, как глиняный горшок, какие кидают с балконов горожанки в подгулявших ночных пьянчуг, базланящих под их окнами похабные песенки немытых и нечесаных оборванцев вагантов16.
Все у Лютера началось с тайных сходок, "нового прочтения", как они говорили. Библии, с подметных листов, а которых богословы начали апеллировать к неграмотным мужикам и городским простолюдинам, а кончилось тем, что Рим потерял половину приходов.
Ну а там, где появилась новая религия, верным сынам и сторонникам старой, истинной религии места уже не осталось – они стали париями и изгоями.
Мои прадеды и прабабки, как я думаю, не очень-то боялись виттенбергского еретика17, потому что жили в Кенигсберге – оплоте католицизма. Ведь, как я уже писал, здесь же жил Гроссмейстер Ордена Альбрехт из дома Гогенцоллернов, а его Орден назывался не просто "Тевтонским", что означает "немецкий", но его полное название звучало так: "Орден святой девы Марии Тевтонской", а его рыцари все были братьями Ордена, принявшими обет монашества. Можно ли было представить, что не пройдет и десяти лет, как и сам Гроссмейстер и все его комтуры, фогты и простые братья-рыцари сорвут с себя белые плащи крестоносцев-паладинов Богородицы и верных сынов церкви и станут, за малым исключением, вероотступниками – лютеранами?
А случилось именно так, и Гроссмейстер, сговорившись с королем соседней Польши Сигизмундом, сменял свой сан на светский титул Герцога Прусского, женился, посадил своих комтуров и фогтов в помещичьи дома и зажил дальше как ни в чем не бывало. А потом в Кенигсберге появился зять Лютера Филипп Меланхтон и вскоре не без поддержки Альбрехта стал в городе первым человеком.
Даже, когда я еще жил в Кенигсберге, память о Меланхтоне сохранялась довольно прочно. О нем говорили, что он – простолюдин и сын оружейника был ученейшим человеком, прозванным еще при жизни "Учителем Германии". Он многих обратил в новую веру, ибо был искусный проповедник и опытный диспутант, вследствие чего почти все жители города перешли в его веру. Однако мои предки остались привержены истинной вере и не поддались соблазнам лжеучителя Филиппа.
***
Когда я появился на свет, католиков в Кенигсберге было совсем мало, община была бедна и, честно говоря, не очень-то благочестива. И следует признать, что и семьи наших единоверцев жили беднее еретиков – лютеран, не только потому, что те позанимали все доходные места и в цехах, и в гильдиях, и в магистрате, и в судах, но и потому, что работали и жили совсем по-другому, чем мы, католики.
Протестанты считали первейшим делом на земле труд, а мы, католики,молитву. Они считали, что царство Божие завоевывается добрыми делами, то есть опять же трудом, а мы верили в искупление греха – а стало быть, и твердую гарантию попасть после смерти в рай – опять же молитвой.
Протестанты считали, что каждый христианин может служить Богу, говорить с ним и толковать Библию так, как велит ему его разум и сердце, а мы считали, что только священники могут толковать Священное писание и представать перед Богом нашими защитниками.
Из-за всего этого каждый протестант со дня рождения чувствовал себя свободным и равным со всеми, а мы, католики, были смиренными рабами Божьими, а кроме того, и послушной паствой наших наставников и исповедников.
Хотя, конечно, бывали и ленивые протестанты, как бывали и работящие католики, но все же чаще прилежность и трудолюбие, а вместе с ними и достаток поселялись в домах еретиков-протестантов.
Бывалые люди, повидавшие свет, говорили, что если смотреть на это дело честными глазами, то приходится признать – везде, где утвердились протестанты, будь то Швейцарские кантоны, Бранденбург, Саксония, Швеция, Дания, Англия или даже английская колония в Северной Америке – новый Амстердам, где поселились бежавшие туда голландские протестанты,– везде народ живет богаче, свободнее, хотя, правда, и не так весело.
"Они все время работают,– говорили бывалые люди,– честно торгуют, рано ложатся спать, скаредно считают свои сольди и гульдены, не любят похваляться украшениями и не тратят все деньги на модные одежды. Кроме того, они намного меньше нас пьют вина, избегают ходить на карнавалы, редко кто из них играет в карты или кости, а их молодые люди часто предпочитают всему этому чтение или умную беседу. Оттого их дома всегда покрыты черепицей, окна чисто промыты, а возле домов, даже в больших городах, много цветов и декоративных кустов".
Мы, католики, слушали эти рассказы и хотя и верили им, но все же чаще всего они вызывали у нас и досаду и чувство протеста. "Да черт с ними и с их богатством. Не богатый, а праведный войдет в царствие небесное",отвечали им наши единоверцы – ортодоксы и часто добавляли популярную у нас фразу из Писания: "Скорее верблюд пройдет через игольное ушко, чем богатый в царствие небесное". А так как почти все мы жили намного беднее окружавших нас в Кенигсберге протестантов, то единственным нашим утешением было то, что наша вера приведет нас в рай, а им – еретикам и вероотступникам, что хуже всяких язычников,– конечно же уготована одна дорога – в преисподнюю.
Наши особо сильно верующие католики даже не понимали, зачем вообще жить богато? Зачем денно и нощно копить деньги или с восхода солнца и до заката пахать землю, когда во сто крат приятнее для души – сходить в церковь, надев что получше, поговорить с друзьями обо всяких всякостях и, посидев в церкви на скамейке с закрытыми глазами, ну, а если надо, то и немного постояв на коленях, пойти потом в местную тратторию или таверну, выпить там кварту-другую доброго итальянского или французского вина и перекинуться в картишки или сыграть в кости, даже просто так, а не на деньги18.
А кроме того, мы все знали, что работай не работай, всех денег все равно не заработаешь, а царства Божьего им – отступникам и схизматикам – ни за что не видать как собственных ушей. Потому что не в труде дело и не в богатстве счастье, а в вере. И потому все мои родственники и знакомые единоверцы гордились тем, что мы католики и по Божьему соизволению появились на свет в семьях, где прадеды и деды, прабабки и бабки исповедовали истинную веру – католицизм.
И я тоже гордился тем, что родился католиком и что принадлежу к церкви истинной, первым епископом коей был один из любимейших учеников Христа апостол Петр, а не какой-то там немецкий свинопас, и, кроме того, моя Церковь стоит уже полторы тысячи лет, а жалкое еретическое сооружение Лютера и его лукавых единомышленников не пережило еще и трех людских поколений. И как любил говаривать наш священник добрый патер Иннокентий, история еще покажет, кто из нас прав, а она – история – льет воду на нашу мельницу и работает на нас, потому что Бог на нашей стороне, ибо он не там, где богатство и сила, но там, где хотя бы и бедность, да зато и праведность.
И потому мы, католики, жили в городе как бы одной большой, дружной и веселой семьей. А что касается моей собственной семьи, в которой мне довелось появиться на свет, то она была типичной католической семьей. Оглядываясь теперь назад с вершины моего шестидесятилетия, я понимаю, что мои родители были как раз из тех, кто не очень-то умел, а потому не слишком любил работать – да простит мне Господь грех осуждения отца и матери! – но когда приходится выбирать между непочтением к памяти родителей и ложью, то я предпочитаю, как говаривал язычник Цицерон, "из зол выбирать наименьшее" и потому пишу не очень сладкую правду.
Отец мой от природы был наделен многими достоинствами. Он был мягок, бесконечно любил меня и двух моих младших братьев, появившихся через восемь лет после моего рождения. Любил и мою мать, любил голубей и собак, чужих детей и, как я понял впоследствии, чужих жен тоже, но более всего любил он досуги и оттого редко бывал дома, предпочитая играть с приятелями в кости и в карты и проводить дни в таверне "Веселый медведь", славящейся своим винным погребом и тем, что туда частенько заглядывали гитаны и путаны19. Зарабатывал же отец на жизнь тем, что играл в небольшом оркестре, чаще всего на разных семейных праздниках и особенно любил играть на свадьбах. Отец был талантлив, необычайно музыкален и владел любым инструментом. За это его ценил дирижер оркестра и его первая скрипка – маэстро Джованни Сперотто, появившийся в городе в годы моей юности. Маэстро был итальянцем, родившимся в Швейцарии, и как многие жители Швейцарских кантонов прекрасно говорил на трех языках, зная кроме своего родного еще два – немецкий и французский. Он иногда заходил к нам домой, и его немецкий язык восхищал меня и отца, а итальянский – мать и бабушку.
Маэстро был высок ростом, краснолиц, одноглаз и сильно хромал на левую ногу. Он приехал в Кенигсберг из Испании, где, как он рассказывал нам, католикам, воевал на стороне католиков против мавров, но, не будучи хвастливым, не приписывал себе великих подвигов, а честно говорил, что служил простым санитаром.
Джованни был одинок, жил неуютно, а наш дом – теплый, гостеприимный и веселый – всегда оказывался открытым для старого весельчака и рубаки. А как Джованни играл на скрипке! А какие карточные фокусы он знал! Но интереснее всего были его рассказы о необыкновенной его жизни и необыкновенных приключениях в Швейцарии, Италии, Парагвае, Испании.
Тогда я мало что запомнил из того, что он рассказывал моим родителям и бабушке, но хорошо запомнил, с каким восторгом слушали они бывалого старика.
Сначала Джованни заходил к нам довольно редко, "потом зачастил не на шутку", как пела в одной своей любимой народной итальянской песне моя бабушка Анна, а потом я не помню почти ни одного вечера, когда бы Джованни не приходил к нам. Не было ни одного праздника, ни одной пирушки, да и ни одного домашнего дела, в котором бы он ни участвовал. Он стал не просто другом дома, но и его добрым ангелом.
Особенно же заботливым и трогательно нежным он стал после того, как моя матушка родила сразу двух мальчишек, моих братьев – двойняшек.
Это случилось в тот самый памятный не только для нас, но и для всей Европы день, когда корабли безбожного Зигфрида Берксерьера обстреляли Данциг и высадили десант. Однако об этом я расскажу подробнее чуть позже.
Все в Кенигсберге впали в сугубое и глубокое уныние и даже поддались страху и панике. И лишь наша семья, а вместе с нами и Джованни, были веселы и радостны. Протестанты злобно косились на нас, полагая, что мы радуемся тому, что скоро Берксерьер ворвется в Кенигсберг и присоединит и Пруссию к своей Империи, в которую постепенно из-за недавно начатых им захватов превратился его поганый и изначально совсем небольшой Бранденбург. А мы-то просто радовались прибавлению в семействе и гуляли трое суток, как только мама смогла сесть за стол вместе со всеми, и нападение Берксерьера на соседний Данциг было здесь совсем ни при чем.
Старик Джованни был рад не меньше всех нас и предложил назвать мальчиков именами двух героев Италии – Джироламо Савонаролы, великого мыслителя, и Джузеппе Арчибальди – воина и патриота, освободителя страны от Габсбургов.
"Пусть Джироламо станет великим ученым, и пусть Джузеппе станет коннетаблем",– предложил добрый старик, не отрывая восхищенного взора от двух моих братишек, лежавших в колыбельке, стоявшей рядом с табуретом, на котором сидела мать.
Мы все согласились со стариком, а он, прослезившись, подарил два нательных золотых крестика малышам и золотое кольцо их счастливой матери. И чтобы никого не обидеть, подарил бабушке Анне иконку святой Девы, отцу серебряный бокал, а мне – книжку с картинками о путешествиях великого мореплавателя Васко да Гамы.
Здесь следует сказать, что мать моя была под стать отцу – она и пела, и танцевала, и так же, как он, любила застолья и праздники. Да они и познакомились на какой-то свадьбе, сразу же полюбили друг друга, вскоре же обвенчались и в первый же год супружества произвели на свет меня – старшего из трех сыновей.
Наверное, моим родителям больше нравилось делать детей, чем потом заботиться о них, потому что после того, как матушка моя разрешилась мною еще раз прости меня. Господи, за непочтительность к родительнице!– она вскоре снова забеременела и поняла, что если уж не может управиться со мной одним, то где же ей поднимать двоих сразу? Но не было бы счастья, да несчастье помогло: случился выкидыш, и я долгое время оставался единственным ребенком в семье.
А надобно сказать, что новое ее положение не прибавило матушке ни сноровки, ни трудолюбия. Она попала в Кенигсберг всего несколько лет назад с труппой бродячих итальянских комедиантов. В труппе ей поручали небольшие роли, но иногда она играла и разбитную, остроязыкую Серветту и в жизни иногда подражала ей, реагируя на реальные ситуации так, словно все вокруг нее происходящее творилось на подмостках "Комедии делъ арте"20.
В это время у одного из членов нашего прихода, кажется, это был итальянец Джакомо Толедано, случилась свадьба, на которую он пригласил оркестр, где играл мой отец, и туда же позвал он и оказавшуюся в городе итальянскую труппу. Остроязыкая Серветта сразила сердце молодого скрипача де Мара, а что из этого вышло, читатель уже знает.
Отец мой, в отличие от матушки, был местным уроженцем, его предки появились здесь во время первой религиозной войны, начавшейся во Франции, когда мой прадед был еще совсем молодым человеком. Не желая испытывать судьбу, он перебрался в Эльзас, а оттуда добрел до Гамбурга и на каком-то ганзейском корабле прибыл в Кенигсберг.
Здесь прадед женился на местной жительнице – она была чистокровной немкой из порядочной и благочестивой семьи, оставшейся верной католичеству,– и они зажили дружно и счастливо. Родители прабабки приютили бездомного зятя в своем доме, и этот дом и стал приданым их единственной дочери, а дед был гол как сокол, и ничего, кроме себя, в их дом не принес, осчастливив ее только единственным сыном и звучной аристократической фамилией – де Map. Потом по мужской линии вновь произошла такая же история – у деда родился тоже один сын – мой отец, и его назвали на чисто немецкий лад Георгом, потому что дед еще кое-как говорил по-французски, а отец уже знал лишь несколько расхожих слов и фраз вроде "бонжур", "мерси", "силь ву пле"21 и что-то еще в таком же роде.
Матушка же моя к языкам оказалась очень способной, и, когда я родился, она уже могла бойко тараторить со мною по-немецки.
С самых малых лет она стала каждый день водить меня в церковь. Там был и ее и мой второй дом, точно так же, как и для большинства наших единоверцев живших в Кенигсберге.
А по дому управлялась приехавшая к нам из Италии бабушка Анна – мать моей матушки. Если бы не она, то я не знаю, кто бы нас всех кормил, поил, купал, обстирывал и обихаживал. Бабушка Анна приехала к нам сразу же, как только на свет появился я – ее первый внук,– и сразу же на всю жизнь прикипела ко мне своим добрым, но твердым сердцем.
И я сразу же полюбил бабушку, но с годами все больше удивлялся некоторым ее привычкам и чертам характера. Бабушка была добра и часто утаивала для меня самый лучший, самый лакомый кусочек, а то и давала один-два сольди на лакомства или на покупку какой-нибудь игрушки деревянного кинжала или щита из покрашенной жести. И я таким образом мог много раз убедиться, что она по ее малым возможностям щедра и не скаредна.
Однако, что касалось ее самой, то здесь бабушка была совсем другой. Она сметала со стола оставшиеся после еды хлебные крошки в ладонь и аккуратно слизывала их все до одной. Она доедала прокисший суп, даже если его оставалось две ложки, и аккуратно сушила на плите малейший кусочек хлеба и сберегала самую малую подгоревшую корочку, а потом складывала сухари в мешочек и уносила к себе в комнатку. Когда сухарей набиралось довольно много, бабушка брала мешочек и несла его к церкви, раздавая сухари нищим. А потом я заметил, что она – крестьянка с добрым сердцем, выросшая в деревне,– никогда не давала ни кусочка пищи ни бродячим собакам, ни приблудным кошкам, отгоняя их от дома и называя при том "дармоедами".
Только голубей и воробьев кормила она иногда, высыпая на крыльцо хлебные крошки и приговаривая: "Бедные, вы мои, бедные. Где же вам взять, кто же вам что даст?"
Матушка не верила своему счастью, когда бабушка Анна переступила порог нашего дома. Она просто не могла представить, что бабушке удастся выбраться из Италии, где она жила до приезда к нам.
Моим читателям, особенно молодым, трудно будет понять, почему тогда нельзя было уезжать или уходить из одной страны в другую, кроме купцов, моряков, вестонош, гонцов и всяких там нунциев, резидентов и послов.
Дело в том, что римский папа Василиск запретил жителям Папской области уезжать куда-нибудь, кроме других земель Италии, опасаясь, что они выдадут какие-нибудь важные секреты его врагам. А врагов у папы было предостаточно – чуть ли не весь мир. Из-за этого же папа запретил в Италию въезд всем инакомыслящим и исповедующим другую веру, будь то иудей или магометанин, а пуще всего опасался он протестантов, потому что считал, что они хуже язычников, так как с язычников что возьмешь – они и от рождения были язычниками, а вот протестанты – те во сто крат хуже, ибо они и их родители продали Христа и предали его Церковь.
Следует сознаться, что и к нам, католикам, во многих протестантских странах стали относиться с подозрением и– видели в нас папских соглядатаев и лазутчиков.
И потому в Кенигсберге жизнь шла сама по себе, а у нас в общине – сама по себе, почти как в еврейском гетто, тоже сильно обособленном от всех – и от католиков, и от протестантов.
Я, конечно, не помню, как появилась у нас в доме бабушка Анна, но потом, когда я стал побольше и только-только прошел конфирмацию и был принят в общину, отец и мать однажды, взяв с меня клятву в вечном молчании, рассказали, почему бабушке разрешили приехать к нам22.
Оказалось, что бабушке Анне лет за десять до моего рождения довелось служить прачкой на знаменитой папской вилле "Монте-Сперанца", где провел последние годы предыдущий папа Илия Святой. Из-за того, что бабушка Анна три года обстирывала больного папу Илию и всех обитателей виллы "Монте-Сперанца", к ней неплохо относились сестра покойного, жившая с ним вместе на той же вилле, и его ученица Бона Сперанца, тоже обитавшая на вилле.
Сестра Святого Илии похлопотала за бабушку, и ей позволили выехать к дочери, заставив дать клятву в том, что она ничего не будет рассказывать о ее службе на вилле "Монте-Сперанца". Бабушка поклялась, и тогда ее заставили расписаться на бумаге, где ее клятва была записана секретарем инквизиции. Бабушка не умела не только читать и писать, но даже не могла и расписываться. И тогда секретарь обмазал бабушке указательный палец правой руки чернилами и как печать приложил к написанной им бумаге.
Потом бабушке дали еще одну бумагу, по которой она получила право выехать из Италии, и с тем отпустили восвояси. А если бы не сестра Святого Илии, то никогда – говорили родители – нам и в глаза ни увидать бы бабушки Анны.
Я выслушал все, что они мне сказали, но по молодости лет ничего не понял и потому спросил:
– Если бабушка Анна удостоилась великой чести стирать белье и простыни самого Святого Илии, его сестры и верной ученицы и сподвижницы Боны Сперанцы, разве не должна она рассказывать об этом всем католикам? У нас в городе, да и вообще в христианском мире, едва ли найдется дюжина таких счастливиц, которым довелось не только видеть живых святых, но и по силам своим служить им? – И еще я сказал: – Какие тайны может знать прачка?
Но отец лишь вздохнул с печальною укоризной, а мать сказала сердито:
– Говорила я тебе, что рано ему еще знать обо всем этом.
– Ничего,– ответил отец,– пусть знает, а станет побольше – поймет и разберется.– А мне сказал:– Ты, сынок, главное, никому не говори об этом ни одного слова.
Это непонятное, но обязательное условие – молчать и никому ничего не рассказывать из того, что ты слышал в семье или от других близких,– было одним из важнейших требований нашей жизни. Это была первая заповедь, которая соблюдалась строже, чем всякие прочие. Мы с трех-четырех лет, еще не ведая о Заповедях Господних "не убий!", "не укради", "не возжелай жены ближнего своего" и других,– ни на минуту не забывали о невозможности преступить Великий Запрет – молчания и тайны, ибо нарушение этого могло привести к совершенно непредсказуемым и ужаснейшим последствиям: человек, разговор с которым ты передавал кому-нибудь еще, почти всегда или таинственно и бесследно исчезал, или его находили мертвым, или зарезанным, или отравленным, а если он и оставался жив, то по непонятной причине почти всегда вдруг сходил с ума.
Чаще всего такое случалось с католиками, но иногда и с протестантами.
Никто не говорил о произошедшем вслух, но все были уверены, что делают это тайные агенты Римской инквизиции, и потому трепетали от страха днем и ночью, чтобы, не дай Бог, не навести такую беду на себя или своих ближних.
Я поклялся, и отец сказал, что попросит бабушку рассказать мне о ее жизни в Италии, и все же, хотя я уже дал отцу слово молчать, он еще раз предупредил меня об этом.
– А почему вы именно сегодня завели со мною разговор об этом? спросил я родителей.
– Сегодня мы отпразднуем дома твою конфирмацию, а значит, и выпьем винца,– сказала мать.– А ты знаешь, что бабушка Анна любит выпить, а когда выпьет, то сначала веселится и поет неаполитанские песни, а потом, когда добавит еще, начинает плакать, и тогда ее уже никак невозможно удержать от горестных воспоминаний и печальных рассказов. Раньше мы не позволяли тебе выпивать вместе с нами и отправляли спать вместе с маленькими, а теперь ты прошел конфирмацию и стал почти взрослым и можешь один вечерок посидеть с нами и с бабушкой.
Вечером мы собрались вчетвером и, закрыв ставни, затеплив очаг и заперев дверь на засов,– чтобы если кто из посторонних неожиданно пришел бы, то подумал, что нас нет дома.
Все были одеты нарядно и празднично, и на столе стояло все лучшее, что было в доме. Родители подарили мне "Библию для детей", а бабушка маленькую иконку Апостола Фомы – моего святого небесного патрона.
Из-за всего происходящего бабушка необычайно растрогалась, очень разволновалась и опьянела и скорее, и сильнее обычного.
Подперев щеку рукой, она сначала завела одну за другой несколько печальных деревенских песен, а потом вдруг заплакала и предложила выпить за упокой души Святого Илии.
Культ Илии был так велик и любовь к нему у простых католиков, где бы они ни жили, была столь чиста и искренна, что мы все тут же с энтузиазмом поддержали бабушку Анну.
А после этого она положила легкие, сухие натруженные руки с большими коричневыми мозолистыми ладонями перед собою на край стола и, тихо всхлипнув, тут же подавила в себе готовый было вырваться новый приступ плача, начала рассказывать тихо и грустно, с какой-то молитвенной интонацией (а матушка переводила мне и отцу бабушкин рассказ, иногда плача вместе со своей старой матерью).
– Если бы кто-нибудь взялся жизнь мою описать, толстая бы вышла книга. Ну, внучек, послушай, как я жила. В день конфирмации тебе надо многое узнать, чтобы не запутаться в жизни и знать что почем.
Родилась я, Томичек, в бедной семье. И работали мы помногу и подолгу, а жили бедно. Потом, когда Святой Илия заварил всю эту кашу, то стало и совсем худо. Мужики, бабы и ребятишки пухли с голода, потому что хлеб у нас поотбирали силой вооруженные рабы из города и говорили, что он им нужен, чтобы солдат кормить и городских рабов, которых Илия объявил вольноотпущенниками23, но держал на мануфактурах с утра до ночи, потому что перед тем четыре года шла война и все пооборвались, и вещей никаких не было, и надо было мужиков и баб во что-то одевать и обувать, а пуще всего делать для солдат оружие и пушки всякие, да еще и о священниках не забывать,– они были возле Илии, и хотя их называли братьями, мы-то знали, что живут они, как прежде жили архиереи, и стало священников и монахов почему-то много больше, чем прежде, и с каждым годом становилось все больше и больше.
Потом Илия всех своих супостатов побил, из Италии прогнал и дал мужикам жить чуть повольготнее – отбирал только половину хлеба, а другую половину оставлял и на прокорм для самих себя, и на посев, и на продажу.
И зажили мы хотя и хуже прежних, совсем старых, еще довоенных времен, но с голоду не пухли, и даже начали новую одежонку справлять, а некоторые даже коней и коров у себя в хозяйствах завели. Купили и мы коня и корову и на радостях в знак благодарения Илие, что избавил нас от голодной смерти, купили дешевую, но большую гравюру с изображением Илии, когда он в Рим въезжал на боевой колеснице с квадригой белых коней. Очень была красивая гравюра и называлась "Въезд Илии во Рим".