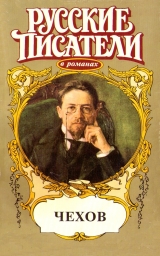
Текст книги "Ранние сумерки. Чехов"
Автор книги: Владимир Рынкевич
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 35 страниц)
XVIII
На ситцевом костюмированном балу, устроенном Обществом попечения о бедных и бесприютных детях, предсказанное Иваном почти произошло. Лена Шаврова, одетая фарфоровой статуэткой, задыхалась от радости, представляя своему учителю вполне уже развитые груди и бёдра, пикантно обтянутые матовым ситцем. Он знакомил её с сестрой, но она смотрела только на него, не слышала, о чём её спрашивает Маша, и в бальной суете, как бы из-за толкотни, то и дело прикасалась к нему рукой, плечом, грудью, обдавая ароматом духов и девичьего тела.
– Антон Павлович! Какое счастье, что я вас вижу, – повторяла она.
Он, разумеется, не мог испытывать никакого счастья под хмурыми взглядами Александра Третьего и Марии Фёдоровны, устремлёнными на него с портретов над оркестром, который играл пошлый подэспань, а вычурные ситцевые костюмы, прыгающие по кругу Колонного зала в парах с погонами или манишками, вызывали тоскливое чувство потери – словно он вернулся в знакомый дом и увидел вместо друзей чужие равнодушные лица. Когда студент Чехов впервые оказался в этом зале, на него со стены смотрел царь-освободитель, танцующая молодёжь, состоявшая из читателей Чернышевского, Милля и листовок «Народной воли»[26]26
...состоявшая из читателей Чернышевского, Милля и листовок «Народной воли»... – Милль Джон Стюарт (1806—1873), сын Джеймса Милля, английского философа, историка и экономиста, также был экономистом и общественным деятелем. Он считается последователем О. Конта и основателем английского позитивизма.
[Закрыть], излучала энергию радостной борьбы. Потом ещё были баркаролы Рубинштейна[27]27
...баркаролы Рубинштейна... – Рубинштейн Антон Григорьевич (1829– 1894) был композитором, пианистом, дирижёром, основателем первой русской консерватории (1862 г., Петербург); автор опер «Демон», «Нерон», «Персидские песни», инструментальных и фортепианных произведений. С 1890 по 1910 год проводился конкурс пианистов и композиторов имени Рубинштейна.
[Закрыть], иносказания литературных вечеров, Надсон...
– Вам нравится мой костюм? Как вы думаете, мне дадут приз?
– Я присудил бы вам первый приз. А ты, Маша, как думаешь?
– Уж не ниже, чем второй.
– Но лучше, Лена, оставайтесь вне конкурса. И в жизни, и в литературе, и во всём прочем оставайтесь вне конкурса. Так я всегда поступаю сам.
– Я должна вам так много сказать, Антон Павлович. У меня есть новые рассказы. Ещё не совсем законченные. Вы мне должны посоветовать, что с ними делать. И ещё я хотела вам сказать... Вы разрешите мне к вам прийти?
Её слишком откровенный, слишком женский взгляд, те же знакомые пухлые щёчки, подбородочек, убегающий куда-то к шее, делали девушку понятной до дна и ненужной, как пустой стакан. Третий вариант исключался.
– Милая Лена, к сожалению, я завтра уезжаю.
– Неужели опять на Сахалин?
– Нет. Всего лишь в Петербург.
– Ещё я хотела вам рассказать, что начала ходить в театральную студию.
– Леночка, девушка с вашим литературным талантом не имеет права отвлекаться от литературной работы. Пишите рассказы. У вас хорошо идёт ялтинский материал. Напишите, например, о Зильбергроше...
В буфете было так же уныло, как и в зале. Благотворительница-буфетчица смотрела на посетителей с тем же жадным ожиданием, с каким Лена глядела на него. Торговля шла плохо, пьяных почти не было, только за столиком возле буфетной стойки сидел некто в одиночестве, опустив голову в пьяном раздумье. Когда он посмотрел на этого мыслителя, тот, почувствовав сильный взгляд, встрепенулся, а заметив, кто на него смотрит, поднялся, подошёл и сказал:
– Я вас узнал, а вы?
Длинный визитный сюртук был неуместен на этом человеке, как и сам он был неуместен здесь, на балу, с мокрым измятым лицом давно не протрезвлявшегося пьяницы.
Усадив Машу и Лену за столик, пришлось отойти с ним в сторону, чтобы другие не услышали пьяных речей бывшего героя тайных студенческих сходок.
– Опять в Москве? Помиловали?
– Меня нельзя помиловать, я приговорён совсем... Навсегда! У меня отняли молодость и здоровье, но истина не в этом!
– Истины те же, что и тогда?
– Истина в том, что когда мы шли на виселицы и на каторгу, ты Катьку... это... Помнишь Катьку Юношеву? И писал зубоскальство. «Письмо учёному соседу». Когда Ульянова вешали, ты писал сказочку про степь... Не говори своим женщинам, кто я. Скажи: неизвестный.
Отделавшись от пьяного, сел за столик, стараясь скрыть обиду и раздражение. Сказал, наливая себе coupe glacee:
– С такими благотворителями дети долго не протянут.
– Что же делать, Антон Павлович, – оправдывалась Лена, участвовавшая в подготовке бала. – Я не знаю, почему так скучно, такая маленькая прибыль. Никаких пожертвований.
– Люди стали эгоистами, – сказала Маша. – Думают только о своих удовольствиях.
– Фен де сьекль, – констатировал он.
– Что с вами, Антон Павлович? Вы такой скучный. Кто этот человек?
– Из ссылки.
– Красный?
– Сейчас все красные стали розовыми. Наверное, от водки.
– Вы его знаете?
– Нет. Неизвестный человек.
– В Ялте вы были совсем другой.
– Я посмотрю, что у них за конфеты, – сказала Маша и поднялась из-за столика.
– Старею, Лена.
– Антон Павлович! Вы моложе всех мужчин на свете! Я хотела спросить, вы в Петербурге, конечно, будете у Суворина?
– Я буду у него жить.
– Передайте мою благодарность Алексею Сергеевичу за его доброе отношение. Я, конечно, понимаю, что он печатает меня благодаря вам, но и ему тоже я обязана.
Неужели и ему тоже?
Третий вариант с нежными, едва заметными прыщичками на щеке возле ушка остался скучать в залах Благородного собрания, а из оставшихся двух был избран главный, самый сложный: в день отъезда он посетил Мизиновых. Бабушка Софья Михайловна засуетилась, прибирая гостиную и оправдывая Лику, с утра ещё не успевшую привести себя в порядок.
– Лидия Стахиевна подобна солнцу, – успокоил он её, – а зимой солнце поднимается поздно.
– Она у нас очень хорошая, аккуратная, но вечерами ходит на уроки. Лидия заставила ставить голос. Приходит другой раз поздно...
Разбросанные ноты, косынки на стуле, кофточка на другом, фотографический портрет Чайковского брошен на краю стола, и его наполовину закрывает книга рассказов Мопассана – это не беспорядок, а стиль. Волнующий аромат богемы.
– Мы читали ваши статьи из Сибири. Вы так выводите людей – читаешь и видишь...
Лика вышла в пеньюаре, по пояс обвитом распущенными пепельно-золотистыми кудрями, аккуратно оставившими свободной середину груди с нежными симметричными припухлостями и синей ложбинкой. Встретив её спокойный, грустно-укоризненный взгляд, он понял, что сюда не следовало приходить, а если пришёл, то надолго, если не навсегда.
Раздумывая о способах спасения, он сказал, что обещал сахалинскому начальству выслать программы для училищ, а Маша очень занята, и поэтому он обращается к ней. Поскольку он уезжает в Петербург, то выслать программы придётся туда. Лика покорно согласилась, записала петербургский адрес – адрес Суворина, принимающего его у себя, а он с некоторым раздражением представлял, что если сейчас уйдёт, девушка спокойно попрощается, а если потребует лечь с ним – покорно разденется и ляжет, разве что бабушка помешает. Эта тихая покорность не делала Лику ближе, понятнее, а, наоборот, позволяла ей ускользать. Если он не будет настаивать, уговаривать, требовать, Лика навсегда останется подругой Маши и её братьев. Ни шагу, ни знака, ни движения навстречу, как это было у прежних его подруг. Только покорность. Странная ускользающая покорность.
– Неужели вы действительно верите, что я пришёл только ради программ?
– Вы так сказали.
И в глазах упрёк и недоумение, и хочется прижать её к груди, целовать, ласкать и говорить глупые любовные слова.
– Нет, уважаемый Думский писец, я еду в Питер только для того, чтобы получить там от вас любовное письмо. Чтобы не ввергать вас в расходы, вручаю вам марку.
– Зачем вам любовное письмо от меня, если... Если всё так?
– Для того, чтобы всё было не так, а по-другому. Я говорю о нашем неудачном свидании.
– Я не знаю... – Девушка старалась преодолеть смущение. – Вы в тот вечер плохо себя чувствовали... Потом болели...
– В тот вечер вы плохо себя вели, Лика. На любовном свидании девушка должна быть поэтичной. В любовном письме напишите мне о нашем будущем свидании.
Прощаясь, целовались, и он в своих объятиях узнавал прежнюю наивную влюблённую девушку, но, оторвавшись от него, она вдруг резанула насмешливо-любопытным взглядом коварной обольстительницы и сказала:
– Вы дали только одну марку. Вам достаточно одного моего письма? Вы так мало хотите получить от меня?
XIX
Первое её письмо оказалось не любовным, а серьёзным и робким: о школьных программах, о том, что одно длинное письмо написала и не отправила – «сплошной плач», о том, что хотела бы уехать почему-то на Алеутские острова. В конце: «Ответа не жду, потому что я ведь только думский писец, а Вы – известный писатель Чехов!»
Он сразу написал ответное письмо в том покровительственно-шутливом тоне, в каком обычно разговаривал с Ликой, но в конце приписал: «Напишите мне ещё три строчки. Умоляю!» Понадеялся, что она поймёт, какое письмо он хочет получить. Затем направился к хозяину в кабинет, чтобы показать ему московскую газету «Новости дня». Здесь сообщалось о ситцевом бале в Дворянском собрании: «Прибыль составила всего 449 руб. 60 коп.; этого едва хватит на розги, чтобы высечь всех бедных детей г. Москвы».
Кабинет Суворина был предназначен не для того, чтобы думать, писать и разговаривать, а для строгого напоминания каждому вошедшему сюда о его бренности и ничтожности перед монументальностью тёмной мебели, вечной, как горы Кавказа, и перед неисчерпаемостью мудрости, заключённой в книжных шкафах. Переписчики инкунабул[28]28
...переписчики инкунабул... – Инкунабулы (от лат. колыбель) – печатные издания в Европе, выходившие с момента изобретения книгопечатания (сер. XV века) до 1 января 1504 года.
[Закрыть], монахи-летописцы, первопечатники, просветители, масоны, декабристы, славянофилы, нигилисты, антинигилисты, народовольцы, марксисты, мистики, в общем, все, кто запечатлевал на бумаге слова, а иногда и мысли, делали это, конечно, для наполнения шкафов в библиотеке и в кабинете редактора «Нового времени». Особой достопримечательностью кабинета была тяжёлая зеркальная дверь, ведущая в редакцию газеты.
Лицо Суворина состояло из двух примерно равных частей: высокий светлый лоб и монархическая борода лопатой; между ними обособленно существовали живые азиатские глазки. С ним всегда было трудно, как с человеком, который тебя любит, не совсем понятно за что, от которого ты зависишь и с которым почти ни в чём не согласен. Пытался с ним по-всякому, но, наверное, с тем, кто тебя любит, надо просто быть самим собой – ведь любят-то тебя именно такого, какой ты есть.
Посмеялись над ситцевым балом, и Суворин, естественно, спросил, зачем было идти на такую скуку.
– Меня заманил туда наш юный талант – Леночка Шаврова, сиречь писатель Шастунов.
– Буренин в шастуновских рассказах не находит ровно ничего, – холодно сказал Суворин и обратился к бумагам на столе.
– Ему надо печёнку лечить. Он и обо мне написал, что я начинаю увядать. У Леночки есть то, чего нет у многих беллетристов: она хорошо видит. Псевдоним она дурацкий придумала. Я ей говорил. Шастунов! Табачная торговля «Шастунов и Ко». Просила вам передать миллион благодарностей, говорила, что очень вам обязана и... что девственные прыщички её мучают.
– Так и сказала? – усмехнулся Суворин.
– Как врач и писатель, я понял её именно так. С нетерпением ждёт вашего приезда в Москву.
– Стар я для этого, милый Антон Павлович. С опытными дамами иногда встречаюсь, а для девочки стар. Как её рассказ называется?
– «Замуж».
– Вот-вот. Пусть идёт замуж, а рассказ пойдёт в номер. Я себе отметил. А что с вами происходит, милый Антон Павлович? Что за импотенция? На Цейлоне-то не было? – И над бородой выпятились кружком влажные пухлые губы.
С удовольствием прослушал рассказ о том, как было на Цейлоне, – любил мужские разговоры. Особенно понравилось, что под пальмой. Потом давал советы, как старший младшему:
– Надо пойти в хороший бордель. Я сам когда-то лечился таким способом.
– Было такое намерение, но как-то неловко – не мальчик. Семнадцатого стукнет тридцать один.
– М-да... Есть у меня дама. Она приводит девочек. Бандерша. Ко мне в дом, конечно, нельзя – снимите номер.
– Сестра приказала мне найти здесь, в Петербурге, одну её подругу. Вы, кажется, её знаете – Мусина-Пушкина. Бежала из Москвы от жениха и любовника.
– Найти в Петербурге человека, тем более молодую женщину, для Чехова – это Суворин может.
По звонку из зеркальной двери появился молодой человек, лицо которого, по Салтыкову-Щедрину, выражало несомненную готовность претерпеть. Ему было сказано коротко и категорично:
– Мусина-Пушкина Дарья Михайловна. Узнай, где живёт. Бери лихача – и к полицмейстеру.
XX
От него исходила завораживающая житейская мудрость, подобно душному успокаивающему теплу от русской печи с запахом хорошо упревшей в чугунке каши. Усталый продрогший путник, измученный простудой и разочарованиями, расслабляется в звенящем духе натопленного жилья и, прильнув к неровным, шершавым выпуклостям лежанки, вновь открывает для себя простую меру вещей, снова верит и надеется. И усталый путешественник по сахалинам любви и литературы, прильнув к суворинской доброте и откровенности, начинал выздоравливать от сомнений и разочарований, вновь открывал шершавое тепло простых жизненных истин, в которые не имел права верить писатель Чехов, создатель новых форм.
Сначала было очень смешно – Дарья Мусина-Пушкина жила в том же доме, что и он, только вход с другой стороны. Потом опять было смешно, сладко и лишь немного неприятно: услышав через дверь его голос, Дарья открыла в радостной спешке, не успев одеться, и смущённо смеялась, а он обнимал её смуглые плечи, целовал душистые щёки и говорил:
– Дришка... Дришка... Какая ты тёплая и сладкая...
Он и прежде, на вечерах в доме-комоде, представлял эту стройную женщину в виде сжатой пружины, готовой распрямиться и своим порывистым движением увлечь того, кто будет рядом. И она разжалась и увлекла. Лежала под ним, судорожно целуя в губы и в усы, повторяя:
– О-о!.. Тараканище!.. Какой тараканище!
Потом сказала:
– Вы лучше, чем я ожидала.
– Почему были такие неприятные предположения?
– Потому что вы смотрели на эту пышечку Лику совсем не по-мужски. Мне сказали, что она собирается замуж par depit[29]29
С досады (фр.).
[Закрыть]. Ведь вы только смотрите. Это правда?
Он почти ничего не почувствовал – наступало настоящее выздоровление. И на улице впервые после приезда в Петербург залюбовался пышными голубыми кудрями заиндевевших деревьев.
На следующий день процесс выздоровления продолжался. Неожиданно январское низкое солнышко вспыхнуло на гранёном стекле суворинского книжного шкафа, и почти физически захотелось писать. На этот раз в кабинет пригласил сам хозяин.
– Писать, конечно, надо, дорогой Антон Павлович, – в глазах у Суворина сверкали лукавые смешинки, как у доброго родственника, собирающегося чем-то обрадовать, – а то выходит, что за целый год всего один рассказ. «Гусев» – хороший рассказ, но только один. Вот вам первый результат путешествия на этот проклятый остров.
– Но теперь я напишу книгу о Сахалине.
– Как ваше путешествие было никому не нужно, так и книга о нём никому не нужна. Но раз уж вы съездили, – он сделал паузу, разглядывая собеседника, словно примеряя его к чему-то, – раз дело сделано, надо получить результат. Я понимаю, почему вы не хотели ехать официально, от властей, но теперь, когда надо что-то предпринимать для облегчения участи этих негодяев каторжников, без властей не обойтись. Вам надо приблизиться к трону, и я знаю, как это сделать, чтобы и результат приобрести, и вашу политическую невинность соблюсти. Есть такой умница Анатолий Фёдорович Кони[30]30
Есть такой умница Анатолий Фёдорович Кони, – Кони Анатолий Фёдорович (1844—1927), юрист и общественный деятель, член Государственного совета, почётный академик Петербургской академии наук (1900 г.), сын театрального критика и драматурга Ф. А. Кони. В 1878 году суд под председательством Кони вынес оправдательный приговор по делу Веры Засулич. После Октябрьской революции станет профессором Петроградского университета и напишет книгу воспоминаний «На жизненном пути».
[Закрыть]. Он большой друг больших людей, особенно дам. Для вашего дела – он друг графини Нарышкиной, а она председательница какого-то общества, которое печётся о ссыльно-каторжных и прочих мерзавцах, но главное, она – фрейлина государыни. Анатолию Фёдоровичу я вас рекомендую, а дальше... вы понимаете. Будете там – нажимайте на детей. Дамы любят жалеть детей.
XXI
Второе письмо тоже оказалось не любовным. Скорее наоборот:
«Сейчас только вернулась от Ваших. Меня провожал домой Левитан!.. Не обращайте внимания на почерк, я пишу в темноте и притом после того, как меня проводил Левитан!.. А знаете, если бы Левитан хоть немного походил на Вас, я бы позвала его поужинать!!»
Письмо раздражало, и он решил наказать девушку и не отвечать. Ещё лучше вообще больше с ней не встречаться. Ему безразлично, кто её провожает, его не волнует слух о её намерении выйти замуж par depit. Почти безразлично, почти не волнует. У него в Петербурге слишком много дел, и нет времени для бесплодных размышлений о взбалмошной девице.
Одно из необходимых дел – посещение брата Александра. Удалось выяснить, что Сашечка появляется в редакции «Нового времени» только по выплатным дням. Подстерёг его в самый важный момент, когда он расписывался в конторской книге, причём, в отличие от других сотрудников, ставил свою подпись вверх ногами – изобретатель. По-братски обнялись, растрогав редакционных дам. Братец был побрит и похож на интеллигента, значит, пребывал в коротком, но трезвом периоде своего существования. Посему и было принято приглашение на семейный обед.
Одна из дам догнала в коридоре, извинилась и обратилась со странной просьбой:
– Я знаю, что вас очень любит Алексей Сергеевич, и если вы его попросите помочь в деле, касающемся моего родственника, он вам не откажет. У него такие большие связи в Петербурге, что ему не составит никакого труда сделать то, что поможет молодому морскому офицеру в его службе...
Ещё не успел приблизиться к трону, а уже просительница. Софья Карловна Гартнунг устраивала служебную карьеру племянника – мичмана Азарьева. Моряк остался без отца, и некому было за него хлопотать, кроме этой энергичной пухлолицей женщины с решительным взглядом белых прибалтийских глаз. Мичмана после возвращения из плавания назначили в Петергофскую охрану, что, разумеется, весьма почётно, но лишает перспектив продвижения по службе, так как он не проплавал необходимый ценз. Молодого человека требуется перевести туда, где он может продолжить плавание.
Конечно, пришлось пообещать. Следовало заметить, что этот моряк возник именно в тот день, когда он впервые решил окончательно порвать с Ликой.
Обед у старшего брата вызывал нехорошие предчувствия. Идти к нему – это идти в клетку человекообразной обезьяны, отказывающейся стать человеком и дико ревущей о преимуществах обезьяньей жизни. Они братья и выросли в одном логове, и сам он был маленькой обезьяной, но никогда бы не мог, как Александр, будучи уже студентом, одетым в приличный сюртук, в цилиндре, догнать на улице пожилую даму и рыгнуть ей в лицо.
Уже тогда старший брат, знающий всё от Канта до публичного дома, вызывал сомнения, и в первой своей злосчастной пьесе, разрабатывая Платонова, он кое-что брал от Сашечки и от человека, которым должен был стать великовозрастный студент, числящийся в университете седьмой год, но посещающий в основном не лекции, а трактиры в качестве прихлебателя богатых балбесов.
Отдавая ему на суд пьесу, волновался не только как начинающий гений, но и как автор карикатуры на брата. Сашечка себя не узнал и вообще вряд ли что-нибудь понял в своём непросыхающем состоянии. Наверное, и не читал, а полистал, остановился на двух-трёх страницах и, убеждённый в своём глубоком понимании литературы, дал категорическую оценку: «Непростительная, хотя и невинная ложь». Его, так сказать, рецензия содержалась в письме из Москвы, и по тону письма легко представлялась пьяная чванливая обезьяна с отвисшей мокрой губой. Особенно обидело высокомерное презрение мудрого старшего к недалёкому младшему: «Если ты захочешь, я когда-нибудь напишу тебе о твоей драме посерьёзнее и посильнее». Сейчас, мол, некогда – время шнапстринкен.
Этому всегда время. Пришёл к обеду, а в квартире Александра уже клубился невидимый горячий дымок. Хозяин пребывал в первоначальной стадии, когда мир прекрасен и прозрачен и он всё в мире понимает и лукаво, пока ещё почти добродушно, посмеивается над непонимающими, а ты видишь перед собой нелепую физиологическую улыбку, сумасшедший блеск в глазах и слышишь непонятные намёки непонятно на что. Встретил восклицаниями, выражающими вроде бы искреннее восхищение рассказом «Гусев», но сопровождающимися подмигиванием и многозначительным понижением голоса.
– О, гейним! – выкрикивал Александр. – Твой рассказ достоин лучшего, чем наша гнусная газета. Все говорят о тебе и о твоём «Гусеве». Даже больше о тебе. Понял? – И подмигивал. – Никто не знает, кто такой Гусев. Никто не знает, что рассказ назван в мою честь.
– Ты же назвал сына Антоном. Знал, что обижусь, если назовёшь Шекспиром. Где он? Показывай крестника.
– Наташка! Представляй детей великому брату моему. Она их блюдёт как своих. Понял? Блюдёт. Скоро у нас будет свой законный. Будет? – И хлопал по животу Наташу и вновь хитро подмигивал. – Если старший брат взялся, то будет отчётливый результат.
Наташа покорно и печально улыбалась, и мудрые бездонно-чёрные глаза её просили спокойно снести пьяные намёки мужа на далёкое прошлое, когда студент Антон приходил к ней ночевать, спасаясь от семейной тесноты. Минуло почти десять лет, и самая живая его подружка превратилась в молчаливую пожилую женщину с измождённым, заострённым книзу лицом. Чужих детей она действительно содержала как родных, наверное, не хуже, чем это делала бы покойница мать. Оба мальчика подстрижены, одеты в чистое, научены, как обращаться с гостем, и даже его пятилетний крестник уже знает азбуку.
Лучшее, что можно было бы сделать – это отдать подарки и уйти, но стол накрыт, и Наташу не хотелось обижать.
– О, гейним! – продолжал Александр. – Ты такой великий, что мне стыдно носить фамилию Чехов. Я бы лучше назвался Задницыным, или Промежницыным, или...
– Александр! Тебя слушают дети.
– Извини, о брате. Уснух спах, восстах не выспахся. А мальчишек я воспитываю без ханжества. Они у меня всё называют своими именами. Это наша великая лживая литература лицемерит: чудное мгновенье, тургеневские женщины. Сам твой любимый Тургенев этих женщин драл как хотел... Хорошо, не буду. Давай царапнем по рюмахе, как наш Коля говаривал. Пообедаем отчётливо. Я для тебя нашёл самую дорогую хавьяшку...
К следующей стадии Сашечка перешёл уже в самом начале обеда.
– И я, ничтожнейший, приготовил тебе подарок, о великий брате. Ода, посвящённая путешествующему на Сахалин. Слушай:
Талантливый писатель Чехов,
На остров Сахалин уехав,
Бродя меж скал,
Там вдохновения искал.
Но, не найдя там вдохновенье,
Своё ускорил возвращенье...
Простая басни сей мораль:
Для вдохновения не нужно ездить вдаль.
Нет. Это не я. Это твой друг великий критик Буренин. Почему все великие критики на «Б»? Белинский, Буренин, Суворин...
– Почему Суворин? – удивилась Наташа. – Он не на «Б», и он писатель.
– Потому что б...! – Брат перешёл почти на крик.
– Саша! – взвизгнула жена.
– И ты б...!
Наталья в слезах выбежала из-за стола, детей отправили раньше, и весь запас обезьяньей энергии пришлось принять на себя. Брат, как пьяный лакей, проклинающий хозяина, выкрикивал, что жидомора Суворина ненавидит вся Россия, кроме его гениального братца Антона, готового на всё за лишний гонорарчик.
– И никакой ты не талант, – всё более зверел Александр. – Ты посредственный беллетрист, жалкий подражатель Тургенева. Тот писал романы, а у тебя кишка тонка. Мопассан рассказы пишет лучше твоих, и романы у него блестящие. «Жизнь»! Это же великая вещь! Тебя печатают, потому что ты всегда сидишь в заднице у редакторов. И на Сахалин поехал, чтобы прославиться, чтобы печатали, как великого благотворителя, народного защитника, но тебя раскусили. Настоящая интеллигенция тебя презирает. Владимир Соловьёв не прислал тебе на подпись воззвание в защиту евреев. Больше ста человек подписали. Лучшие люди России: Толстой, Короленко, Тимирязев, Герье, Столетов... Тебя не пригласили, потому что ты в суворинской банде. Весь Петербург знает, зачем ты сюда приехал, – на дочке Плещеева хочешь жениться. Миллион в приданое мечтаешь заполучить. Твои лучшие друзья по всему городу об этом болтают – Щегловы, ежовы. Да они тебе и не друзья – с ними ты общаешься, потому что они тебя в глаза хвалят. И Суворин тебе не друг. Раньше Лейкин был другом[31]31
Раньше Лейкин был другом... – Лейкин Николай Александрович (1841 – 1906) издавал юмористический журнал «Осколки» (выходил с 1882 по 1905 год), где в период раннего творчества печатался Чехов. Сам Лейкин также был автором юмористических произведений – рассказов, повестей и романов, – в которых он живописал нравы купечества.
[Закрыть] – теперь ты называешь его литературной белужиной. И Суворина предашь, как Лейкина, когда найдёшь других покровителей. Либералы станут тебя печатать – будешь Лаврову и Гольцеву лизать[32]32
...будешь Лаврову... лизать. – Лавров Пётр Лаврович (1823—1900), один из идеологов революционного народничества. Опубликовал «Исторические письма», пользовавшиеся большой популярностью среди радикально настроенной молодёжи. Редактировал журналы «Вперёд» и «Вестник народной воли».
[Закрыть], как сейчас Суворину. Я талантливее тебя! Могу написать такой рассказ, что ты после него вообще бросишь литературу. Только я хочу жить, а не гнить над бумагой. У меня жена, дети, ещё будет один. Я из него настоящего гения выращу. А ты зачем живёшь? Всех девиц, Марьиных подруг, перепортил, а жениться боишься. Думаешь, я не знаю, что и Наташку ты ....? Не посмотрел, что еврейка – она ж в редакции секретарствовала, помогала рассказики в журнале печатать. И сейчас какую-то смазливую девицу обхаживаешь – Бибиков рассказывал, красавица. Почему же на ней не женишься? Женитьба – шаг серьёзный, да? Будет мешать сочинять рассказики? Ты и выпить боишься, и погулять по-человечески, отчётливо. Давишь в себе всё. Высох, кашляешь. Помнишь, Лесков сказал, что ты умрёшь раньше меня? Так и случится, если не перестанешь себя мучить из-за рассказиков... Вот я отчётливо живу. Руси веселие есть пити. Пиво – национальное состояние... расстояние... достояние. Вот. Беру это достояние и прихожу в состояние...
Если ты настоящий художник, то понимаешь людей лучше, чем другие. И себя понимаешь так же хорошо, но себя понимать страшно, и ты скрываешь свою сущность от себя самого. Лишь в редкие минуты истины, высокой и холодной, как осеннее небо, говоришь о себе с горькой смелостью признания. И он сказал не столько пьяному брату, сколько себе:
– Ты, Саша, прав. Я такой и не могу быть иным. Я так создан. Я должен писать и печататься. Это и есть моя жизнь.
Александр не удивился, не возмутился, а испугался. Забыл свои обличительные формулы и молча смотрел на брата, как бы не узнавая, не понимая. Затем замахал руками, как на призрак, явившийся в алкогольном бреду, и сказал устало:
– Иди. Совсем уходи. Не зови меня на свои именины. Уходи.







