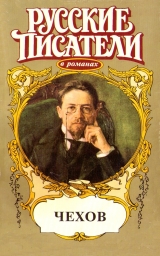
Текст книги "Ранние сумерки. Чехов"
Автор книги: Владимир Рынкевич
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 35 страниц)
МИСЮСЬ
1895-1896
I
 ень открывался такими нищенскими, разбавленными чернилами холодного бесснежного рассвета, что от встречи он не ждал ничего хорошего. Однако, отправляя лошадей на станцию и передавая Фролу пакет с корректурой «Анны на шее», наглотался сухого подмороженного воздуха, почувствовал неожиданную бодрость, и захотелось новых встреч, поездок, разговоров, свиданий – захотелось жить. А когда зазвенел колокольчик экипажа, возвращающегося со станции, появилось солнце из черно-фиолетовых туч над лесом и отчаянно ударило косыми лучами по закаменевшей земле.
ень открывался такими нищенскими, разбавленными чернилами холодного бесснежного рассвета, что от встречи он не ждал ничего хорошего. Однако, отправляя лошадей на станцию и передавая Фролу пакет с корректурой «Анны на шее», наглотался сухого подмороженного воздуха, почувствовал неожиданную бодрость, и захотелось новых встреч, поездок, разговоров, свиданий – захотелось жить. А когда зазвенел колокольчик экипажа, возвращающегося со станции, появилось солнце из черно-фиолетовых туч над лесом и отчаянно ударило косыми лучами по закаменевшей земле.
Он с Машей вышел навстречу приезжей, солнце светило ей в лицо, она прикрывала чувствительные светлые глаза, прищуривалась, улыбалась, говорила что-то приветливое. Она оказалась совсем не такой толстой и унылой, какой он ожидал её увидеть. Помогая ей выйти из экипажа, полуобняв, он почувствовал и прежнюю нежную мягкость её тела, и новую играющую женственность.
– Надеюсь, вы прогнали с дивана моих соперниц, Антон Павлович? – спросила Лика почти серьёзно.
– Лежать на моём диване разрешается только любимой таксе и вам, кукуруза души моей.
– Такса не хрипит, как та, которая уехала в Петербург?
– О чём ты, Лика? – удивилась Маша.
– Не понимаешь ты, Марья, тонкий парижский юмор. Они намекают-с на госпожу Яворскую.
– Это, Маша, был подарок Антона Павловича к моему приезду. Он её отправил туда ради меня. Без него Суворин бы не взял в свой театр эту навсегда простуженную даму. Он хоть и негодяй, но в театре кое-что понимает.
– Сознаюсь: грешен. Торгую живым товаром. На рассказики не проживёшь, а за женщин старик хорошо платит. Кстати, он берёт и певиц из Парижа.
– Маша, он у тебя неисправим. Ехала и боялась, что сразу меня прогонит и даже обедом не накормит.
– Даром здесь не кормят, милсдарыня. За обед берём концерт французского сопрано.
Концерт был обещан, и обед состоялся. Лика расспрашивала о семейных новостях, порадовалась за Мишу, получившего хорошую должность в Ярославле, поинтересовалась, конечно, творчеством хозяина.
– Написал пьеску, – ответил он. – Только вряд ли она будет иметь успех.
– Великий Чехов, конечно, написал что-то гениальное и, как всегда, боится искушать судьбу. Почему вы такой трусливый и суеверный, Антон Павлович? – язвила Лика, терзая его взглядом, потерявшим былую наивность, посверкивающим страстной злостью.
– Все великие драматурги живут на Западе. Дюма-фис умер, но появился Метерлинк. В Париже вы, наверное, смотрели что-нибудь из его пьес?
– У меня, Антон Павлович, не было времени на театры.
Евгения Яковлевна горестно вздохнула и наклонилась над своей тарелкой – было приказано ни слова о ребёнке.
– Лика брала уроки пения, – пришла на помощь Маша, – и ещё приходилось зарабатывать на жизнь.
– Я училась у Амброзелли. Он нашёл у меня сопрано необыкновенно красивого тембра. А что за пьесы у Метерлинка?
– Он бельгиец, пишущий по-французски. «Принцесса Мален», «Непрошеная», «Слепые». В «Непрошеной» на сцене сидит большая семья, все разговаривают о болезни матери и ждут родственницу, а приходит Смерть, и мать умирает. Или, представьте, на сцене в каком-то необыкновенном полумраке, в каком-то вечном лесу сидят двенадцать слепых. Поводырь-священник умер, а они этого не знают и не могут понять, что происходит. Говорят между собой, волнуются, возмущаются, надеются... В этом вся пьеса. Разве я смогу так написать? Но если бы у меня был театр, я бы поставил. Это интересно. Второй раз на этот спектакль вряд ли захочется пойти. Это не «Гамлет» и даже не... М-да...
Хотел сказать: даже не «Чайка».
– А новые рассказы? – спросила Лика.
– В понедельник, милсдарыня, читайте «Русские ведомости». Рассказ Чехова «Анна на шее».
– Что за странное название?
– Надо знать правила ношения российских орденов, медалей и прочих знаков отличия. Одна моя знакомая писательница вышла замуж за придворного чиновника. Новый император сделал его камергером и наградил орденом Святой Анны второй степени, а этот орден носится в виде креста на шее.
– Я знаю эту писательницу, – сказала Лика неприязненно. – Мадам Шаврова. Она у вас кривобокая.
Неожиданно в столовую робко протиснулся Фрол.
– Вы меня простите, что, значит, вот, должен определённо...
– Ты куда прёшь? – возмутился Павел Егорович. – Не видишь, господа обедают?
– Папа, давайте узнаем, что нужно человеку. Говори, в чём дело, Фрол.
– Лошадей готовить на станцию к вечернему поезду? А то я было поить надумал...
– Кто тебе сказал, что надо к вечернему поезду?
– Вот они, когда, значит, ехали. – Он кивнул в сторону Лики.
– Лидия Стахиевна, вы приехали к нам только пообедать?
– Я бы и поужинала, Антон Павлович, но ваше отношение ко мне...
– Наши отношения только начинаются. К вечернему поезду, Фрол, никто не поедет. Можешь лошадей поить, кормить и спать укладывать.
– Их чего укладывать? Они же стоя спят. Лошадь, её, значит, нельзя, чтобы ложилась...
– Иди, иди, – грозно приказал Павел Егорович. – Нечего тут болтать. Господа обедают.
II
Встреча с Ликой растопила в душе что-то, казавшееся навсегда каменно заледеневшим, а заодно рассеяла, размыла, вымела то застрявшее в памяти неприятное, что представлялось прочной вечной преградой между ними. Вдруг открылась простая истина: её отношения с другими мужчинами не должны его интересовать, не должны мешать его чувству к ней. Появились новые, ещё не оформленные точным словом, мысли о любви, и он даже пожалел, что закончил пьесу, – теперь, после встречи с, так сказать, героиней, он написал бы иначе, лучше.
Заставила улыбнуться и вновь задуматься о «Чайке» и любви открытка:
«Cher maitre, проезжаю Лопасню и делаю Вам визит. Сыро, холодно, брр. Поезд идёт тихо. Ялта улыбнулась в этом году. Как поживаете? Что поделываете? Как здоровье? Пишите в Москву, дом Милованской. Преданный Вам ученик Е. Шавров. Написала большой рассказ».
Писала карандашом, спешила, чтобы успеть, пока камергер не вернулся из уборной, даже забыла указать улицу, где находится этот дом Милованской.
В Москве пришлось идти на Большую Никитскую. Дожди размыли тротуары, дворники и ветры вымели опавшие листья, и улица, чистая и светлая, не только напоминала с грустью об ушедшем лете, но и обещала, что зимой будут свои радости. Особнячок Батюшкова, где помещалась Школа драматического искусства, был похож на руководителя школы: невысокий, устойчивый, без лишних украшений, но есть всё необходимое. Немирович-Данченко и его кабинет на первый взгляд более уместны в официальном учреждении, чем в сомнительном искусстве театра: строго, просто, мрачновато. Сам не актёр, а писатель, режиссёр, точно знающий, как надо писать пьесы, как надо их ставить, что и как надо делать с актрисами, он умело носил маску непреклонного начальника. При встречах с Чеховым маска сбрасывалась.
– О-о! Антон! Принёс новую пьесу? Весь театральный мир взбудоражен слухами.
– Пьеса, как всегда, не получилась. Вопреки всем правилам. Поправлю, перепишу и... выброшу. Театральный мир всегда чем-то взбудоражен. Вот Суворин...
Они обменялись мнениями о театральных новостях. Согласились, что Костя Алексеев-Станиславский хорошо поставил в своём Обществе «Самоуправцев» Писемского, что «Ганнеле» у Суворина имеет успех только благодаря микроскопическому тельцу Озеровой, легко сыгравшей пятнадцатилетнюю замученную девочку, а вообще такие пьесы ни ставить, ни смотреть не надо, что Метерлинк интересен, а вялая риторика Ростана – позавчерашний день драматургии... Возникло лишь одно разногласие: Немирович сказал, что единственная надежда русской драматургии – Чехов, а Чехов возразил, напротив, что есть и другая надежда – Немирович-Данченко.
– Если надежда только на меня, то русский театр надо закрывать. И твою Школу тоже. Таланты здесь попадаются?
– Таланты надо открывать ключом.
– Ты подразумеваешь открытие актрис?
– Открывать в женщине актрису, а в актрисе женщину – дело святое, – усмехнулся руководитель Школы. – Некоторые темпераментные мужчины поступают в мою Школу только для этих открытий. Один ученичок мне признался. «Зачем вы поступили в Школу? – спросил я его. – Вы же ничего не хотите делать». А он говорит: «Средства у меня есть, делать мне всё равно нечего, а здесь такие женщины, такие доступные, и всё бесплатно». Приходится выгонять очень доступных. Но таланты есть. Москвин последний год учится[62]62
Москвин последний год учится... – Москвин Иван Михайлович (1874—1946), замечательный русский актёр, с 1898 года выступавший на сцене Художественного театра. В советское время получил многочисленные награды и премии, снимался в художественных фильмах.
[Закрыть] – большой будет артист. Сейчас, осенью, пришла одна дама в слезах – Ольга Книппер. Из Школы Малого театра прогнали из-за отсутствия способностей. А посмотрел – настоящий талант.
– Открыл?
– Ну... Открыл талант.
– А Ольга Шаврова?
– Что Ольга?
– Нет. Я о способностях.
– Способности есть.
– Кстати, мне нужен её адрес. Хочу увидеться с её сестрой, а адреса нет.
– Канцелярия у меня в порядке. Шаврова Ольга Михайловна...
III
Лену он уже не застал – уехала к мужу в Петербург, но встреча с Ольгой, двадцатилетней красивой девушкой, уже научившейся держаться и в жизни и на сцене, и с пятнадцатилетней хорошенькой Анечкой стала продолжением всё того же рассказа, ещё не написанного и даже ещё не задуманного. Пока он только знал, что пьесу переписывать не надо, а для новых мыслей будет написан новый рассказ.
Мелиховский осенний день был ненастен, и в кабинете горела лампа, но радость жизни, возникшая, как он думал, с окончанием «Чайки», не покидала его. Ранние сумерки так же подсинили окна, как в доме-комоде на Кудринской, когда впервые пришла она. Потом на Амуре в огне заката духовой оркестр играл вальс «Воспоминание», и он назвал её невестой. Тогда и появилось в душе необъяснимое чувство счастья жизни.
Мечты о ней, о встречах, о любви, тёмные богимовские аллеи, по которым он бродил, взволнованный и печальный, Верочка с большими требовательными глазами и томиком Мопассана, звук его шагов, раздававшихся в поле ночью, когда он, влюблённый, возвращался домой – это и было счастье.
Почему-то начал с письма её высокоблагородию Елене Михайловне Юст:
«...Теперь пишу маленький рассказ: «Моя невеста». У меня когда-то была невеста... Мою невесту звали так: «Мисюсь». Я её очень любил. Об этом я пишу...»
IV
– Почему ты не пригласил Лику на чтение пьесы? – спросила Маша, когда они подъезжали на извозчике к «Лувру».
– Прослушаешь пьесу и поймёшь. Однако мороз.
Чёрное небо над Тверской было неумолимо, жестоко и холодно, как публика в театре, недовольная зрелищем. Он знал, что первая встреча его героев с теми, кто считает себя театральным миром, будет для них тяжёлым испытанием: приглашены уверенные в собственной талантливости, убеждённые, что только они знают, как правильно писать пьесы. Разумеется, они ошибаются. Они знают, как писали пьесы раньше, а как действительно надо писать, знает лишь тот, кто пишет.
Актриса театра Петербургского литературно-артистического кружка Яворская специально приехала в Москву прослушать новую пьесу и, наверное, специально для злой критики. В «Лувре» она потребовала, чтобы ей предоставили её прежние апартаменты, и чтение состоялось в той же Синей гостиной, где прежде собиралась «эскадра».
Театральный мир был представлен широко. Фёдор Адамович Корш умел угадывать, что понравится публике, и нелепо гордился показными знаками внимания Яворской, выдававшей его для удобства за своего любовника. Она усадила его рядом со своим королевским креслом и что-то зашептала, наклонившись и повернувшись, демонстрируя присутствующим свою красивую голую спину. Татьяна Щепкина-Куперник, по-видимому ещё не зная пьесы, точно знала, нравится она ей или нет. Скорее всего – нет. Гольцев и другие бывшие участники «эскадры» тоже ещё до чтения пьесы знали своё мнение: пьеса хороша, потому что её написал Антон.
М-да... Однако читать надо не в расчёте на восторги, а для хладнокровного исследования уровня своих читателей и зрителей. Он поймёт их истинные впечатления независимо от того, что они будут говорить. Хотелось бы, конечно, чтобы пьесу поняли. Жаль, если не поймут. Жаль, разумеется, их, непонятливых. Сам он убеждён, что пьеса хороша и нет равных ей во всей современной драматургии, и никакая Ермолова теперь его не переубедит.
Но всё же и Чехов – человек.
Читая, он предполагал, что Яворская не простит ему финал второго действия:
«Нина (подходит к рампе; после некоторого раздумья). Сон!
Занавес».
И она передёрнулась в кресле, нервно извиваясь спиной.
Юная талантливая поэтесса, драматургесса и переводчица кое-что понимала и кое-что чувствовала. По её умным выразительным глазам он догадывался, что до неё «Чайка» долетела. Такие глаза он хотел бы видеть у своих зрителей в театре.
Корш был потрясён финалом: Треплев рвёт рукописи и уходит; общество играет в лото, вспоминает убитую чайку.
«Шамраев (подводит Тригорина к шкапу). Вот вещь, о которой я давеча говорил... (Достаёт из шкапа чучело чайки.) Ваш заказ.
Тригорин (глядя на чайку). Не помню! (Подумав.) Не помню!
Направо за спиной выстрел; все вздрагивают».
И Корш вздрогнул.
Он прочитал последние слова Дорна, последние слова пьесы:
«...Уведите отсюда куда-нибудь Ирину Николаевну. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился...
Занавес».
И Татьяна вздохнула коротко, как всхлипнула.
Он бы отнёсся с холодной иронией, если бы Яворская разнесла пьесу и обозвала автора нехорошими словами, но она вспомнила свою профессию и сыграла роль дамы, которой пьеса не нравится, но она её хвалит из приличия. Причём роль была задумана тонко, чтобы автор поверил в её искренность, а присутствующие поняли, что она над автором смеётся. Но она забыла о своей бездарности и самовлюблённости. Вместо задуманного, вибрируя пикантной хрипотцой, произнесла нечто обидное и нелепое:
– Это гениально! Какая жалость, что я не могу взять «Чайку» в бенефис. Мы уже готовим Ростана. Его гениальную «Принцессу Грёзу». Костюмы те же, что у Сары Бернар. К спектаклю Алексей Сергеевич выписывает из Парижа красные розы и белые лилии. Как в «Гамлете» не напрасно является призрак отца, так и здесь не напрасно является призрак Шекспира. В первом, кажется, действии эта актриса, как её... Она говорит из «Гамлета»: «Мой сын...» Я поняла, зачем здесь призрак Шекспира: Чехов – это Шекспир. Или тень Шекспира...
Возмутила и Татьяна: холодно и складно объяснила, что новаторство – это хорошо, но нельзя под видом новаторства рассказывать истории, старые как мир. Вот Метерлинк... Вот Ростан... Вот Ибсен...
Кто-то из Малого театра говорил не столько о Чехове, который пишет плохо, сколько об Островском, который писал хорошо, и чуть ли не каждую фразу заключал словом «декадентство», употребляя его в качестве слова неприличного.
Откровеннее и понятнее всех был Корш.
– Вы хорошо всё это сочинили, Антон Павлович, – говорил он с заминкой, стараясь не очень обижать автора, – но о театре вы не думаете. Об актёре не думаете. Голуба, это же несценично. Герой в конце застреливается, а вы не даёте ему поговорить перед смертью. Даже отправляете стреляться за сцену. Разве такое кто-нибудь поставит?
В гостиную подали шампанское, Татьяна засуетилась, по-видимому осуществляя какой-то план. Как опытный режиссёр, поставила мизансцену: она с Яворской и он с Машей оказались за столиком отдельно от других.
– Вы меня простите, Антон Павлович, – начала Татьяна, – что я говорила излишне резко, но мы с Лидой решили, что должны помочь вам поправить пьесу. Мы – представители нового поколения молодёжи, нового поколения женщин. То, что говорим мы, говорит современная молодёжь, интересующаяся искусством. Раньше в России было два вида женщин: добродетельные супруги и кокотки. Мужчины метались между ними. Теперь появились ещё и мы – свободные, независимые женщины. К нашему мнению прислушиваются люди искусства. В Париже я говорила и с Ростаном, и с Дюма – мы с Лидой ещё застали его. Мы говорили о новых формах...
– Я очень рад, Лидия Борисовна, что в ваш бенефис идёт Ростан, – перебил он Татьяну. – Я убеждён, что будет успех: всё-таки платья от Сары Бернар... Обязательно поднесут что-нибудь от учащейся молодёжи. Танечка, наверное, выступит со стихами. Таня пишет чудные стихи всего из двадцати пяти слов, которые она знает: упоенье, моленье, трепет, лепет, слёзы, грёзы...
Чехов тоже человек и тоже иногда теряет самообладание.
Снова ехали с Машей под чёрным небом, но теперь сыпались редкие медленные снежинки и мороз казался не таким крепким.
– Всё, что они говорили, – пустое, – сказал он. – Ты поняла, почему я не пригласил Лику?
– Да. И хорошо, что Потапенко в Петербурге.
– Игнатий неопасен. Он очень много декламировал мне о крепкой мужской дружбе, не зависящей от внешних причин. Ради этой крепкой мужской дружбы я попрошу его провести «Чайку» через цензуру. Он всё сделает и ни слова не скажет о некоем, скажем так, сходстве сюжета с кое-какими его приключениями. Может быть, даже возгордится в душе, представив себя Тригориным.
– Но... Нет, не буду спрашивать: я знаю, что ты, когда пишешь, всё обдумываешь очень тщательно.
– Я знаю, что ты хочешь спросить, и отвечу. Искусство требует, чтобы ты отдал ему всего себя. Любовь, семья, дружеские привязанности, сложные личные отношения, личные пристрастия – ты всем должен пожертвовать, если это требуется для создания настоящего произведения искусства. Только всю правду о человеке – и о твоей матери, и о твоём друге, и о твоей любимой женщине, а правда часто неприятна, даже страшна. Но если утаишь хоть самую малость, приукрасишь совсем немного – и нет произведения. Получается сладенькая чепуха. Я не писал пьесу о Лике – с ней случилось то, о чём я давно хотел написать.
– Ты был так резок с Таней сегодня.
– С новой молодёжью? Эти просвещённые б... обитают в России ещё со времён Петра. А Лидия Борисовна провалилась в Петербурге в ибсеновской «Норе» – роль не для спины, а для мозгов. И не говори мне больше об этой лесбосской паре. Напрасно я Лику не пригласил – она бы поняла.
V
На этот раз остановился в «Англетере» – госпожу Юст к Суворину не приведёшь. Лежали с ней в сумерках, заменяющих в зимнем Петербурге дневной свет, рассматривали шпиль Исаакия в туманном окне и обсуждали те единственные темы, которые интересно обсуждать: искусство и любовь. Говорили и об искусстве любви, и о любви к искусству. Она не была на бенефисе Яворской в «Принцессе Грёзе», расспрашивала, и он без особой охоты делился впечатлениями:
– Яворская пыталась изобразить принцессу, а получилась прачка, увитая гирляндами цветов, кстати, доставленных из Парижа. Да и сама пьеса дребедень: романтизм, битые стёкла, крестовые походы. Некий трубадур влюблён в прекрасную Мелиссанду, собирает своих рыцарей, плывёт к ней куда-то в Африку и там от какой-то болезни умирает у её ног. После его смерти по призыву Мелиссанды рыцари дружно идут в крестовый поход. Зачем это написано? Да ещё какими-то трескучими стихами.
– Но какой успех. Во всех газетах только восторги.
– Пушкин говорил, что наша публика не обладает вкусом, но и добавлял, что у публики есть здравый смысл. Потому и получается, что плохая пьеса иногда может иметь успех, но настоящее искусство всегда будет рано или поздно признано. Лучше бы, конечно, пораньше.
– А вы знаете, что я теперь оказалась почти в родстве с Пушкиным? Мать моего мужа Юлия Николаевна Гартунг – родная сестра мужа Марии Александровны, дочери Пушкина. У них в семье есть вещи и документы, связанные с Пушкиным.
– У меня была... одна знакомая, тоже некоторым образом почти родственница Пушкина.
– Ваша невеста? Мисюсь? Какое прелестное имя. – Однако в голосе Леночки слышалась горечь ревности. – Меня так радует, что cher maitre когда-то любил, значит, это земное чувство ему было доступно и понятно. Мне всегда казалось, что вы слишком тонко анализируете всё и всё для того, чтобы полюбить, то есть чтобы хоть на время быть ослеплённым.
– Ослепнув, я не смогу писать и отвечать на ваши письма, господин Е. Шавров.
Она печально вздохнула.
– А мой муж занимает какие-то высокие должности, может быть, он честный и хороший человек, я не знаю, что он делает там, как служит, я знаю только, что он лакей... Cher maitre, а вы не вернётесь к ней?
– К кому?
– К Мисюсь. Не надо. К прошлому нельзя возвращаться. Его уже нет.
VI
По-своему предупредил его и великий человек – приехав с Сувориным в Москву, они были приняты Толстым в его доме в Хамовниках. Сначала других гостей не было, Софья Андреевна, Татьяна и Мария встретили радушно, он заметил, что Татьяна Львовна даже несколько смутилась. Лев Николаевич расспрашивал о литературных и театральных делах, Суворин рассказал о постановке «Принцессы Грёзы»:
– Успех был, но он меня не радует – дурацкая пьеса. Представьте, Лев Николаевич: какой-то дурак на каком-то дурацком корабле ищет какую-то дуру, от которой ему ничего не надо – лишь умереть у её ног...
Толстой смеялся, Чехов серьёзно сказал:
– Много читал я ваших, Алексей Сергеевич, статей о театре и рецензий, но эта рецензия, которую мы сейчас услышали, – самая блестящая.
Далее Толстой резко обругал декадентов, а заодно и всю интеллигенцию.
– Это паразитная вошь на народном теле, – сказал он, – и её ещё утешают литературой. Да и литература такая, что и хорошего слова не найдёшь. Вот умер Верлен. О мёртвом плохо не говорят, но что можно сказать хорошего о человеке, который всегда был пьян, писал стихи в пьяном состоянии для таких же пьяных и умер от пьянства.
– О твоём друге, покойном Ге[63]63
...о твоём друге, покойном Ге... – Ге Николай Николаевич (1831 – 1894), русский живописец, один из создателей творчества передвижников. Писал психологические портреты, в том числе автор одного из портретов Чехова.
[Закрыть], тоже ничего хорошего не скажешь, – вдруг высказалась Софья Андреевна. – Написал ужасное «Распятие». Христос, наш Спаситель, изображён так, что вызывает страх и отвращение.
– Ты не права, Соня, – возразил Толстой. – Художник – человек своего времени, и Николай написал такого Христа, который нужен нам всем сегодня. Его картина напоминает, что все мы своими мерзкими делами снова и снова распинаем Христа.
Как раз к этому разговору пришёл профессор Чичерин, такой же старый и такой же упрямый, как Лев Николаевич, и немедленно поддержал Софью Андреевну.
– А вот Рафаэль... – сказала она.
– Да, Рафаэль, – подтвердил профессор, и возник горячий спор, заставивший Толстого весьма сильно раздражиться.
Суворин внимательно слушал спорящих, разумеется, для того, чтобы записать для истории в свой дневник. Татьяна и Мария раскладывали пасьянс и занимали Чехова литературным разговором.
– Мы читали и «Убийство», и «Ариадну», и «Анну на шее», – говорила Мария. – Всё очень интересно. А большие вещи вы пишете? Роман?
– Роман у меня не получается. Есть собаки большие и есть маленькие, каждая лает по-своему. Я маленькая собака.
– Лучше вас никого нет в литературе, – сказала Татьяна и вновь несколько смутилась. – Я всё ваше перечитываю по нескольку раз. И «Ариадну» перечитывала...
Она замолчала и посмотрела на сестру – та заинтересовалась громкими голосами спорящих.
– Да пойми ты наконец, – громогласно возмущался Лев Николаевич непонятливостью жены, – что нельзя сегодня изображать исторических лиц так, как их изображали триста лет назад...
– Вам понравилась «Ариадна»? – заинтересовался автор злого рассказа.
– Да, – вполголоса сказала Татьяна, словно созналась в нехорошем поступке. – Наверное, это стыдно, но я... я представляла себя Ариадной. Конечно, это на мгновение, но мне хотелось стать такой женщиной. Как вы умеете проникать в женскую душу! Вы у меня вызвали то, чего я ещё не знала в своей душе.
– Вы настоящая женщина, Татьяна Львовна, и у вас в жизни будет счастливая любовь.
– Таня, попросим Антона Павловича, чтобы он нам погадал, – сказала Мария. – Я возьму новую колоду.
– Но я же не умею гадать.
– У нас простое гаданье, – успокоила Татьяна. – Вы снимите колоду и откроете карту. Мне и Маше.
– Сначала мне, – сказала Мария.
Показалось, что электрический свет странно мигнул и неслышимый порыв ветра холодом ударил в лицо. Посмотрел на сестёр – они спокойно ждали его гаданья. Конечно, показалось.
– Итак, открываю карту Марии Львовне, – сказал он нарочито низким басом, заставив Софью Андреевну прервать свою длинную очередную реплику в споре и обратить внимание на карты.
Он открыл туза пик.
– Ну вот, – разочаровалась Мария. – Лучше бы ты, Таня, первая загадала. – И взяла свой туз из колоды.
– Твоя карта всё равно тебя найдёт, – возразила Татьяна. – Теперь мне. Я уже что-то загадала.
Он вновь перетасовал колоду, снял, открыл карту, и...
– Это ужасно! – воскликнула Татьяна.
Перед ней лежал туз пик.
– Как же так? – поразилась Мария. – Вот мой туз.
– Вы ещё меня на старости лет спиритом сделаете, – сказал Толстой. – Дайте-ка сюда колоду.
Проверили карты, и оказалось, что в колоде действительно была лишняя карта – туз пик.
– Вы, Антон Павлович, роковой человек, – сказал Толстой. – Хочу вас что-то спросить по секрету.
Пригласил в кабинет, усадил и сказал:
– Жалею, что давал вам читать «Воскресение».
– Почему?
– Да потому, что теперь там не осталось камня на камне. Всё переделал.
– Дадите прочитать?
– Закончу – дам.
– Вы хотели что-то спросить.
– Да. Вот с тузами и королями. Вы – бубновый король, а в лице что-то печальное. Молодой мужчина, неженатый. Как у вас с женщинами? Сильно распутничаете?
– Да... Нет... Знаете... – забормотал, не зная, что отвечать.
– Я был неутомим. Из опыта вам скажу: не та баба опасна, которая за ... держит, а та, которая за душу.







