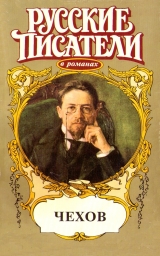
Текст книги "Ранние сумерки. Чехов"
Автор книги: Владимир Рынкевич
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 35 страниц)
XIV
Он торопился обратно в «Большую Московскую», куда к семи часам обещала прийти госпожа Юст.
Лена, конечно, не опоздала, и в пятом номере они сидели и разговаривали, лежали и разговаривали, пили вино, и она несколько раз напоминала о часах, которые надо завести, – недавно впервые прочитала «Тристрама Шенди».
– Сегодня такой снег, cher maitre, как, помните, в ту ночь в «Славянском базаре»? Как я была счастлива тогда! И сейчас я счастлива. Но я пришла к вам на деловое свидание... Подождите...
Нашли время поговорить и о делах.
– Моё дело – «Чайка», – сказала Лена. – Она так хороша, так трогательна, так правдива и жизненна, так нова по форме...
– Это не дело, уважаемая коллега, а неискренние похвалы.
– О-о! Cher maitre! Почему же неискренние? Вы сами знаете цену своей пьесы. Она гениальна.
– Но спектакль-то не получился. Играли плохо, режиссёр ничего не понял. Комиссаржевская растерялась...
– Ну и что? Я всё это знаю. Впереди меня сидел Конради из «Нового времени» и даже не смотрел на сцену, а строил рожи своим приятелям. Эти идиоты смеялись в финале, когда доктор сказал, что взорвалась склянка с эфиром. Но при чём здесь «Чайка»? При чём Чехов? Актёры, декорации, репетиции – всё это, конечно, очень важно, но Шекспир, разыгрываемый даже самыми бездарными лицедеями в деревянном сарае, остаётся всё-таки Шекспиром. И моё дело – говорить как раз о таком любительском спектакле. Мы с Олей решили поставить «Чайку». Оля очень талантлива – она сыграет Нину. Вообще вы должны устроить Олю к Суворину.
– Где вы хотите играть?
– Где-нибудь под Москвой. Например, в Кусково или где-нибудь поближе к вам.
– Например, в Серпухове.
– Давайте в Серпухове.
– Оля тоже за новые формы?
– Конечно. И Анечка тоже. Вся наша семья за новую драматургию, которую создаёт Чехов!
– Рассказали бы мне, что это за новая драматургия.
– Это – «Чайка»! Искренность, душевность, лиричность...
– М-да... Всё понятно.
Одни считают, что ты вообще не умеешь писать, другие – что ты пишешь о случаях со своими знакомыми, а третьи просто не понимают. Но чувствуют.
– Cher maitre, не пора ли завести часы?
Когда включили свет, оказалось, что часы, на которые они за весь вечер так и не взглянули, показывают полночь.
– О-о!.. – испугалась Лена. – Меня ждали к десяти часам.
Она одевалась очень быстро и ловко – женщины, умеющие любить, всё делают быстро и ловко. Застёгивая перед зеркалом платье, вдруг остановилась обеспокоенно.
– Лена, что-то случилось?
– Случилось. – Она улыбнулась. – Вы меня так страстно раздевали, что сломали брошку. Это, конечно, мне льстит, но...
– Я разрешаю вам сломать за это мою жизнь.
– За вашу жизнь я отдала бы все свои жизни, если бы у меня их было несколько. А эта моя и сейчас принадлежит вам. В «Чайке» на медальоне мои слова: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми её».
XV
Двадцать третьего марта – день святого мученика Филита и жены его Лидии. В марте 1897-го, разбухшем от сырости и скучных мыслей, наконец стало понятно, что он и есть мученик Филит.
Ещё в новогоднем застолье она заявила с хмельной категоричностью:
– Именины праздную в Мелихове. В кои веки мне выпало воскресенье на именины. Хоть раз в год забудьте свою жадность, Антон Павлович, не пожалейте картошки.
Тогда, на Новый год, приехал из Ярославля Миша с женой, а из гостей, кроме Лики, была смешливая землячка Шурочка, так сказать, подруга детства, и художник Серегин – новый Машин поклонник. Шурочка, разумеется, залилась хохотом, а он решил уточнить:
– И это будет Прощёное воскресенье?
– Нет, Антон, не совпадает, – разочаровала Маша.
– Маша, не будь занудой, – упрекнула её Лика. – Антон Павлович так перед всеми виноват, особенно передо мной, что ему одного воскресенья не хватит.
Молодая Мишина жена Оля любила переодеваться в мужское. Доктор Чехов не стал объяснять, что означает сия привычка, а решил использовать её для праздничного веселья. На следующий день Олю нарядили в старые брюки и пиджак, натянули на женскую причёску большой картуз и поехали с ней в Васькино, в гости к инженеру Семенковичу. Когда гостей приняли, Ольга постучала в окошко, к ней вышел хозяин, она с жалобным видом подала записку, которую сочинил Антон Павлович:
«Ваше Высокоблагородие! Будучи преследуем в жизни многочисленными врагами и пострадав за правду, потерял место, а также жена моя больна чревовещанием, а на детях сыпь, потому покорнейше прошу пожаловать мне от щедрот Ваших сколько-нибудь благородному человеку.
Василий Спиридонов Сволачев».
Семенкович поверил, и общество много смеялось.
Было замечено, что Маша уделяла внимание Серегину меньше, чем брату и Лике, пытаясь понять, что происходит. А понимать было нечего, потому что ничего не происходило.
Всё произошло в марте, когда пришлось дышать не воздухом, а густым холодным паром, забивающим натруженные лёгкие. Ночами подолгу кашлял, а однажды утром увидел на подушке кровь. Началось кровохарканье, и главной целью жизни стало сокрытие новых страшных симптомов болезни от родных. Он был один на один с болезнью, и если что-то приближалось к нему, то лишь нечто требующее от него действий. Со всех сторон обступили жёсткие, давящие, неподатливые. Совсем не давали дышать и усиливали кашель. Так, наверное, доски гроба скоро будут сдавливать его.
Давили со всех сторон: в доме нет денег; в «Русской мысли» ждёт корректура «Мужиков»; не выдают ссуду на строительство школы в Новосёлках; художник Браз в Петербурге хочет писать портрет Чехова; в Ярославле любители собираются ставить нового «Лешего», то есть «Дядю Ваню», а он не готов; в Таганрогской библиотеке ждут новую партию книг; Авилова настаивает на встрече в Москве; надо решать с проектом Шехтеля[65]65
...решать с проектом Шехтеля... – Архитектор Шехтель Фёдор Осипович (1859—1926), представитель стиля «модерн», занимался перестройкой МХТ в 1902 году.
[Закрыть] о строительстве народного театра; съезд театральных деятелей в Москве...
Приехала из Москвы Маша и рассказала о встрече с Ликой: та просила передать, что приедет на именины с Гольцевым. Пришлось ещё покашлять, прячась от сестры, и написать Виктору короткое письмо: «...Правда ли, что ты имел намерение приехать к нам, чтобы вместе отпраздновать именины Лики? Вот ежели бы!»
Приезжала с Левитаном, с Потапенко, теперь – с Гольцевым. Не секрет, что она давно имеет виды на Виктора, но зачем выбирать местом действия Мелихово? Потому что «Я вам никогда это не прощу»?
В пятницу стало известно, что она вообще не приедет, и, прокашлявши почти всю ночь, в субботу 22-го он поднялся затемно и решил ехать в Москву.
Маша стерегла его и, когда он собирался, пришла в кабинет в халате, непричёсанная, сонная. Она всё чаще стала выглядеть старше своего бальзаковского возраста: на её лице не играли любовные страсти, а темнели заботы о хозяйстве.
– Ты всё-таки едешь? Как мне быть с деньгами? Ты же вернёшься из Петербурга, наверное, не раньше Пасхи?
– Я в Москву и обратно. Прочитаю корректуру, побуду на съезде. На днях Саша получит за «Чайку» и вышлет.
– А если она приедет?
Женщины становились отвратительно проницательными.
– Кто? – спросил он, озабоченно ища в столе какую-то бумагу.
– Ну Лика, конечно. Именины в воскресенье.
– Ах, именины... Если приедет – празднуйте.
– Праздновать не придётся. Она не приедет. Я была у них. Бабушка жаловалась, что Лика закружилась. Кстати, почему ты не пригласил Лику на спектакль в Серпухове? Она обиделась.
– Ей там было бы неинтересно. «Чайку» же не стали ставить. А откуда она узнала о спектакле? Я ей ничего не говорил. Ты сказала?
– Н-нет. Какой у тебя ужасный кашель последнее время! Это что? Кровь?
– Нет. Просто грязный платок.
На станцию вёз новый работник Александр, знаток лошадей. Объяснил, как надо ковать лошадь и почему теперь зимний путь порушен:
– Если за неделю до Благовещения на санях не проедешь – выворачивай из них оглобли и телегу выкатывай. А другой раз бывало, что и после Благовещения неделю зимний путь держится...
В Лопасне у станции встретил мужика, которого лечил от туберкулёза.
– Не снимай шапку, братец, – сказал ему, здороваясь. – Тебе беречься надо.
– Чего беречься, барин? Отжил я своё. С вешней водой уйду.
В поезде сел у окна справа, надеясь на утреннее солнце, но всю дорогу за окном плыл мутный туман над грязной землёй. Когда колеса вагона гулко грохотали на мостах, он вглядывался в грязно-синий лёд внизу: не пошла ли вешняя вода.
В Москве его ждал привычный № 5 «Большой Московской». На столе – стопка любимой бумаги, из окна вид на строящееся здание в лесах. Новая гостиница. Снаружи стену украсит панно Врубеля «Принцесса Грёза».
Сразу же написал записку:
«Л. А. Авиловой.
Я приехал в Москву раньше, чем предполагал. Когда же мы увидимся? Погода туманная, промозглая, а я немного нездоров, буду стараться сидеть дома! Не найдёте ли Вы возможным побывать у меня, не дожидаясь моего визита к Вам? Желаю Вам всего хорошего.
Ваш А. Чехов».
Отправив записку с посыльным, спустился в ресторан. Его встретил Бычков:
– С приездом, Антон Павлович, очень вам рады-с. Прикажете омлет с ветчиной?
– Нет, Семён Ильич, давай пост соблюдать. Какой-нибудь рыбки, что ли.
– Стерлядку кольчиком не желаете ли?
– Давай, братец, стерлядку. Скоро выйдет моя новая повесть. Называется «Мужики». Там я пишу об одном официанте. Ты своими разговорами помог мне писать.
– Очень даже хорошо, Антон Павлович. Не могу даже объяснить, какое для меня удовольствие.
Сразу после завтрака посыльный принёс ответ:
«Благодарю за приглашение. Обязательно буду в 8 часов. Я так много должна Вам сказать.
Ваша Л. А.»
Съезд театральных деятелей проходил в Малом театре, и он успел прослушать последние выступления. Заключил заседание секретарь съезда. Он говорил о необходимости поднять уровень, принять меры к упорядочению и исключить всё, что не соответствует художественным принципам.
Потом с Сувориным стояли в фойе, раскланиваясь со знакомыми. Подошёл Немирович-Данченко, подтянутый, серьёзный, сосредоточенный.
– Много лишних слов, – сказал он, – но возникает хорошая атмосфера вокруг театрального дела. Мы с Костей Станиславским кое-что задумываем. Может быть, новый театр.
– Он в своей речи напустил столько воды, что только Христос мог бы превратить её в вино, – сказал Суворин.
– У него и в спектаклях это есть, – заметил Немирович. – Нетвёрдость, водянистость внутренних линий, неясность психологических пружин. Однако...
Он посмотрел на часы и попрощался.
С Сувориным обсуждали, где пообедать. Хотелось уговорить его на «Большую Московскую»:
– Совсем рядом, Алексей Сергеевич. Познакомлю вас, так сказать, с прототипом новой повести: очень хороший официант.
– Правильно решили с прототипом, Антон Павлович. Лучше об официантах, чем о своих знакомых. Но обедать – в «Эрмитаж». Ваша «Большая Московская» – это же трактир.
До восьми вечера ещё было много, и он согласился. Наверное, лучше бы не соглашался.
С того неприятного вечера с Ликой прошло семь лет, и много раз приходилось здесь и обедать и ужинать, но именно в этот сырой мартовский вечер он оказался за тем же столиком. Он узнал его по настенной лепке напротив: белая обезьяна смотрела прямо на него, как и тогда. Наверное, говорила: «Я никогда вам это не прощу».
Суворин расспрашивал о переписи.
– Великое дело, сударь мой, – вспомнил он о своей недавней работе. – Из ста двадцати шести миллионов населения Российской империи ваш покорный слуга переписал почти двадцать тысяч. Мои счётчики работали прекрасно. А вот земские начальники вообще ничего не делали. Мой начальник только сообщал мне иногда, что он болен. Я и сам ходил переписывал. Бился головой о притолоки – наши мужики экономят дерево, когда строят избы...
Принесли водку, икру, рыбу, салаты. Заметив, что он посмотрел на часы, Суворин сказал с соответствующей улыбкой:
– На рандеву торопитесь, голубчик? Старых фавориток не вспоминаете? С глаз долой – из сердца вон? Кстати, Лидия Борисовна Яворская, то бишь княгиня Барятинская, завтра именинница. День святой Лидии. Князь влюблён в неё по уши. При дворе уговаривали, но он пренебрёг всем: наследством, карьерой.
– Она всегда мечтала о титуле. Как моя Ариадна.
– Ариадна, Мисюсь... Ваши героини уже живут.
Обезьяна на стене дразнила мокрым извивающимся языком, и в её оскале обнаруживалось сходство с той сверкающей улыбкой, что казалась когда-то наивно-смущённой, прячущей тайну юной чистой женственности, а теперь открыла ему свою сущность природной маски, подобной яркому оперению для привлечения самцов.
– Мисюсь, где ты? – прошептал он, закашлялся и почувствовал во рту тёплую тошнотворную кислоту.
Он прижал к губам платок, и кровь сразу запятнала его белизну, закапала на руки, на рукава, на стол.
– Антон Павлович! Голубчик! Что с вами? – кричал Суворин. – Эй, человек! Неси лёд!..
СЁСТРЫ
1897-1901
I
 акануне прошёл первый весенний дождь, от просыхающей под утренним солнцем земли исходил могучий дух вечной жизни, и хотелось верить советам профессора Остроумова и остаться в Мелихове. Маша выбежала навстречу, сияя улыбкой и пряча слёзы. Ей – первые слова благодарности: ни отец, ни мать так и не узнали, что он всё это время пролежал в клинике.
акануне прошёл первый весенний дождь, от просыхающей под утренним солнцем земли исходил могучий дух вечной жизни, и хотелось верить советам профессора Остроумова и остаться в Мелихове. Маша выбежала навстречу, сияя улыбкой и пряча слёзы. Ей – первые слова благодарности: ни отец, ни мать так и не узнали, что он всё это время пролежал в клинике.
– Антон, я не могла поступить иначе. Ты же знаешь, что для тебя я сделаю всё. Я и живу ради тебя. У меня больше никого нет.
– Марья, а я тебе не брат? – возмутился Иван, сопровождавший его от Москвы. – Целуй и меня, а то...
– Поставишь три с минусом за поведение, – засмеялась Маша.
Вышли встречать и родители. Мать возмущалась:
– Приехал, непоседа. Ждали, ждали. Неужто, думаю, и на Пасху не приедет.
– Нынче страстная пятница, – строго напомнил Павел Егорович, – но мать там чего-то тебе наготовила. Постное, но хорошее.
Возвращение в свой дом, в свой кабинет, конечно, радовало – хотя бы потому, что наконец освободишься от обязательного общения с озабоченными докторами, с сочувствующими, а то и просто любопытствующими посетителями и с братом Иваном, который успевает надоесть за несколько минут, а он с ним уже второй день. У Ивана в жизни, в семье, в доме всё правильно, всё прилично, всё на месте, нет ничего лишнего – как в плохих стихах. Смотришь на всё это правильное и приличное и видишь пустоту – человек не может жить без того, что кажется лишним, а на деле и есть самое главное человеческое. Вот и сестра...
С Машей был долгий разговор в саду, на скамейке, под нежарким ещё солнцем. Он говорил мягко, стараясь не очень её обидеть:
– В клинике у меня было много времени для размышлений. Я думал и о тебе. Я знаю, как ты любишь Мелихово, но ты любишь не место на земле, не сад, не дом, не пруд – всё это для тебя лишь имущество, богатство, и твоя цель – быть хозяйкой богатства. Ты не вышла замуж за Сашу Смагина, которого любила, потому что не хотела быть женой хозяина. Здесь ты хозяйка, пока я не женат, и твоя цель – остаться хозяйкой – означает, что я должен навсегда остаться холостяком. И ты добиваешься этого уже много лет настойчиво и умно. Знакомила меня с подругами, поощряла мои ухаживания за ними. Тебя радовало, когда они становились моими любовницами, потому что на любовницах не женятся. Ты всегда внимательно следила за моими отношениями с твоими подругами, и, когда появилась Лика, ты забеспокоилась. С ней было не так, как с Ольгой, с Дуней Эфрос, с Дришкой и прочими. Ты почувствовала опасность и начала действовать. Провожая меня на Сахалин, ты очень горько плакала – истинное горе выражается не так; это знает каждый психиатр. Ты радовалась, надеясь, что моё путешествие помешает сближению с Ликой. В каждом письме тебе я передавал тогда приветы ей, какие-то поручения, какие-то слова, но ты ей не говорила об этом ничего! В письмах я просил тебя взять Лику летом на Истру – ты этого не сделала. Ты поощряла начавшиеся тогда ухаживания Левитана за ней. В то несчастное лето в Богимове ты поняла, что мы снова сближаемся с Ликой, что она любит меня. И ты действовала решительно. Я не знаю, что ты ей сказала, как ты её уговорила ехать не к нам в Богимово, а в Покровское, но без тебя здесь не обошлось. И слежку за Ликой и Левитаном устроила ты. Когда у них возник роман, ты сразу сообщила мне. Зачем? Ведь я мог и не знать. И в первое мелиховское лето ты почувствовала, что опять между нами что-то начинается, и очень боялась, что я куда-то уеду. Ты правильно почувствовала – мы собирались в тайное путешествие на юг. И Танечку ты нашла для меня, чтобы я, не дай Бог, снова не вернулся к Лике. Это был твой умный ход: если бы не та весёлая осень девяносто третьего, если бы не «эскадра», Лика не уехала в Париж с Потапенко. Танечка была для тебя неопасна, потому что на таких не женятся. Даже после того, что произошло у Лики с Игнатием, ты не успокоилась. Даже после смерти её ребёнка ты продолжала действовать: рассказала ей о спектакле в Серпухове с сёстрами Шавровыми, чтобы она обиделась и не приехала на свои именины. И меня настраивала против неё, придумав, будто она собиралась приехать с Гольцевым. Ты добилась своего: с Ликой всё кончено. Но главной своей цели ты не достигла: я ещё не умер, у меня будут новые встречи, новые планы, и ты мне не помешаешь. Ты будешь делать лишь то, что будет необходимо мне. Твоё благополучие зависит от меня. Ты хозяйка здесь, пока я жив, а после смерти ещё неизвестно, кто будет хозяином. Теперь твои интересы – это мои интересы.
Разговор мог быть очень долгим, но он его сократил и сказал только:
– Я знаю, как ты любишь Мелихово, но здесь мне жить нельзя.
Больше он не сказал ни слова, но лицо у сестры было таким напряжённым и хмурым, будто она услышала всё, что он задумал.
«Многоуважаемая коллега, я приеду в среду в 12 часов дня. С вокзала прямо в «Славянский базар» завтракать. Давайте позавтракаем вместе. Встретиться мы можем в книжном магазине Сытина, в том самом, который имеет общее entree с рестораном «Славянского базара». Будьте в магазине в 12 1/2 часов не позже, войдите и спросите: «Не был ли здесь Чехов?» Если Вам ответят отрицательно, то благоволите сесть и подождать, я приеду не позже 12 1/2 часов. Из ресторана отправлюсь добывать денег. Если бы Вы умели делать фальшивые бумажки, то я на коленях умолял бы Вас развестись с мужем и выйти за меня. Будьте здоровы.
Ваш А. Чехов».
II
Лена жила в Москве, ожидая встречи с ним, и прислала записку с просьбой назначить время и место. В конце мая он написал ей:
Однако в магазине он её не дождался и, не особенно расстроившись, направился в Леонтьевский, в «Русскую мысль». Московский май, ещё не пыльный и не жаркий, с ярко-лаковой листвой тополей и вдруг выглянувшей из-за решётки особняка сиренью всегда вселял нелепые надежды. Даже теперь он надеялся добыть тысячи две, поехать за границу и начать новую пьесу в форме «Чайки», но совсем о другом, о великом, о чём он хотел сказать позже, в конце жизни, набравшись опыта, но теперь ждать нельзя.
В редакции Гольцев с виноватым лицом рассказал о цензурных приключениях «Мужиков»: вырезали почти целую страницу в конце повести, а там, может быть, самые главные строчки:
«...они грубы, нечестны, грязны, нетрезвы, живут несогласно, постоянно ссорятся, потому что не уважают, боятся и подозревают друг друга. Кто держит кабак и спаивает народ? Мужик. Кто растрачивает и пропивает мирские, школьные, церковные деньги? Мужик. Кто украл у соседа, поджёг, ложно показал на суде за бутылку водки? Кто в земских и других собраниях первый ратует против мужиков? Мужик. Да, жить с ними было страшно, но всё же они люди, они страдают и плачут как люди, и в жизни их нет ничего такого, чему нельзя было бы найти оправдания. Тяжкий труд, от которого по ночам болит всё тело, жестокие зимы, скудный урожай, теснота, а помощи нет и неоткуда ждать её...»
– И власть в лице цензуры против того, что я пишу о мужиках, и революционер Михайловский против. Ты не объяснишь мне, Виктор, что сей сон значит?
– Власть знает, что это правда, и боится, а Михайловский... тоже боится правды. Страшно признаться, что всю жизнь ошибался.
– Значит, если произойдёт революция...
– Обязательно произойдёт, Антон.
– К власти придут михайловские и тоже будут душить цензурой беллетриста Чехова.
– Если в стране будет настоящая конституция...
– Если Виктор заговорил о конституции, то надо у него просить денег взаймы.
– Сколько тебе?
– Тысячи две хватит.
– Я серьёзно. Рублей двести я найду. Аванс можно у Вукола вымаклачить, как выражается Игнатий.
– Чтобы поправить здоровье по-настоящему, мне нужен отдых. Так, чтобы я мог отдохнуть в течение года. Хотя бы год прожить в покое, без забот о деньгах, без срочной работы. Пожить на юге, за границей.
– Только за границей, Антон. Здесь скоро начнётся что-то страшное. Слышал о Ветровой? Она народоволка, сидела в Петропавловке. Не выдержала издевательств, облила себя керосином и сожглась! Общественность возмущена. То, что началось Ходынкой, закончится чем-то страшным. Народ поднимается.
– Витя, какой народ? Ты читал мою повесть? Это и есть наш народ. Курсистки, вроде этой Ветровой, и студенты всегда за перемены, всегда против насилия и произвола властей. Пока они молоды, они все очень хорошие люди, а потом почему-то становятся такими же душителями-чиновниками, как и все. Как эти цензоры, которые отрезали хвост у повести. Наверное, мою протеже Шаврову тоже цензура задушит. Название «Жена цезаря» они не пропустят.
– Мы говорили с Вуколом – его название не беспокоит. Да и сам рассказ спокойный. Не о конституции, не о революции.
– Я поверю в революцию только тогда, когда её станут делать люди не моложе сорока лет. Учти, что мне ещё нет сорока. Кстати, меня не спрашивала сегодня дама?
– Антон! Поздравляю: ты выздоровел! Не спрашивала, но обязательно спросит.
В Мелихове его ожидало письмо от Лены: «Ваше письмо запоздало, я получила его в 2 1/2 часа вечера, в среду. Затем я послала три телеграммы, затем в 7 часов вечера я поехала на Курский вокзал...»







