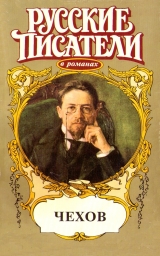
Текст книги "Ранние сумерки. Чехов"
Автор книги: Владимир Рынкевич
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 35 страниц)
XXII
Она сидела на балконе, погружаясь в густую сладость июльского дня, рассматривая новый для неё пейзаж – только что приехала в имение к сестре, но искупаться в холодной и чистой Истре уже успела. Справа – золотые блестки куполов Нового Иерусалима, левее – сосновая прохлада Дарагановского леса, перед ним, на косогоре, расставлены избы села, и широкой дугой через поля – пушистая тёмно-зелёная полоса ракитника, и по нему голубые осколки речки. Надя и хозяйка имения Маша только что вернулись из купальни и грелись на балконе, усевшись на низких табуреточках и накинув лишь лёгкие белые платьица. Солнце напекло Наде голову, и она повернулась спиной к пейзажу. Внизу возникло движение, Маша спросила кого-то невидимого:
– Что вы там делаете, Антон Павлович?
– Червей копаю, Марья Владимировна. Собираюсь поудить на закате.
Он возился в земле, то и дело поднимая взгляд.
– Это наш дачник, Антон Чехов, – сказала Маша. – Известный писатель.
Надя оглянулась и увидела под балконом русоволосого красавца. Он ушёл, но вскоре появился другой молодой человек и тоже сказал, что пришёл накопать червей для рыбной ловли.
– А это Николай Чехов, – объяснила Маша. – Известный художник.
Завершил эпизод подросток, третий Чехов. Он тоже копал червей и робко поглядывал вверх, где ветерок колыхал белые платья. Сёстры переглянулись, рассмеялись и пошли переодеваться.
Вечером в честь приезжей состоялся бал с угощением: торты, варенье, конфеты, бывший тенор Большого театра с ариями Ленского, хозяйка с романсом «Мне грустно потому, что весело тебе», «Лунная соната» с погашенной лампой и луной в окне...
Шесть лет промчались не по-пушкински, как мечтанье, а просто промчались, и по приглашению Надежды Владимировны в её петербургскую квартиру с опозданием явился усталый грустный мужчина. Вместо шапки вьющихся волос она увидела поредевшую гладкую причёску над большим голым лбом. Лишь один завиток вырвался из причёски и напомнил прежнего Антона.
Её удивили новые неожиданные манеры, странная застенчивость. Он явно обрадовался тому, что мужа нет дома, что обедать будут вдвоём. За столом нервно вертел салфетку, крутился в кресле, почему-то сунул салфетку за спину и вдруг сказал:
– Извините, Надежда Владимировна, я не привык сидеть за обедом, я всегда ем на ходу.
Она вежливо согласилась:
– Пожалуйста, не стесняйтесь, гуляйте, я забыла про ату вашу привычку.
– Вас я не стесняюсь, а вот ваш лакей меня стесняет.
– Он сейчас уйдёт.
Так и прохаживался весь обед, подходил к столу, садился на минутку, торопливо ел и вновь ходил. После обеда в гостиной у камина сел в удобное кресло и говорил о литературе. Чувствовал себя, по-видимому, не очень хорошо и говорил строго. О рассказе самой Надежды Владимировны сказал:
– Хвалили ваш рассказ. Это нашего брата, работающего из-за куска хлеба, поносят. Вы ведь пишете так, «пурселепетан». Для препровождения времени.
– Вы так думаете? – обиделась хозяйка.
– Уверен. Вы и ваша сестра, вы обе брызжете талантами, но, простите, из вас никогда ничего не выйдет, потому что вы сыты и не нуждаетесь. Вы никогда не переступали порога редакции, куда наш брат ходит как на пытку, стоит, как нищий, с протянутой рукой, держа плод своих трудов. Чаще всего в его руку кладут камень, а не деньги.
– Простите, – удивилась Надежда Владимировна, – ведь так страдают бездарности, но не таланты.
– Таланты? В том, чтобы вас признали талантом, чтобы напечатали и поставили на путь славы, случай играет гораздо большую роль, чем талант. Были писатели совершенно без таланта, которые сначала сумели попасть в тон, работали без устали, не смущаясь тем, что их произведения беспощадно им возвращали; упорным трудом научились писать по-литературному, и такие добивались цели и становились писателями не первоклассными, может быть, но заслуживающими внимания публики. С талантом без труда и поддержки ничего сделать нельзя...
Наверное, так и не поняла старая знакомая, чем он болен. По-видимому, посчитала нервным расстройством. Не догадалась, что болезнь генеральская.
XXIII
Долгий путь прошло человечество от первобытных пещер до поэзии Пушкина, до поездов и телефонов, но останавливаться нельзя; ещё идти и идти, чтобы избавиться от лжи и ненависти, от животного отношения к женщине, от рабского состояния души. Беда или болезнь Суворина и ему подобных, наверное, в том и состоит, что они не хотят идти дальше: довольны своим состоянием, своими якобы литературными произведениями, и пусть Русь стоит как стояла.
Хорош бы он был, если б остановился на рассказиках Чехонте. Жаль, что никто не идёт рядом, но лучше идти вперёд одному, чем оставаться без движения вместе со всеми. И неприятно сознавать, что читательское большинство, подписчики «Нового времени», скорее понимают и принимают Суворина, Буренина, либеральствующего Потапенко, чем автора «Палаты № 6».
Потапенко вообще удивлял. Все читали и хвалили его повесть «На действительной службе», где автор превозносил священника Обновленского, который выбрал не карьеру высокопоставленного духовного лица, а «действительную службу» бедным и тёмным людям, нуждающимся в религиозной опоре, освободил свою паству от высоких церковных поборов. Всё равно что с восторгом написать о человеке, решившем не воровать, а жить честно. Впрочем, для читателей Потапенко отказ от воровства, наверное, подвиг, на который нелегко решиться. А его повесть «Здравые понятия» вообще показалась пародией – о «здравых понятиях» влюблённой пары, собирающейся вступить в законный брак. Узнав, что в невесту влюблён престарелый миллионер, они решают вполне здраво: невеста выходит за миллионера с условием, что он кладёт в банк на её имя три миллиона и пишет завещание в её пользу. В результате все довольны: насладившийся молодой женой миллионер умирает, влюблённые соединяются, читатели в восторге – они имеют здравые понятия о семье и браке.
Но известному всей России Чехову не к лицу испытывать неприязнь к человеку, не совершавшему ничего дурного и тоже известному русским читателям. Встретившись с Потапенко в редакции «Русской мысли», старался быть с ним особенно дружелюбным.
В зеркальные окна особняка в Леонтьевском переулке, известного всей либеральной Москве, щедро лился весенний свет, и разговоры велись просторные, светлые, вольные. Здесь любили собираться в большой редакционной комнате и говорить обо всём. Гольцев, Саблин, Ремизов – темпераментные бородачи, осколки народничества, – громко восхищались экономическим учением Карла Маркса, но не соглашались с его революционными выводами.
– Нельзя видеть в человеке только автомат для исполнения экономических законов, – горячился Гольцев, потрясая большим облысевшим лбом. – Есть же разум, психика, стремление к добру и красоте. Нетрудно поднять на революцию рабочих, страдающих от эксплуатации, гораздо труднее нести тем же рабочим свет знания и культуры, а это единственный правильный путь к освобождению.
– Марксисты хотят залить Россию кровью, – сказал угрюмый Ремизов.
– Вспомните Пушкина, – поддержал Саблин. – Он знал, что русский бунт всегда бессмысленный и беспощадный.
И здесь довлела злоба дня: с особенным интересом обсуждались события, в которых участвовали и «Русская мысль», и «Новое время», – панамская авантюра и выставка Антокольского.
– Они радовались тому, что во Франции судят министров – думали, что это опорочит свободную республику, – говорил Гольцев. – Не понимают недалёкие тупые ретрограды, что такие действия, наоборот, делают честь государству, где царит конституция и основанные на конституции законы. Министр Байо хапнул триста тысяч и получил своё. Даже Клемансо оказался замешанным, и поделом.
– Суворин сынка послал в Париж отмываться, – напомнил Ремизов. – Читали, Антон Павлович, Протопопова?
– Каюсь: не успел. Недосуг.
Статья Протопопова, украсившая вместе с «Рассказом неизвестного человека» второй номер «Русской мысли», в общем, показалась справедливой, но этот бездарный критик не заслуживает, чтобы о нём говорил Чехов, тем более говорил что-то положительное.
– Вот я вам прочитаю кусочек: «Не господин Суворин-отец интересует нас – это давно определённая литературная величина, и не самозванство господина Суворина-сына возмущает нас – слишком много чести было бы для него возмущаться теми или другими его поступками. Нас удивляет и в некотором смысле даже тревожит спокойствие, с каким наша печать смотрит на то, как чисто частное дело одной газеты на виду у всех, ловким движением опытных рук, было превращено в общее дело всей печати и притом – подумать только! – в дело чести...» И вот ещё здесь: «Если бы газета действительно получила из панамских капиталов 500 тысяч франков, этот факт был бы не более как последним штрихом, дорисовывающим её физиономию, только и всего...» Или ещё вот здесь: «С которых это пор мы, русские писатели, должны разделять с «Новым временем» ответственность за его действия? Разве мораль этой откровенной газеты – наша мораль, разве её консервативно-либерально-прогрессивно-реакционное направление не есть её исключительное достояние, поддерживаемое только двумя-тремя ничтожными листками? Наоборот, одной из первых забот всякого чистого органа было до сих пор ревнивое отгораживание себя от всякого соседства с «Новым временем», открещивание от всякой с ним солидарности – нравственной в особенности...»
Лавров отличался от своих редакторов тем, что бородку имел поменьше, посовременнее, не был таким разговорчивым и, главное, лишь частично присутствовал там, где находился в данный момент. Он постоянно жил в какой-нибудь литературной мечте, рассматривал её подобревшим взглядом и даже слегка улыбался, удивляя собеседников. Однако назойливость Ремизова, пытавшегося ткнуть Чехова носом в «Новое время», вернула его в действительность:
– Развращает Россию не только сам Суворин, – сказал он, – но главным образом безнравственные, бессовестные люди, которым он позволяет печататься в газете. Антокольский – прекрасный скульптор, признанный в Европе, а что о нём написал этот озлобленный Житель? Оказывается, Антокольский не скульптор, а еврей! Собачий бржех в газете. Не могут простить еврею, что он талантливее многих русских, что именно он создал замечательные русские вещи: «Пётр», «Ермак». Разве для России, для русского народа есть какая-нибудь польза в том, чтобы оскорблять и отторгать от себя талантливых людей других наций, честно работающих на благо России? Так же непристойно и оскорбительно относятся они и к польской литературе...
Потапенко, сидевший рядом с Чеховым, незаметно толкнул соседа локтем: мол, сел на любимого конька переводчик с польского. Он ответил ему понимающим кивком. Вообще Потапенко был угрюмо-задумчив, и если Лавров говорил мало, то Игнатий ещё меньше. Наверно, переживал резкую критику на свои повести в какой-то петербургской газете. Напомнил ему чудесный одесский борщ, сказал, что в семье Чеховых его читают, – в основном читал Фрол вслух для горничных, – но так и не смог разговорить, пока не сели обедать.
Давал обед Лавров. Кормили икрой, сельдью под шубой, солянкой, кулебяками и прочими русскими яствами.
Он постарался сесть рядом с Потапенко, пытался развеселить, сказал, что он совсем не читает критику на себя, что критики – это импотенты, рассуждающие о любви, но Игнатий лишь вздохнул и улыбнулся невесело. Тосты были длинные и либеральные – здесь все умели говорить долго и складно. Гольцев был в ударе и, конечно, предложил тост за конституцию:
– Только идеалом красна жизнь, – говорил он. – С самых первых детских впечатлений моим идеалом стала свобода. Я грезил подвигами Гарибальди и мечтал, что, подобно ему, освободившему Италию, я буду освобождать Россию от тиранов. И сейчас я ношу в сердце идеал свободы, но опыт жизни, опыт революционной борьбы, – наверное, все знают, что царские жандармы дважды меня арестовывали, – опыт общения с единомышленниками, с вами, друзья, привёл меня к твёрдому убеждению, что путь к моему идеалу лежит не через кровь. Как бы ни были хороши солдаты Гарибальди, благороднее и величественнее всех революций и гражданских войн – справедливый закон, дающий свободу всем. Этот закон – конституция! За конституцию, друзья!
– К девкам любит ходить, – сказал Потапенко вполголоса, опорожнив бокал и кивнув на чернобородого Гольцева. – И этот тоже. – И указал на сидевшего напротив сердобольного Саблина.
– А вас приглашают, Игнатий Николаевич?
– Не до этого, – тяжело вздохнул Потапенко.
Третьим писателем, присутствовавшим на обеде, был Эртель[50]50
Третьим писателем... был Эртель... – Русский писатель Эртель Александр Иванович (1855—1908) считался приверженцем просветительского демократизма и живописал Россию 1880-х годов, его лучший роман – «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги».
[Закрыть], по годам ненамного старше Потапенко и Чехова, но, как бывший заключённый Петропавловки, он чувствовал своё превосходство над всеми присутствовавшими. За кофе он говорил комплименты Чехову:
– Я почему-то долго не ценил вас, Антон Павлович. В «Степи» показалось несоразмерное нагромождение описаний, да и ваши связи с разбойничьей артелью «Нового времени» как-то отталкивали. Но «Палата № 6»! Эта такая глубина! После Мопассана вы для меня самый крупный современный писатель.
Комплименты настолько сомнительные, что хотелось ответить резко. Потапенко заметил это опасное намерение, осторожно взял за локоть и сказал:
– Хиба ж Мопассан письменник? Вин же хранцуз.
И все трое рассмеялись.
С Игнатием перешли на «ты». Он сказал:
– Ты, Антон, самолюбив. Отзываешься на каждый бржех, как скажет Лавров.
– Надоело, Игнатий. То было: «Короленко и Чехов», теперь: «Мопассан и Чехов». А я просто Чехов. Да ты и сам переживаешь критику.
– Откуда ты взял?
– Целый день вздыхаешь из-за какой-то статейки.
– Что? Из-за той газетки? Да я и не чихнул. Грошей нема – вот что мучает. У Вукола авансов набрал – больше не даёт. Тебе Суворин платит? Мне Павленков даёт пятьсот рублей за пятнадцать листов и печатает пять тысяч экземпляров. Прожился начисто. А у меня жена и две девочки: три годика и семь лет. И ещё одна жена в Одессе. Где на них набраться? К Суворину хочу подъехать. Как думаешь, даст?
Потапенко показался скучным.
XXIV
Вскоре в редакцию «Русской мысли» явился нервный Суворин-младший. Долго бранился с Гольцевым и Ремизовым, после чего был принят Лавровым. Вукол Михайлович сидел в кабинете за столом, устремив мечтательный взгляд в пространство, где мучился герой Сенкевича Плошовский, решившийся на самоубийство после смерти возлюбленной. Для нового издания романа «Без догмата» хотелось улучшить перевод финала: «И чем сильнее я боюсь, тем больше не ведаю, что ждёт нас там, за гробом, тем мне яснее, что не могу я отпустить тебя туда одну, моя Анелька, – я пойду за тобой...»
В это мерцающее пространство вкатился Гольцев, за ним впрыгнул напряжённый Алексей Алексеевич Суворин. Отказался сесть, начал говорить громко, не останавливаясь, не теряя логики речи – подготовился, заучил. Выступал от имени истинно русской журналистики и всё требовал, требовал.
– Мы требуем, – восклицал он, – чтобы в журнале «Русская мысль» было напечатано извинение за оскорбительные высказывания по адресу «Нового времени», газеты, которая честно исполняет свой патриотический долг. В тексте, который вы обязаны опубликовать, должны быть опровергнуты лживые утверждения, будто взятка в пятьсот тысяч франков дорисовывает физиономию нашей газеты и ещё будто всякий чистый орган ревниво отгораживается от «Нового времени»...
– Опровержение утверждения об отгораживании, – мечтательно проговорил Лавров. – Так я не понял, чего вы хотите?
– Мы требуем, чтобы в журнале «Русская мысль» была напечатана статья, опровергающая...
– Виктор Александрович, кто от нас чего-то требует?
– Я вам представлял – сын Алексея Сергеевича Суворина.
– Ах да... «Новое время». Но почему чего-то требуют от нас? В журнале «Русская мысль» требования какого-то Суворина никого не интересуют.
– Я приготовил текст. – Из кармана пиджака Суворин достал сложенную бумагу. – Мы обсуждали текст с господином Гольцевым, и я считаю необходимым, я требую...
Он протянул свой текст через стол, но Лавров сделал отстраняющее движение рукой, и его пальцы встретились с пальцами Суворина, сжимающими бумагу.
– Мы не будем ничего смотреть, – сказал Лавров.
– Вы... Так? Тогда получайте.
Выронив бумагу, Суворин размахнулся, пытаясь ударить Лаврова по лицу, но тот успел отстраниться. Однако пальцы Суворина-младшего всё же коснулись шеи Лаврова. Вскочил Гольцев и схватил Суворина за руки.
– Ничтожество, – презрительно сказал Лавров. – Отпустите его, Виктор Александрович, – он неопасен. Я же тебя застрелю, как поросёнка.
– Стреляйте! – истерически кричал Суворин. – Неужели вы думаете, что в деле чести я отступлю перед револьвером?
– Дело чести? Ты знаешь такие слова? Я дворянин и вопросы чести могу решать только с дворянином. А Суворины кто? Вы не знаете, Виктор Александрович? Не знаете, кто у нас издаёт «Новое время»? Я вам скажу: сын кухарки и сеченного розгами солдата.
XXV
О пощёчине, полученной Лавровым от Суворина, долго говорили в так называемых литературных кругах. Вспомнили об этом и с Потапенко, когда он впервые приехал в Мелихово и окунулся в июльский праздник зелени и солнца. Приехавший с ним вечный сопровождающий и организующий встречи Сергеенко окунулся ещё и в ближний малый пруд, под окнами дома, уже покрывающийся зеленью.
– Грех не искупаться в такую жару, – сказал он и начал раздеваться.
Его отговаривали, объясняли, что есть другой пруд, чистый, надо лишь немного пройти, но он разделся донага и полез в воду, разгребая ряску.
– Тебя же видят из дома и с дороги, – стыдил его Потапенко.
– Пускай не смотрят. А ты сам давай раздевайся и лезь сюда.
– Не буду я купаться в этой грязной луже.
– Но ведь в химии грязи не существует. Взгляни оком профессора. Сделай Антону одолжение. Невежливо приехать к новому землевладельцу и не выкупаться в его помойной яме.
Вылез из воды и долго растирался на солнце, к весёлому удивлению горничных Маши и Анюты, то и дело пробегавших из дома в кухню и обратно.
Когда гуляли по саду, Сергеенко с той же назойливостью, с какой уговаривал Потапенко лезть в воду, начал уговаривать хозяина ехать к Толстому:
– Антон, едем завтра же. Лев Николаевич тебя ждёт. Ему понравилась твоя «Палата». Он мне так и сказал: «Палата № 6» очень хорошая вещь».
Кому же ещё, как не Сергеенко, мог высказывать Лев Толстой своё мнение? Потому и неприятен этот земляк. Потому и не поедет он с ним к Толстому. Он встретится с ним без посредников.
– Сейчас не могу ехать – нездоровится.
– Ты же врач. Вылечись – и поехали. Прими порошок с водкой...
– У меня к тебе просьба, Игнатий. Будешь ехать обратно – захватишь письмо Суворину. Отправишь из Москвы.
– Ради Бога, Антон, конечно, захвачу. Как он там? Воюет со своими?
– Только что вернулся из-за границы. А уехал ещё тогда, после скандала с «Русской мыслью».
– Этому сынку я бы просто харю набил, – заявил Потапенко.
– После эпизода с пощёчиной я выразил своё возмущение в письме и хотел вообще порвать с ним, но он прислал покаянное письмо. Старик меня любит, а на любовь надо отвечать.
Разумеется, и Суворин не мог обойтись без Сергеенко: последовал рассказ земляка об авансе, взятом в «Новом времени», о том, как он его отрабатывал в Одессе в судебном деле Суворина с французско-еврейской фирмой...
– А это мой колодец, – перебил его хозяин. – Вода чистейшая и вкуснейшая.
– Моё хохлацкое сердце обливается кровью, – сказал Потапенко. Почему нет журавля, Антон?
– Я тебя понимаю. Хотели сделать, но место не позволило. Пришлось поставить это дурацкое колесо.
В листве старых яблонь сверкали шарики плодов, но некоторые деревья не только не плодоносили, но и в отчаянии тянули к небу голые подсохшие сучья.
– Молодые надо сажать. Хозяин всё пишет, про сад забыл.
– Не забыл, Игнатий. Осенью всю эту сторону засадил яблонями. Такие были хорошие саженцы, а зимой все их погрызли зайцы. Сугробы – выше забора, и они спокойно прыгали в сад. Видишь, там ещё палки торчат. А вот здесь поспели яблоки. Московская грушовка.
Он тряхнул ветку, несколько яблок упали в траву. Подобрали, сели на скамейку, захрустели жёлтыми с розовополосатыми бочками кисло-сладкими, с приятной горчинкой плодами; Умиротворяющее дыхание вечной жизни исходило от наливавшейся зелени, звучало шелестом, жужжанием, чьим-то дальним голосом, кого-то окликающим. Сад жил всегда, и люди живут и будут жить всегда, и их простые человеческие радости и горести казались здесь важнее литературы, политики и прочей суеты. Даже Сергеенко на время забыл о Толстом и расспрашивал о свадьбе Ивана, состоявшейся недавно в Мелихове, и о свадьбе Миши, не состоявшейся из-за измены Мамуны.
– Местный священник венчал?
– Местный и умный. Я попросил его, чтобы покороче всё сделал, думал, что он обидится, а он отнёсся понимающе. Сказал, что его часто просят служить подольше и он этого не любит.
Однако Потапенко терзала одна и та же мысль:
– Как бы мне у Суворина аванс вымаклачить? Чёрт его знает как к нему подъехать. Вукол понятен – либерал. А этот... Умный, а газету ведёт глупо. Ты, Антон, его понимаешь?
– На этом свете ничего понять невозможно. Знаю, что старик считает, во всяком случае, раньше считал, что газету ведёт очень умно. Был бы либералом, как все порядочные люди шестидесятых, но война за братьев славян ударила ему в голову. Все эти победы всегда испытание для мыслящего человека.
– Победы там были сомнительные, – заметил Потапенко.
– Конечно, сомнительные. Столько русских мужиков полегло, а Турция-то – развалившаяся страна. И ничего не получили – Бисмарк перехитрил и царя, и пушкинского друга Горчакова. Но Суворин хоть и умный, а слабохарактерный. Легко поддаётся влияниям. Вообще слабохарактерный человек опаснее волевого, потому что никогда не знаешь, куда он повернёт. Сомнительные победы на него повлияли. Ему показалось, что наша империя несокрушима и будущее её прекрасно. Настроил газету на этот лад, увидел, что её охотно читают – дураков ведь всегда больше, – подписка растёт, и решил, что угадал. Потом, конечно, понял, что всё не так, что российское неустройство увеличивается и империя только кажется могучей, что с этой властью ничего хорошего страна не дождётся. Вот и заволновался Алексей Сергеевич. То власть покритикует, то евреев во всём обвинит. Либеральная печать выступит против мерзостей его газеты – он нервничает, сомневается, боится революции, но изменить ничего не может. Ренегатом становятся только раз. Теперь ему до конца дней быть с Бурениным и прочими негодяями. Иногда мне его жалко.
А Потапенко всё о своём:
– Если я ему скажу, что его сын был прав, когда дал пощёчину Лаврову?
– Больше всего Суворин не любит неискренности. Меня несколько раз пытался поймать, когда я хвалил его статьи.
Со своим преклонением перед авансами Потапенко показался богом скуки, но вечером предстал перед Чеховым певцом и музыкантом. Маша села за рояль, он взял скрипку Павла Егоровича, и зазвучал вальс из «Евгения Онегина». Потом он пел хорошо и много – хохол есть хохол. Пели и все вместе. Игнатий же запевал раскатистым баритоном старую украинскую о забытых временах, о родной степи, исхоженной, истоптанной неведомыми героями прошлого:
Ой, на ropi та женцi жнуть,
А по-пiд горою
По-пiд високою
Козаки йдуть!
Попе, попереду Дорошенько
Вийде своё вийско,
Вийско Запорiжско
Хорошенько!







