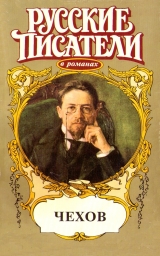
Текст книги "Ранние сумерки. Чехов"
Автор книги: Владимир Рынкевич
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 35 страниц)
XXV
В Москве на каждом углу продавали портреты президента Крюгера[72]72
...портреты президента Крюгера. – Паулус Крюгер (1825—1904) был президентом бурской республики Трансвааль в 1883– 1902 годах, участвовал в военных операциях буров против африканского населения. В период англо-бурской войны руководил сопротивлением буров английским войскам.
[Закрыть]. В сыром, заросшем тополями и крапивой дворе у Никитских ворот бродячие музыканты собрали толпу горничных и кухарок. Мужчина в тёмном пальто играл на скрипке, девушка в голубом платье перебирала струны арфы и пела:
Трансвааль, Трансвааль, страна моя,
Ты вся горишь в огне...
Слушали с русской бабьей жалостью и жалели, конечно, не каких-то неведомых буров, а самих музыкантов. Приговаривали: «Горький народ... От сытости не заиграешь...»
Эпизод для новой пьесы. В финале, когда у сестёр драма.
Слушали и из окон дома. Окно Ольги было закрыто, из-за чуть отдернутой занавески он увидел тёмное платье и белый офицерский мундир. Поднялся, позвонил, открыла сама артистка. Поцеловала, обдав парижскими ароматами, сказала озабоченно:
– Наташу отпустила на дворовый концерт. У меня дядя Саша. Он... Да, сам увидишь.
Брат её матери, капитан Зальца[73]73
...брат её матери капитан Зальца... — А. И. Зальца покончил с собой в 1905 году в Москве во время революционных событий.
[Закрыть] стоял у окна, осунувшийся, с воспалёнными глазами. Торопливо кивнул и сразу же заговорил неприятно монотонным, как из музыкальной машины, голосом:
– Простой русский народ чувствует, где добро и где зло, потому что живёт честным тяжким трудом, а я и подобные мне – паразиты, живущие за счёт народа. Я гублю свою душу праздностью и пороками. Müβiggang ist aller Laster Anfang[74]74
Праздность – начало всех пороков (нем.).
[Закрыть]. Вы читали «Воскресение»?
– Разумеется, Александр Иванович. Даже первый рукописный вариант. Он был хуже.
Чуть было не сказал: ещё хуже.
– Хуже? У Толстого? Может быть, если с точки зрения литературной критики, но как можно критиковать Библию? Священное Писание? Я напишу... Я соберу людей. Мы потребуем включить «Воскресение» в состав Библии.
– Дядя Саша, – остановила его Ольга, – не богохульствуй.
– Да, Оленька, я, наверное, сказал не то. Но это же великий роман! Обо всех нас, губящих себя в этом содоме. Обо мне!.. Это я погубил столько таких девушек, как Катюша Маслова! Оля, помнишь, была у меня Марта?..
– Дядя Саша, не надо об этом.
– Они поют о Трансваале. Я хотел ехать туда, англичане – извечные враги России. Посмотрите, как слушают их женщины. Русский народ всегда понимает, на чьей стороне правда. Потому что народ живёт трудом. А я не работал ни разу в жизни, жил в семье, которая никогда не знала ни труда, ни забот. Когда приезжал домой из корпуса, лакей стаскивал с меня сапоги.
– Однако в Китае Россия и Англия союзники, – напомнил Чехов газетные новости.
– Да! Китай! Подло и противно. Оля...
– Что, дядя Саша?
– Оля!
– Подожди. Сейчас придёт Наташа. Она там, во дворе.
– Куда ты спрятала мой револьвер?
– Никуда я его не прятала. Он так и лежит в столике.
– Вам сейчас не нужен револьвер, Александр Иванович.
– Да. Разумеется. Вы, Антон Павлович, небось думаете: расчувствовался немец. Но я, честное слово, русский. У меня и отец был православный.
– Александр Иванович, вы принадлежите к лучшей, передовой части русского офицерства. Помните, во время прошлогодних студенческих демонстраций в Петербурге офицеры защищали студентов от полиции? Я убеждён, что и вы поступили бы точно так же.
– Да. Разумеется. Но где они у нас, передовые офицеры? Пьянство, карты, непотребные женщины. Толстой в «Воскресении» написал о нас правду. Он ещё не всё знает. Наш знаменитый генерал-губернатор, великий князь Сергей Александрович, с женщинами дела не имеет – он удовлетворяется мужчинами.
– Дядя Саша!
– Ты актриса и должна знать всё. Почему она так долго не идёт? Музыкантов уже нет на дворе.
Он устало повалился на стул.
– С соседками судачит. А что там в газетах, Антон Павлович? Что-то о Китае вы говорили. Я почти не читаю газет – спектакли и репетиции.
– Восстание боксёров в Китае.
– Они неверно переводят, – вскинулся капитан. – Это не боксёры. И хэ цюань – это кулак, поднятый в защиту справедливости и согласия. Великие державы заключают союз, чтобы совместно подавить это народное восстание. Там и Россия, и Англия, и Германия... Русские офицеры, которые защищали шашками студентов от полиции, теперь этими же шашками будут рубить несчастных китайцев. Оля!
– Антон Павлович, а вам не очень нравится «Воскресение»? – спросила Ольга, словно не замечая беспокойства капитана.
– Роман прекрасно написан, однако всё, что касается Нехлюдова и Катюши, мне представляется неудачным, а в первом варианте было ещё неудачнее: Нехлюдов и Катюша сочетаются счастливым браком.
– У Антона Павловича резко отрицательное отношение к браку, – сказала Ольга с тем железным отзвуком в голосе, который уже начинал раздражать.
– У меня резко отрицательное отношение к ханжеству. Особенно к литературному ханжеству.
Хлопнула дверь, простучали каблучки в коридоре, и капитан встрепенулся:
– Пришла!
– Иди к ней и скажи, что я приказала.
Александр Иванович поспешно вышел. Ольга тяжело вздохнула.
– Давно? – спросил Чехов.
– Третий день меня мучает. Не знаю, что делать.
– Рефлексия заела. Водки надо меньше пить. Я зашёл сообщить вам, великая актриса земли русской, что в связи со скорым возвращением в Ялту приглашаю вас вечером к себе, поскольку Марья уходит чуть ли не на всю ночь.
XXVI
Суворин был в Москве, звал и ждал, и он поехал к нему в «Славянский базар». Пьеса на бумаге ещё не начата, но постепенно уже захватывала мысли. Эпизод с капитаном слишком сумбурен, чтобы ввести нечто подобное в пьесу, но в нём чувствовалось что-то значительное. Конечно, придумать можно всё, что угодно. Например, сюжет об офицере, защищавшем студенческую демонстрацию и погибшем от рук жандармов. Его будут хоронить, публика в театре изойдёт слезами и аплодисментами. Если, конечно, цензура пропустит. Или пьесу о русском офицере, сражающемся на стороне буров. Такое и цензура пропустит, и аплодисменты будут.
Но искусство не придумывается. Оно существует в хаосе жизни, и надо его найти и извлечь, пользуясь тем тончайшим инструментом, что дала тебе природа. Назовите его как угодно: интуиция, вкус, талант, подсознание. Он существует, этот инструмент, и его не подменишь хитрым придумыванием.
Надо обязательно понять, почувствовать, может быть, вспомнить нечто важное, прообразное, связанное с истерикой капитана Зальца, найти слова для выражения найденного.
Майский ветерок так обещающе ласкал и приглашал куда-то, что сразу решили ехать на прогулку. Сначала на Новодевичье, на могилу Павла Егоровича. Потом гуляли по берегу Москвы-реки. Нежаркое солнце клонило в дрёму, сонно журчала зелёная вода.
– Алексей Сергеевич, как вы думаете, есть черти или нет?
– А чёрт их знает, может, и есть.
– А Бог есть?
– А чёрт его знает, может, и есть. Лучше расскажите, голубчик, что у вас с Марксом?
– Третий том идёт.
– Он хорошо издаёт. Мои бы так не смогли. Сам работаю как вол, а других заставить не могу – нету характера, голубчик. А с деньгами как?
– Осталось двадцать пять тысяч. Марья хотела вложить в железные дороги, но мне отсоветовали: экономический спад.
– Правильно отсоветовали, голубчик. В Китае и тот...
К солнечно-зелёной сонной тишине прикоснулся сложный бравурный звук, за ним ухнул далёкий барабан. Оглянулись: на плацу сверкало, играло, ритмично покачивалось. Там уже толпились и зрители: мальчишки, нянечки с малыми детьми и любопытствующие бездельники. Подошли и они.
– Александровцы, – сказал Чехов.
Юнкера маршировали под оркестр и песню. Запевала был горласт и музыкален:
Там бел-город полотня-аный,
Морем улицы шумя-ат,
Позолотою румя-аной
В небе маковки горят.
Взвейтесь, со...
Строй подхватывал слаженно и грозно:
Взвейтесь, соколы, орла-ами,
Полно горе го-оревать.
То ли дело под шатра-ами
В поле лагерем стоять...
– Не мешает ли вам, голубчик, что вы продали свои сочинения?
Он, кажется, начинал понимать себя, свои чувства: сожаление о давнем прошлом, о жизни на Истре, когда он дружил с офицерами батареи Маевского. Не грусть об ушедшей молодости – эту банальную меланхолию он старался не пускать себе в душу, – а сожаление о том, что теперь нет рядом тех офицеров. Их вообще теперь нет, в чём-то убеждённых, во что-то верящих, стремящихся всегда и во всём поступать благородно. Маевский был влюблён в некую даму из Воскресенска и стеснялся изменить жене. В его батарее оказался солдат с тяжёлым желудочным заболеванием, не позволявшим есть солдатскую пищу, и командир батареи кормил его на свои деньги, а потом попросил Чехова устроить солдата в больницу.
– Не мешает, Антон Павлович?
– Что не мешает?
– То, что вы продали свои сочинения.
– Конечно, мешает. Писать не хочется.
Юнкера, сделав круг, уходили с песней:
Закипит тогда войно-ою
Богатырская игра-а,
Строй на строй пойдёт стено-ою,
И прокатится «ура!»...
Те офицеры, о которых он вспоминает, исчезли, ушли, как эти юнкера.
– Они уходят, Антон Павлович.
Офицеры, командовавшие строем александровцев, шли по обочине, рядом с пешеходной дорожкой. Один из них, похожий на Лермонтова, обгоняя Чехова, сказал другому: «Попался бы мне этот жид, или армянин, или кто он там, я бы его шашкой пополам разделил, а адвокатишку подстрелил бы, как вальдшнепа...»
– Да. Они уходят.
Песня прекратилась, юнкера удалялись под звуки печального марша. В его пьесе под музыку уйдут офицеры, те офицеры, из прошлого. Уйдут – и сёстры останутся в гибельной пустоте, как Александр Зальца, как он сам, как вся Россия, если из неё удалить мысль, совесть и честь.
XXVII
Вечером пили с Ольгой вино и ели шоколадные конфеты. Он рассказал ей о Суворине, как тот говорил о Боге: «Чёрт его знает, может, и есть». Ольга смеялась.
– Суворину чертей надо опасаться, – сказал он. – Они его в аду поджаривать будут за то, что всю жизнь лгал и писал плохие романы.
– А у меня для вас есть кое-что интересное, – сказала Ольга со сложной актёрской улыбкой – и насмешливой и смущённой. – Помните, дядя Саша утром говорил гадости о великом князе Сергее Александровиче? А мама на днях беседовала с его супругой – великой княгиней Елизаветой Фёдоровной, и та сказала, что Сергею Александровичу очень нравится «Чайка».
– Кстати, как он? Не Сергей Александрович, а Александр Иванович, конечно.
– Выпил водки, пообедал, объявил, что его долг – служить отечеству, и уехал в лагерь, в свой полк.
– В поле лагерем стоять.
В дверь позвонили, горничная, конечно, была отпущена, и он сам открыл. Ему растерянно улыбалась Лика в роскошной шляпе, в светлом платье с поясом, с букетом нарциссов. Наверное, он не сумел скрыть досаду, улыбка её исчезла, лицо сразу постарело и приобрело выражение, с каким обычно сообщают неприятные известия.
Он вежливо приветствовал гостью, пригласил войти, предупредил, что не один.
– А Маша?
– Если букет предназначен ей, вам придётся его унести – она будет поздно.
Вошли в комнату, и дамы приветствовали друг друга дипломатическими поклонами. Он пригласил гостью за стол, предложил вино, объяснил, что обсуждается роль в его новой пьесе.
– Простите, я не знала, что Маши нет, – сказала Лика. – Проводите меня, Антон Павлович.
У двери сказал ей:
– Я всегда рад видеть вас, Лика.
– Я тоже, но без ваших невест. А букетом подметите пол, когда уйдёт ваша немка...
Ольга одарила вопросительно-проницательным взглядом.
– Не предупредила Марью, что придёт, и получилось неловко, – объяснил он случившееся безразлично-спокойно.
– А мне показалось, что она пришла к вам.
– Разве? Кстати, я придумал реплику без слов для вашей роли в моей пьесе.
– Почему она так ужасно одевается? Зелёный пояс... Она, кажется, поёт? Выступает в концертах? И так одевается.
– Она не выступает. Голос у неё есть, но что-то с нервами. На сцене, перед залом, ею овладевает странная робость, она теряет голос и не может петь.
– И что же вы для меня придумали?
– Трам-там-там!
– Не понимаю.
– Вы – замужняя дама, влюбляетесь в женатого офицера и для того, чтобы договориться о свидании, придумали тайный пароль. Вы говорите ему: «Трам-там-там», и он всё понимает.
– Тогда трам-там-там...
XXVIII
Осенью он привёз в Москву готовую пьесу для театра и томительное беспокойство Маше. Летом в Ялте она видела, как изменились отношения его с Ольгой. То, что происходило тогда у них, принято называть медовым месяцем, и при чужих они уже были на «ты», он звал Ольгу «Милюсей», «моей актрисочкой»... Потом Ольга сама написала ей из Москвы: «Ехали мы отлично с Антоном, очень мягко и нежно простились. Он был сильно взволнован; я тоже. Когда поезд тронулся, я заревела, глядя в ночную тьму. Жутко было оставаться одной после всего пережитого за этот месяц. А дальше как всё страшно, неизвестно». Вот и самой Маше страшно, неизвестно.
Вечером он собирался в театр, а она спросила:
– Что ты собираешься делать?
– Я же тебе говорил: иду к Станиславскому договариваться о читке пьесы.
– Ах, пьеса... Я не об этом.
– О чём же ещё? Других дел у меня нет.
– Я думаю...
Он знал, о чём она думает, но говорить об этом не следовало.
– Не надо сейчас думать. Вот пройдёт читка, поговорю с режиссёрами, с актёрами...
– Я думаю, что сегодня очень плохая погода для твоих лёгких.
– Погода знакомая – ялтинская.
Шла «Чайка». В Каретном ряду у театра с обеих сторон вереницы пролёток. Яркая пыль мороси вокруг газовых фонарей. У входа и у касс, в голубой полосе света движущаяся, шумящая, суетящаяся толпа. Просят билеты, предлагают букеты, разыскивают знакомых, кричат: «Сегодня в театре будет Горький! Ура!.. И Чехов!..», «Господа, не верьте: Чехов в Ялте!..»
Сосредоточившись, не глядя по сторонам, пробирался он через толпу, но ему перегородило путь женское меховое манто. Он поднял взгляд и увидел счастливую улыбку Елены Михайловны Юст.
– О-о! Cher maitre! Какое счастье! Как вы? Надолго в Москву?
– Вы в театр? Пойдёмте со мной.
– Вы знаете, что с вами я готова на край света и даже в Австралию, а сейчас – увы. Приходила за билетами для знакомых. Они специально приехали из-за границы. А вы знаете, я недавно познакомилась с Лидией Стахиевной. Мы так много говорили о вас.
– Представляю, что вы говорили. То-то у меня был страшный приступ икоты, и пришлось приглашать врача.
– О вас только хорошее.
– Как о мёртвом? Покорно благодарю.
– Когда мы встретимся?
– Увы: уезжаю в Ялту.
Следовало её остановить, сказать что-то хорошее, важное, но он не знал, что они не встретятся больше никогда.
В театре в директорской ложе сидел Горький в тесном костюме, похожий на провинциального актёра. Конечно, последовали лобызания и восклицания:
– Этот замечательный театр – ваш театр, Антон Павлович! Который уже раз смотрю эту «Чайку» и каждый раз плачу, грешный человек. Не работать для такого театра – преступление. И я тоже осмелился: пишу пьесу.
– Напишете – покажите. Я – стреляный воробей: подскажу что-нибудь. О чём пишете?
– Как-то даже и не знаю, как объяснить. О людях. Но о разных. Хочу научиться обижать людей.
– Зачем же обижать?
– Чтобы не прятались от жизни, от борьбы. А то иные боятся, что в борьбе погибнет культура, исчезнет совершенный человек. Теперь и не нужен совершенный человек. Ныне нужен боец, рабочий, мститель... Вот в «Песне о Соколе» я...
– Извините, Алексей Максимович, я должен идти к начальству, к Станиславскому.
Он прошёл за кулисы во время первого действия, когда шёл эпизод после пьесы Треплева. Здесь в ожидании своего выхода стоял Мейерхольд – Треплев. Увидев Чехова, просиял, потянулся к нему, спросил о здоровье, о новой пьесе, о роли для себя.
– Для вас обязательно, Всеволод. Большая роль. Влюблённый офицер, немец, в очках, и любит философствовать. На днях буду читать.
– Вы знаете, что наша «Снегурочка» провалилась?
– Да. Я предупреждал Станиславского, что эта пьеса не для вашего театра. Да и время не то. Один писатель сказал мне, что сейчас надо обижать людей.
– Людей сейчас обижают достаточно, но если ещё и искусство будет обижать людей, то... то это не искусство. А в «Снегурочке» хорошо показался наш новый актёр Качалов[75]75
...новый актёр Качалов, – Качалов Василий Иванович (настоящая фамилия Шверубович) (1875—1948) выступал на сцене с 1896 года, во МХТе с 1900 года, был актёром высокой интеллектуальной культуры и большого личного обаяния, первый исполнитель ряда ролей в пьесах Чехова. В советское время был неоднократно отмечен правительством.
[Закрыть]. Прекрасно читал Берендея.
Под сценой уже изобразили вой собаки, сказал свою реплику учитель: «А сколько жалованья получает синодальный певчий?», и за кулисы вышли и Станиславский, и Ольга, и Лилина, и все остальные, кроме Вишневского – Дорна, который хорошо говорил свой текст: «Не знаю, быть может, я ничего не понимаю или сошёл с ума, но пьеса мне понравилась...»
Станиславский раскрыл объятия Чехову, сделал приглашающий жест. Мейерхольд собрался, печаль, боль уязвлённого самолюбия, досада на преследующую его Машу тенью легли на лицо. Быстро вышел на сцену, сказал: «Уже нет никого». Его выразительный голос хотелось слушать и слушать, но Станиславский ждал.
Договорились, что «Три сестры» читаются завтра днём. Шум аплодисментов возвестил антракт. Чехов собирался пройти в ложу, но остановился, едва открыв дверь служебного входа: в коридоре возле директорской ложи бушевала толпа зрителей. Кричали: «Горько-ва!.. Горько-ва!..» Прозвучало и «Чехова!», но едва слышно.
Дверь ложи отворилась, вышел Горький и заговорил резко и грубо:
– Что вам от меня нужно? Чего вы пришли смотреть на меня? Что я вам – Венера Медицейская? Или балерина? Или утопленник? Нехорошо, господа! Вы ставите меня в неловкое положение перед Антоном Павловичем: ведь идёт его пьеса, а не моя. И притом такая прекрасная пьеса. И сам Антон Павлович находится в театре. Стыдно. Очень стыдно, господа!
Чехов поспешил вернуться за кулисы. Там стоял возмущённый Немирович-Данченко.
– Лохматая молодёжь нашла нового кумира, – сказал он. – Не понимают, что лучшие этические и эстетические идеи жизни выше и более необходимы людям, чем торопливые отклики на происходящие события.
– М-да... Чехов и Короленко, Чехов и Потапенко, теперь – Чехов и Горький...
XXIX
Он знал, что лучше, чем «Чайка», пьесу написать невозможно. Знал также, что «Три сестры» – его шедевр и лучше он тоже ничего написать не сможет. Но главное, что он знал, – его пьесу на читке не поймут. Несценично, неинтересно, вяло, нет действия, нечего играть. Может быть, скажут другими словами, но именно это.
К счастью, кашель не донимал, и если он и не смог долго заснуть в эту ночь, то лишь потому, что обдумывал, как вести себя на читке. Никто не поймёт, что три сестры – это Надежда России, её Вера и Любовь.
«Допустим, что среди ста тысяч населения этого города, конечно, отсталого и грубого, таких, как вы, только три. Само собою разумеется, вам не победить окружающей вас тёмной массы; в течение вашей жизни мало-помалу вы должны будете уступить и затеряться в стотысячной толпе, вас заглушит жизнь, но всё же вы не исчезнете, не останетесь без влияния; таких, как вы, после вас явится уже, быть может, шесть, потом двенадцать и так далее, пока, наконец, такие, как вы, не станут большинством».
В пьесе это говорит мечтательный влюблённый болтун, однако в его словах, как в бормотании пушкинского юродивого, – истина. На читке это не поймут, тем более что он не умеет хорошо читать свои вещи. Что же предпринять, как поступить, чтобы непонятную пьесу с радостью приняли и талантливо поставили? И он придумал: надо сделать её ещё непонятнее. Чтобы даже Немирович и Мейерхольд не поняли. А затем легко убрать самое непонятное, и театр, облегчённо вздохнув, возьмётся за работу.
Пришёл в театр мрачный, готовый к неприятным отзывам на пьесу. Действие происходило в фойе за большим столом, покрытым сукном. Чем больше слушающих, тем труднее читать, а Станиславский собрал не только всех актёров, но и вообще всех работников, наверное, даже и сторожей. Короткий взгляд на них из-под стёкол пенсне – и начал:
– Пьеса скорее... М-да... Скорее даже комедия. Почти водевиль в четырёх действиях. Называется «Три сестры». Действующие лица...
Как он и предполагал, к концу чтения все были разочарованы: комедия, в которой ничего смешного, в финале героини плачут, прощаясь с друзьями и любимыми! Искоса взглянул на Ольгу: глаза полны слёз. Первым вскочил Дарский и заговорил возмущённо, громко, с сильным армянским акцентом:
– Я прынцыпыально не согласен с вами, Антон Павлович, что это водэвиль, но пьесу можно доработать и поставить... Поэтому надо убирать одну сестру...
Чехов поднялся и, слушая, вернее, не слушая, прохаживался по фойе, отходя как можно дальше от стола. Старик Артем сказал, что это не пьеса, а всего лишь схема. Молодой любимец всей труппы Москвин сказал, что любую пьесу можно сыграть как водевиль.
– И «Гамлета»? – спросил кто-то.
– А «Гамлет» и есть самый-то водевиль. Беру, например, монолог: «Пить или не пить...»
У него в руках появилась бутылка пива, и общий хохот несколько разрядил тягостные раздумья разочарованных актёров.
– Господа, – призвал к порядку Немирович, – мы занимаемся серьёзной работой.
– Голубчик, Антон Павлович, – запищала Роксанова, – мы не знаем, как играть эти роли, этих сестёр...
– Там же у меня всё написано.
Немирович во время чтения много писал и, выступая, смотрел в свои записи:
– У меня много предложений. Во-первых, в роли Маши надо убрать повторяющуюся суворовскую цитату: «Туртукай взят, и я там...» Пожалуйста, придумайте что-нибудь другое, Антон Павлович. Во-вторых, прощание Тузенбаха с Ириной надо передвинуть к началу акта. В-третьих...
«В-третьих» Чехов уже не слышал: сумел незаметно открыть дверь и выскользнуть. Дома встретила Маша с тем же непреходящим беспокойством в лице, в голосе, во взгляде.
– Ну как? Ну что?
– Кое-что придётся поправить, но главное...
– Что главное, Антон?
– Главное, Маша, ты должна улыбаться. Улыбка так тебя красит.
– Как-то не до улыбок. Всё новые заботы. – И в дверь позвонили, подтверждая наличие забот. – Вот видишь, кто-то пришёл.
Пришёл Станиславский успокаивать расстроенного автора. Чехов таким и казался: усталый, жёлтый.
– Антон Павлович, вы напрасно так поняли...
– Чего уж там понимать? Я прынцыпыально не согласен...
Станиславский театрально смеялся, но тоже был не согласен с автором:
– Не получится водевиль, Антон Павлович.
– Мне казалось, что я написал весёлую комедию, но я верю вашему вкусу и опыту... И Владимир Иванович подсказал много полезного. Кстати, я уже придумал, чем заменить суворовскую цитату. Маша будет говорить из Пушкина: «Златая цепь на дубе том...»
– Вот и чудесно. Вносите поправки, и начнём репетиции.
Ушёл Станиславский, и вновь над братом и сестрой сгустился невидимый чёрный туман беспокойства и недоверия. Нависали вопросы, которые лучше не задавать, чтобы не слышать опасных ответов, но неведение было ещё страшнее, и Маша спросила вновь:
– Антон, что ты думаешь делать?
– Разве я тебе не говорил? Сделаю поправки в пьесе и уеду в Ниццу.
– В Ниццу?! Один?
– Ты хочешь поехать? Нельзя же маму оставить в Ялте одну.
– Да, разумеется.
– А ты пригласи в Ялту Букишона. Пусть поживёт у нас. Ему сейчас тяжело. Кажется, развёлся с одесской женой и сидит без денег. А он на тебя так смотрел весной.
– Антон! О чём ты?
И Маша наконец улыбнулась.







