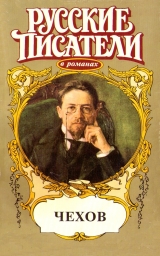
Текст книги "Ранние сумерки. Чехов"
Автор книги: Владимир Рынкевич
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 35 страниц)
VIII
Приступы кашля иногда были мучительными и железом скребли изнутри грудную клетку, но самую страшную боль он испытывал, когда жизнь, вдруг оскалившись палаческой ухмылкой, ставила ему клеймо ничтожества. Ещё в таганрогской гимназии он знал, что будет стоять высоко, во всяком случае, не ниже Островского – уже была создана пьеса, какую не написать ни Шпажинскому[11]11
...уже была создана пьеса, какой не написать... Шпажинскому... – Шпажинский Ипполит Васильевич (1848 – 1917), драматург, автор многочисленных комедий, психологических и исторических драм, в том числе и в стихах (его «Чародейка» легла в основу одноимённой оперы П. И. Чайковского), автор пьес из жизни городского «дна» («Тёмная сила» и др.).
[Закрыть], ни Гнедичу, ни Крылову, да и старик Островский не сумел бы вывести такие характеры. И жизнь в лице Ермоловой[12]12
...жизнь в лице Ермоловой... – Ермолова Мария Николаевна (1853 – 1928), знаменитая русская актриса, с 1871 года выступала на сцене Малого театра в героическом и романтическом репертуаре, прославилась в ролях Лауренсии («Овечий источник» Лопе де Вега), Жанны д’Арк («Орлеанская дева» Шиллера), в драмах А. Н. Островского. После Октябрьской революции получила звание народной артистки Республики (1929) и Героя Труда (1924).
[Закрыть] – в сущности, деревянной актрисы – тогда вдоволь поиздевалась над ним. Сама играла в совершенно ничтожных пьесах, зарабатывая аплодисменты то «революционными» выкриками в «Грозе», то убийством герцога в «Корсиканке», подгаданном к первому марта, а ему даже не ответила.
Пришлось превратиться в Чехонте, в «газетного клоуна», как выразился великий критик Скабичевский, предрёкший ему смерть под забором. Та боль была мучительнее кашля и усиливалась ещё и тем, что о ней никому нельзя было рассказать – никто бы не понял. Собственно, причина его разочарований и страданий заключается именно в том, что люди не понимают.
Люди театра ничего не понимают в драматургии и не в состоянии отличить настоящую пьесу от ремесленной поделки. Литературные критики и издатели ничего не понимают в литературе, восхваляют и издают ничтожное и отвергают талантливое, множат глупость и ложь. Женщины не понимают мужчин – отворачиваются от достойных и ложатся перед ничтожными.
Боль неразделённой любви не менее страшна, чем страдания от неприятия твоего творчества. Девушка, явившаяся в его дом из его мечтаний, с его страниц, не должна ничего почувствовать, не должна ни о чём догадаться – новая катастрофа ему не нужна. Пусть она пока видит в нём старшего брата, относящегося к её внешним достоинствам с добродушной насмешкой.
Лика, появлявшаяся у Чеховых почти каждый день, и вправду становилась чуть ли не ещё одной его сестрой. Её обаятельная простота позволяла сидеть с ней за столом в тесной близости, листая атлас Крузенштерна, рассматривая карты Сахалина, куда собирался Антон Павлович. Коснувшись невзначай тугого бедра девушки, сказал в той же избранной манере простецкой шутливости:
– Однако вы толстеете, милая канталупка. Надо приказать Ольге, чтобы давала вам поменьше картошки.
– Ваша жадность известна, – парировала Лика. – Горничную заморили голодом, теперь за меня берётесь.
Левитан пришёл в ранние зимние сумерки, когда свет ещё не зажгли, и в гостиной дымилась дремотная голубизна. Маша представила ему Лику:
– Подруга моя и моих братьев.
– О, божественная! – воскликнул художник. – Я преклоняю колени перед вашей красотой и проклинаю тот день и час, когда стал пейзажистом. Я написал бы такой ваш портрет!..
– Ради того, чтобы вы меня написали, я сама готова превратиться в лес или в речку.
– Лучше в русалку! – продолжал Левитан, прожигая девушку угольками глаз, искрящимися сумасшедшим блеском. – Мы купались бы с вами при свете луны...
– Холодные ванны тебе, Исаак, показаны, – сказал он, надев пенсне и тревожно вглядываясь художнику в глаза. – И вообще, милсдарь, ежели вы пришли на приём к доктору Чехову, пожалте в кабинет.
Войдя в кабинет, Левитан прямо от двери, согнувшись, кинулся к дивану и упал, закрыв лицо руками, застонал, забормотал:
– Завесь. – Он с ужасом отмахивался от сумеречных окон. – Я боюсь. Закрой меня от них. Спрячь от него. Он убьёт меня. Он всё знает.
Чехов опустил шторы, зажёг свечи и с грустью наблюдал живое воплощение величия и ничтожества человека: художник дрожал от страха, съёжившись в комочек, а над ним излучало мудрый покой вечности создание его рук и его мысли – бледно-голубое небо отражалось в речонке, вьющейся меж печальных серых полей. Этюд, написанный Левитаном на Истре.
– Кто посмеет убить лучшего художника России?
– Он всё знает. Она сама сказала мне, что он всё знает.
Для многих не было секретом, что ученица Левитана, жена полицейского врача Софья Петровна Кувшинникова, училась у художника не только живописи, а возможно, и сама его кое-чему учила – слава Богу, лет на десять старше его. Оказалось, что об этом узнал и её муж, спокойный, молчаливый человек.
– Он что-нибудь тебе говорил? Угрожал? Оскорблял?
– В этом-то и весь ужас! Я был у них на Мясницкой третьего дня, и ничего. Всё как всегда. Знаешь, как это он: «Пожалте покушать», и всё такое. А она мне потом говорит: «Он всё знает». О-о! Ведь мы с ней в Плёсе всё лето... Он молчит – значит, готовит что-то страшное. Надо бежать. Но куда? Я не сплю ночами – жду, что он вот-вот ворвётся с полицией... Я застрелюсь. Дай мне пистолет.
– Сначала я дам тебе лекарство. Выпей, это лёгкое успокоительное. В основном здесь валериана. А это выпьешь дома перед сном. И примешь два этих порошка. Больше не дам – со страху всё слопаешь. Рецептик безопаснее.
– Где наш Коля? – вновь застонал художник. – Как его нам всем не хватает. Всей России его не хватает. Это был гений. Добрый гений. Он любил всех. Зачем ты похоронил его там, на Украине? Я бы сейчас пошёл к нему на могилку, поговорил бы, поплакал...
– Кстати, никакого шнапстринкен. Даже кофе запрещаю. Только слабый чай.
– Антон, а эту девицу ты уже протараканил? – спросил вдруг Левитан, словно только что бредил, а теперь очнулся и вспомнил нечто важное.
– Успокоился, Тесак Ильич? Так тебя на Истре звали? Вспомнил тогдашнюю терминологию? Заинтересовался новым пейзажем?
– Жанром, Антон, жанром. Или, знаешь, в духе Поленова – смесь пейзажа с жанром. Она ведь Машина подруга, а ты всех её подруг тараканил. И Наташку, и Катьку Юношеву, и эту длинную, как её...
– Ты про Астрономку? Про Гундасиху? Я ей верен. Если я ей изменю, она зарежет меня раньше, чем тебя застрелит Димитрий. Ты же ей предлагал своё расположение.
– Она сказала, что любовь ей не нужна, а ей, оказывается, был нужен ты. И Катька выбрала не меня, а тебя. Помнишь, ты передал ей стихи: «Как дым мечтательной сигары, носилась ты в моих мечтах...»? И она сдалась, а стихи-то сочинил Коля. Эх, Коля, Коля, зачем ты ушёл от нас?..
– Нуте-с, больной... Лекарство подействовало, и если ты способен к чаепитию за семейным столом...
– А барышня останется?
– Исаак, если Сафо что-нибудь узнает о твоих увлечениях, то обязательно пристрелит. Бойся её, а не Димитрия.
– С Димитрием странно. Ведь он её любит. Ты замечал, как он смотрит на неё, когда она начинает свои комплименты: «Господа, смотрите, какое у Димитрия выразительное лицо...»?
– Наверное, любит.
– Но как же тогда?
– То, что происходит между супругами, известно только Господу Богу. Я не удивлюсь, если узнаю, что она сама рассказала мужу о ваших отношениях.
За чаем успокоившийся Левитан снова был в центре внимания – он рассказывал о жизни на Волге:
– Однажды в праздник я писал этюд, сидя возле дороги, в тени под зонтиком. Деревенские женщины шли из церкви, останавливались и смотрели на мою работу. Вдруг смотрю, еле плетётся какая-то дряхлая старушонка. Остановилась, долго глядела, потом почему-то перекрестилась несколько раз, вынула из кошелька копеечку и положила мне в ящик с красками. Я храню эту монетку дома вместе с самыми ценными вещами.
– Она молилась за тебя, за твоё искусство, – сказал Чехов. – Что ты написал для неё? Чем ответил на её молитву?
– Написал. Большое полотно. Почти закончил. Приглашаю всех посмотреть. Нестеров видел – в восторге. Он, конечно, увлекается, но... не знаю. Я назвал «Тихая обитель». Работал новым методом – компоновал. Воздвигнул на полотне другой монастырь, не тот, что в пейзаже.
– Вы бывали в монастыре? – спросила Лика. – Или в церкви?
Художник её заинтересовал.
– На Троицу мы пошли в церковь с... – Начав рассказывать, Левитан поперхнулся, взглянув на Чехова, и не назвал Софью Петровну, – С одной своей знакомой. Она объясняла мне, куда ставить свечу, как её зажигать и вообще порядок службы. Когда началось благословление цветов и зазвучали слова молитвы, я не мог сдержать слёз. Ведь это не православная и не другая какая молитва. Это всемирная молитва.
– Православная молитва есть молитва православная, – убеждённо высказался Павел Егорович, и все на некоторое время погрузились в раздумья, пытаясь проникнуть в глубину его мысли.
Антон Павлович пытался понять ещё и Левитана: просто ли он предаётся воспоминаниям или очаровывает Лику. Странно и смешно представить его в роли соперника. Странно и смешно.
– Ещё пирожка возьмите, Исаак Ильич, – угощала Евгения Яковлевна. – Вид у вас такой усталый. Видать, работаете много. И Антоша себя не жалеет – всё пишет и уезжать собирается. На Истре такие все были весёлые, здоровые.
Вспоминали случаи из тех времён: о том, как Левитана судили за тайное винокурение и Чехов был прокурором, о том, как художник наряжался бедуином, а бедуин вдруг закрыл глаза – и голова его упала на грудь. Он мгновенно очнулся, но доктор Чехов, внимательно наблюдавший за ним, заметил это и сказал, что художнику пора отдыхать.
Его проводили, Лика ещё оставалась. Сомнений не было – художник её заинтересовал.
– Однако вы хороший доктор, Антон Павлович, – сказала она. – Так быстро вылечили его от восхищения моей красотой.
– Симптом серьёзного заболевания.
– Вы этим заболеванием не страдаете.
– Спасаюсь касторкой. Исаака на Истре спасал тем же способом, когда он хотел жениться на Марье.
– Она мне рассказывала, что он просил её руки.
– Это был приступ болезни, называемой глупостью. Марья прибежала ко мне в слезах. Я растерялся, не знал, как поступить, сказал, что Исаак предпочитает женщин бальзаковского возраста, а она не знала, что такое бальзаковский возраст, и заревела пуще прежнего.
– А если серьёзно, Антон Павлович? Он действительно болен?
Опытный психиатр может вынести художнику тяжёлый приговор, увидев его голову, как бы вбитую в плечи, безнадёжно обвисшие щёки, потухшие в депрессии глаза и услышав лихорадочные, бредовые речи во время приступов. Если избежит самоубийства, то когда-нибудь в необоримом страхе бросится вон из города и будет бежать, пока его не поймают где-нибудь в поле. Но если ты порядочный человек, то о друге никогда никому ни одного плохого слова. Тем более женщине ничего, что могло бы унизить или опорочить друга. Наоборот, ищи оправдания его поступкам.
– Никакой болезни у него нет, кроме, конечно, обморочного восхищения вашей красотой, Ликуся. Исаак здоров, но у него так же, как и у всех, и у нас с вами, иногда возникает плохое настроение. Упадок духа. Это бывает у всех, но у каждого проявляется по-разному. У него немножко поострее, чем у других.
– Всё же поострее, – добивалась Лика. – Это же чем-то вызвано?
Разве возможно понять и объяснить, почему одни могут с помощью воли и разума преодолеть дурную наследственность и врождённые недуги, а другие страдают до конца. Но люди всегда ждут простых объяснений, и он объяснил Лике:
– Жизнь Левитана с детства была мучительной. Собственно, у него и не было детства. Спросите его – он вам такое расскажет, что вы подумаете, будто он рос под забором без отца и матери. Конечно, есть богатые евреи-кровопийцы, но он из семьи нищего ремесленника. И позже нищета и унижения. После первого марта[13]13
После первого марта... – 1 марта 1881 года был убит народовольцами император Александр II, пятеро «первомартовцев» были повешены после судебного процесса, другие осуждены на каторгу или ссылку; репрессивные меры коснулись и национальных меньшинств – в частности, евреям было запрещено жить в столице.
[Закрыть] всех евреев выгнали из Москвы, и он каждый день добирался до училища из Салтыковки. Да и теперь он для властей не лучший художник России, а подозрительный еврей.
Лика вздохнула.
Она заинтересовалась художником. Она его пожалела.
IX
Но полюбила она писателя Чехова, тридцати лет, собиравшегося на Сахалин в путешествие неизвестно зачем. Он окончательно поверил в это, вернувшись из Петербурга, где пришлось целый месяц улаживать предотъездные дела, – таким полным счастьем засияли её глаза, таким смущённо-радостным румянцем запылали щёки и расслабленно раскрылись губы в улыбке, когда она вошла в дом и увидела его. Ранняя Масленица, как догадливая подруга, постаралась с освещением, разбросав по комнатам лоскуты солнца, и если бы вместо рояля в гостиной стояло механическое пианино, то оно обязательно заиграло бы полонез из «Онегина».
За столом с блинами, наливками, икрой и прочими радостями жизни Лика не столько ела, сколько смотрела на него, и глаза её становились совершенно круглыми и большими – наверное, для того, чтобы полностью вобрать в себя писателя Чехова. Разумеется, он произнёс небольшую праздничную речь об огромном значении блинов, появившихся на свет раньше русской истории и выдуманных, как и самовар, конечно, русскими мозгами. Объяснил: если до сих пор нет научных работ относительно блинов, то это объясняется тем, что есть блины гораздо легче, чем ломать мозги над ними. Высказал предположение, что кроме тяжёлого, трудно перевариваемого теста в них скрыто ещё что-то более высокое, символическое, быть может, даже пророческое...
Павел Егорович подтвердил теоретические выкладки сына примерами из жизни:
– Вот от этого купец Оганчиков на тридцать втором блине Богу душу отдал, не сходя с места. А которое тесто хорошее, то Иван Феофилактыч с Балчуга свободно по пятидесяти блинов съедал в присест, но запивал только лимонной, вот этой вот.
По этому поводу выпили лимонной, Антон Павлович перешёл к петербургским впечатлениям, рассказал о постановках Островского в Александринке, о хорошем любительском исполнении «Власти тьмы».
– А как тебе сама пьеса?
– О Толстом я могу говорить только как коллежский асессор о тайном советнике.
– Вся Москва читает «Крейцерову сонату», – сказал Миша. – Очень сильно, но есть о чём поспорить.
Михаилу очень хотелось быть литератором, и он старался всё читать и обо всём судить.
– Запрещённые книги читаете, молодой человек-с? А ежели в участок?
– Запрещённые книги запрещены, – строго сказал Павел Егорович.
– Миша, неужели такие книжки в дом носишь? – всполошилась Евгения Яковлевна.
– Вся Москва читает, – оправдывался Миша. – И Марья читала, и Лика...
Антон Павлович успокоил мать, объяснив, что книга напечатана небольшим тиражом – триста экземпляров, и читать её не возбраняется. Рассказал и новый петербургский анекдот:
– Государю понравилась «Крейцерова соната», он намеревался разрешить её без ограничений, но Победоносцев и иже с ним[14]14
...Победоносцев и иже с ним... – Константин Петрович Победоносцев (1827—1907), государственный деятель и юрист, обер– прокурор Синода, выразитель крайне правых взглядов. Имел исключительное влияние на императора Александра III.
[Закрыть] подсунули ему «Николая Палкина». Александр, конечно, рассердился и приказал принять меры. Долгоруков принимает меры – посылает к Толстому адъютанта с приказом немедленно явиться. Лев Николаевич выслушал адъютанта и ответил: «Передайте князю, что я езжу только в знакомые дома».
Разговор о новой повести Толстого открыл новые достоинства Лики. Они гуляли с ней перед вечером, когда весёлое масленичное небо постепенно блекло, приобретая цвет топлёного молока, и над Кудринской, над ветвяной полоской зоопарка поднималось лимонное зарево. Чехов узнавал героев своих ранних рассказов, бредущих заплетающимся шагом по тротуарам, развалившихся в извозчичьих санях, мчащихся, наверное, в «Эрмитаж» или «Салон варьете» – на извозчичьем языке «Солёный вертеп». Осторожно дали пройти паре, занявшей чуть ли не весь тротуар зигзагообразными движениями. Дама в салопе строго отчитывала спутника: «Натрескался, идол! Постыдился бы, люди пальцами показывают». За ними – двое крепких мужчин с красными сосредоточенными лицами. «Царапнем, Коля», – уговаривает один. «Не могу – у меня порок сердца», – отвечает приятель. «Плюнь, царапнем по рюмке», – продолжает настойчивый. «Я и так уже семь выпил...»
Свернули на Большую Никитскую. Здесь почти все двигались в одном направлении – к центру, к играющим впереди радужным гроздьям воздушных шаров, ещё успевающих захватить последний солнечный луч. Вспомнили о Толстом, и Чехов сказал, что ему, как человеку старшего поколения, кажется, что «Крейцерова соната» – чтение не для девиц.
– А я человек нового поколения, – ответила Лика. – Я взрослая женщина... – Здесь она несколько сбилась, но продолжила решительно и даже с вызовом: – Пусть я девушка, но я взрослый человек, преподаю в гимназии и всё понимаю: и любовь, и брак, и вообще...
– А я вот ничего не понимаю. Рассказали бы мне о любви и вообще...
– Я не коллежский асессор, и я с ним не согласна. Он выступает против естественных отношений между мужчиной и женщиной, установленных Богом и природой. Чему вы так глупо улыбаетесь? Разве я не права?
– Правы, правы, умнейшая Лика. Конечно, тайный советник поразительно талантлив по сравнению с мелким чиновником Чеховым. Читая повесть, во многих местах я хотел кричать: «Это правда!» Однако напрасно он трактует о том, чего не знает.
– Это о... о разных болезнях? Вы – врач и об этом знаете больше.
– И о болезнях, и об особенностях женской природы. Понимаете, о чём я говорю?
– Да. – Она смутилась, понимая, что речь идёт о якобы испытываемом женщинами отвращении к совокуплению, упомянутом Толстым, но овладела собой и продолжала, намеренно замедлив шаг и глядя прямо в глаза: – Я – девушка и ещё не всё понимаю, но кроме «Крейцеровой сонаты» есть другие книги.
Её здоровая милая невинность вызвала острое сложное чувство, которое он ещё никогда не испытывал ни к одной девушке: неясную щемящую жалость к её чудесному неопытному телу, жёсткое сознание своего мужского долга, требующего совершить над ней известное насилие, которого она и боится и жаждет, и возникшее вдруг могучее желание.
Он желал сейчас же увести её в номера на Малую Дмитровку и сделать это.
Наверное, и следовало так поступить, но Чехов слишком хорошо знал, как должен вести себя порядочный человек, и слишком твёрдо выполнял известные правила.
Его чувства припорошил снег, возникший над Никитской и поторопивший приход ранних зимних сумерек.
Мимо по тротуару спешили двое юношей в шинелях и барашковых шапках с медными орлами. На их поясных бляхах сверкали перекрещивающиеся гранаты, на белых погонах – красные вензеля: «А. II.» Один, похожий на татарчонка, сказал другому: «Пойдём по бульварам». Его приятель возразил: «Нет, Куприн, лучше через Красную площадь, на Ильинку и через Маросейку к Чистым прудам на каток...»
– Александровцы, – заметил Чехов, —Что-то есть привлекательное в военной молодёжи и вообще в русских офицерах. Я когда-нибудь обязательно напишу пьесу, где будет много офицеров. Один – похожий на Лермонтова, другой – говорун-либерал...
– Пушкинский снег, – сказала Лика.
– И вы, Ликуся, кажется, незаконная дочь Пушкина?
– Неужели я так стара?
– Но вы же мне что-то рассказывали о вашем родстве с поэтом.
– Не с ним, а с его приятелем. Когда Пушкин ездил петербургским трактом, то часто сворачивал в сторону – к городку Старице и дальше в Берново, в имение Осиповой-Вульф. Там для него всегда была приготовлена комната. В Бернове он встречался с местными помещиками, ухаживал за женщинами, сочинял стихи. Вы, наверное, знаете: «Без вас мне скучно – я зеваю; при вас мне грустно – я терплю; и мочи нет, сказать желаю, мой ангел, как я вас люблю!» Это он посвятил падчерице хозяйки Алине. А в одном письме у него есть: «Алина заняла своё воображение бакенбардами и картавым выговором Юргенева». Этот Юргенев – мой дедушка. Только он женился не на Алине. Там, в Тверской губернии, у меня даже есть маленькое имение. Подсосонье. А в Москве со мной и мамой живёт бабушка. Она не совсем бабушка. Кузина Юргенева. Софья Михайловна Иогансон. Очень хорошая, но странная. Ведёт дневник.
X
ИЗ ДНЕВНИКА С. М. ИОГАНСОН
«1886. 24 июня. Вторник. Сердцем Лидюша добрая, но не знаю, откуда набралась такой напущенности. Всё гадко, старо, ничем не дорожит и не бережёт, к тому же и с ленцой, всё бы читать романы, а не работать.
1890
5марта. Понедельник. Лидюша пришла в 5 часу и обедала одна, а вечером в 8 часу ушла к Чеховым, вернулась в 3 часа утра, очень довольная, что туда попала, общество было там разнообразное, приятное, умное: сам, сын хозяина, поэт, много пишет, и так радушно её приняли, у них и ужинала, меньшой сын её до дома провожал.
9марта. Пятница. Лидюша пошла к Чеховым. Вернулась в 3 часа утра, на репетиции не была, а провела вечер у Чеховых.
10 марта. Суббота. Лидия вчера весь вечер была дома, занята была до возвращения Лидюши домой писаньем; ей же готовит свою исповедь и совет образумиться, отвлечь её от праздной бесшабашной жизни, дома не бывает и каждый вечер является поздно домой; дом и домашнюю жизнь не любит. Ужасно это нас огорчает, особенно мать, а говорить с нею невозможно, тотчас раскричится, и кончится тем, что уйдёт, недовольная жизнью семейной, говоря, что это не жизнь, а ад.
11 марта. Воскресенье. Лидия была в концерте консерватории на музыкальном вечере. Лидюша вернулась в 2 часа. Заходила к Чеховым, там пила чай.
13 марта. Вторник. Лидюша проваландалась до 2 часов, отправилась в Румянцевский музей списки делать об острове Сахалине, помогает Марье Павловне Чеховой, а она для брата списывает. Он как писатель отправляется, на свои расходы, в те места в апреле месяце; так теперь спешат всё, что надо знать, списать. В 7 часов вернулась, покушала и пошла одеваться, едет в концерт.
14 марта. Середа. Лидюша опять пропала, пошла урок брать французского языка, а уже полночь, её всё нет, не берёт же она и ночью урок. Горе, да и только, с нею. Мать плачет горючими слезами, что из неё будет. Страшно и подумать, ни одного вечера не бывать дома, а является за полночь домой. Каких она друзей нашла, что не может дня прожить, чтоб с ними не повидаться? Вернулась в 2 часа; с урока пошла к Чеховым, за нею девушку присылали.
16 марта. Пятница. Лидюша после обеда пошла на урок французский и зайдёт к Чеховым передать тетрадь.
17 марта. Суббота. Лидюша отправилась к товарке, там брат именинник – празднуют, и её очень просили прийти.
18 марта. Воскресенье. Лидюши не было дома, опять к товарке пошла.
21 марта. Середа. Лидюша вечером едет в театр с Чеховыми слушать концерт пения Фигнеровых, мужа и жены, будут давать Джиоконду. От Чеховых вернулась в 2 часа ночи, там ужинала, не пустили.
23 марта. Пятница. В день своих именин Лидия и Лидюша получили телеграммы от Головина и Чеховых. Чехова Мария Павловна приехала прямо с концерта.
24 марта. Суббота. Лидюша весь день была вне дома, ходила на репетицию к Кожевниковой, а потом до 3 часов ночи пробыла у Чеховых, нет дня, чтобы она там не была, дружба новая завелась, надолго ли?
25 марта. Воскресенье. Лидюша получила в подарок от Антона Чехова, он много интересного, умного пишет, две книги, одну я прочитала – Скучная история. Подписался на книге – Лидии Стахиевне Тер-Мизиновой от ошеломлённого автора. Дразнит её, что она происходит от армянской породы; другую книгу, его же Рассказы: Счастье, Тиф, Ванятка, Свирель, Перекати-поле, Задача, Степь, Тина, Тайный советник, Письмо и Поцелуй. Подписал: Лидии Стахиевне Тер-Мизиновой, живущей в доме Джанумова – от автора Тер-Чехианца на память об именинном пироге, которого он не ел».
Неужели это он, писатель Чехов, проникающий в суть вещей, в том числе и в женские души, мог серьёзно волноваться, что его не позвали на пирог в день именин Лики 23 марта? Неужели это он с таким прямолинейным юмором подписывал подаренные ей книги, чтобы не очень кичилась связями с пушкинским окружением? Неужели это он вариант за вариантом переписывал «Лешего», превращая его в оперетку со счастливым исходом для всех любовных пар?
Откладывал ручку, откидывался в кресле и с идиотской улыбкой смотрел в пространство, где возникала она в серебристом сиянии. Он сумел удержаться от объяснения в любви, но не удержался от объяснения, более опасного своей откровенностью, – открыл смятенную писательскую душу.
Пришла из Румянцевки усталая, внесла беспокойство сырого предвесеннего ветра, выложила записи, сказала, глядя не на него, а на бумаги:
– Вот нашла «Московские ведомости» за семьдесят пятый год. «Вольная колонизация острова Сахалина».
Он записывал, тоже сосредоточенно рассматривая выписки.
– Подождите, – остановил девушку. – Тысяча восемьсот семьдесят пятый год... Месяц, число?
Она коротко вздохнула с жалобным детским всхлипом, он поднял глаза и увидел на её лице утомление, обиду и даже вскипающий гнев женщины, которой пренебрегают.
– Зачем это всё, Антон Павлович?
– Что зачем? Число и месяц? В научном труде...
– Зачем этот Сахалин? Зачем вы едете туда?
Он ласково (разумеется, в пределах ласки старшего брата) полуобнял девушку, усадил на диван, сел рядом и рассказал о том, как нелепо быть писателем в России. Говорил, что человек всегда стремится выполнить свою работу лучше – так он создан природой, – и к тому же знает, что чем лучше сделает своё дело, тем выше будет награда. Плотник строит хороший дом, сапожник шьёт хорошие сапоги, а писатель, наверное, должен писать хорошие книги. Но хорошую избу и хорошие сапоги отличит каждый, а как быть с книгой? Кто её оценивает? Читатели? Нет. Русский читатель – человек послушный. В детстве его в гимназии научили и объяснили, какие книги хорошие, а во взрослом состоянии он слушается критиков. А кто такие критики? Можно ли представить, например, сапожного критика, который бегал бы по улицам и кричал, что Иван шьёт хорошие сапоги, а Пётр, наоборот, плохие? А в литературе так и происходит. Критики – это люди, которые судят о том, чего сами делать не умеют.
Резче было бы сказать, что критики – это импотенты, рассуждающие о любви, но это пока не для Лики.
– Я начал с того, что написал пьесу, – продолжал Чехов. – Человек, на которого я рассчитывал как на понимающего, не смог оценить мой труд и в то же время принимал к постановке произведения, гораздо слабее и даже вообще бездарные. Уже тогда я понял, что сколько бы ни писал пьес, как бы ни старался сделать их интереснее – никто не оценит мой труд. И я превратился в Чехонте, писал лёгкие рассказики, прилично зарабатывал и веселился по трактирам в компании таких же литераторов. И вдруг нашлись люди, высоко оценившие мои рассказы. Они испортили всю мою механику – прежде, когда я не знал, что меня читают и судят достойные литераторы, я писал безмятежно, словно блины ел; после этого стал писать и бояться: вдруг плохо? Взялся за серьёзную работу. Написал «Степь». Есть в ней слабости, но в целом повесть получилась. Кстати, критики и её не поняли – царапали и либералы и консерваторы. Лишь те поняли; кто сами умели писать. Салтыков-Щедрин, Гаршин... Салтыков назвал меня «действительным талантом». Но что такое «Степь»? Воспоминания о детских впечатлениях. Одну такую книгу может написать каждый грамотный человек с мало-мальски чувствительным сердцем. У всех было детство, и всё о нём вспоминают. Вот и я вспоминал и писал. А что дальше? Решил, что писать серьёзно – это поднимать проблемы. Поднял проблему пессимизма. Вздумал пофилософствовать – написал «Огни», и вышел канифоль с уксусом. Решил, что надо поменьше философии, побольше жизни. Написал «Скучную историю». Там что-то получилось. Говорят: мило, талантливо, но... далеко от Толстого, а «Отцы и дети» Тургенева гораздо лучше. И как бы хорошо я ни писал, всегда будет так. До гробовой доски всё будет только мило и талантливо. А когда умру, знакомые, проходя мимо могилы, будут говорить: «Здесь лежит Чехов. Хороший был писатель, но он писал хуже Тургенева».
В России нельзя быть просто писателем. Вот Короленко[15]15
Вот Короленко. – Короленко Владимир Галактионович (1853—1921), русский писатель и публицист, автор нескольких сборников повестей и рассказов, а также редактор народнического журнала «Русское богатство». В 1879 году был арестован по подозрению в связях с революционерами и сослан в Якутию в 1881—1884 годах.
[Закрыть]. Его знают и читают, потому что он герой. Конечно, он хороший писатель, но его рассказы известны меньше, чем его отказ от присяги Александру Третьему. Впрочем, писатель он никакой, и никто его и не читает. Его занудные очерки нужны только Михайловскому для иллюстрирования идеалов добра, справедливости и любви к народу-страдальцу. Ко мне Короленко относится как генерал, покровительствующий поручику: похлопывает по плечу, ведёт к Михайловскому и Глебу Успенскому[16]16
...ведёт к Михайловскому и Глебу Успенскому... – Успенский Глеб Иванович (1843 – 1902), писатель народнического направления, бытописал крестьянскую нужду.
[Закрыть], рекомендует как подающего надежды, а те вместе с ним учат несмышлёного Чехова, как надо писать во имя идеалов. Учили, говорили о необходимости общей идеи, вспоминали Чернышевского. Мне надоело их слушать, и я сказал, что очень рад встрече с ними, так как пишу большой роман и хочу в нём вывести две-три светлые личности, подобные вам... Короленко рассмеялся – умный человек, а Успенский аж затрясся от возмущения. Он больной человек.
В России литератором быть трудно, но есть другие люди, которые честно служат народу.
Он говорил о Пржевальском, о людях, подобных ему, чья идейность и благородное честолюбие имеют в основе честь родины и науки; об их непобедимом стремлении к намеченной цели, богатстве их знаний, трудолюбии, фанатической вере в христианскую цивилизацию и науку, делающих их в глазах народа подвижниками, олицетворяющими высшую нравственную силу.
Женщина, даже совсем юная, не всегда умея проследить логику мужских рассуждений, не понимая, может быть, сложных мыслей, высказываемых мужчиной, понимает главное, понимает больше, чем сказано. Её высшее понимание застаёт мужчину врасплох. И Чехов был изумлён, когда Лика перебила его, и в её голосе прозвучало насмешливое превосходство старшей:
– Итак, вы едете на Сахалин за биографией? Чтобы не хуже, чем у Короленко? Или, как Пржевальский, хотите найти ещё одну новую лошадь? Напрасно, Антон Павлович: всех лошадей уже нашли.







