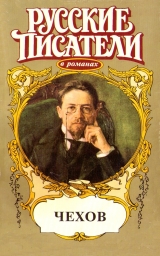
Текст книги "Ранние сумерки. Чехов"
Автор книги: Владимир Рынкевич
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 35 страниц)
III
– Французы не знают, почему над Ниццей вдруг сегодня солнце, – сказала художница Хотяинцева, глядя в окно на узкую невзрачную улицу, вдруг расширившуюся чуть ли не вдвое и засверкавшую лужами.
– Туземцы из-за дождей не видели вашего приезда, Сашенька, и, разумеется, теперь удивлены такому сиянию, не зная его причины.
– Туземцы не знают, что сегодня по-русски первый день нового года и Антон Павлович сменяет гнев на милость.
– Если вы вчера обиделись, Саша, то виноват не я, моя болезнь. Было так сыро целый день, я чувствовал себя скверно, потому и прервал так рано наш новогодний праздник. Почти всю ночь прокашлял.
– А я всю ночь проплакала. Ведь вы меня просто выгнали.
– Простите великодушно. Чтобы загладить свою вину, я встречаю вас цветами. А посмотрите, какое вино.
Розы и фиалки прислали ему неизвестные почитатели, бутылку вина урожая 1811 года – русский консул в Монако, поздравительное письмо – Маша. Хотяинцева предложила начать праздник с прогулки по средиземноморскому солнцу.
– Русский пансион уже весь на улице, – сказала она, глядя в окно. – Все ваши знакомые дамы: и Трущоба, и Рыба Хвостом Кверху, и Дорогая Кукла... А эту как вы назвали? В шляпе с чёрными перьями?
– Эту я назвал так: Дама, Которая Думает, Что Ещё Может Нравиться. Мы с ней похожи: я тоже думаю, что ещё могу нравиться. Не женщинам, конечно, а читателям. О том, чтобы нравиться женщинам, я уже и не мечтаю.
– Антон Павлович, если вы будете таким пессимистом, я пожалуюсь Маше. Она поручила мне смотреть за вами, чтобы вы были в хорошем настроении.
– Тогда вперёд, на солнце, за хорошим настроением. На Английский бульвар.
Толпа здесь не сливалась в единое живое существо, как в Генуе, не дышала и не волновалась одним чувством, а распадалась, рассеивалась, растекалась по аллеям. На набережной возникли две нестройные толпы, идущие навстречу друг другу, сталкивающиеся, но не смешивающиеся, разделённые, как и вся Франция в эти дни. Газетчики кричали: «I’Aurore!» Dreyfus! Z’ola! I’accuse!»[66]66
«Аврора!» Дрейфус!.. Золя!.. Я обвиняю! (фр.)
[Закрыть]
– Я, наверное, шокирую вас, Антон Павлович, – беспокоилась художница. – У меня никаких туалетов. Как в Мелихово ходила, так и в Ницце. А вчера, когда вы меня прогнали...
– Саша!
– Когда я от вас выходила, одна дама так на меня посмотрела, что я чуть не упала. Я вас шокирую?
– Меня шокирует дело Дрейфуса. Франция сошла с ума. Давайте сядем и прочитаем «Аврору». Золя пишет президенту: «Я обвиняю![67]67
Золя пишет президенту: «Я обвиняю!..» – речь идёт о деле Дрейфуса – сфабрикованное в 1894 году дело по ложному обвинению в шпионаже в пользу Германии офицера французского генерального штаба А. Дрейфуса, еврея по национальности. Несмотря на отсутствие доказательств, суд приговорил Дрейфуса к пожизненной каторге. Борьба вокруг дела Дрейфуса привела к общественному кризису, под давлением общественного мнения Дрейфус был помилован в 1899 году, а в 1906 году вообще реабилитирован. Эмиль Золя выступал с активными протестами против дела Дрейфуса – в 1898 году он написал свой знаменитый памфлет «Я обвиняю!».
[Закрыть]»
– Я ещё не видела вас таким взволнованным.
– Вы, кажется, читали «Мою жизнь»? Помните, я пишу там о русском мужике? О том, что мужик верит: главное на земле – правда и спасение всего народа в одной лишь правде. А я из мужиков, и если осуждён невинный, я на его стороне. И Золя понимает, что главное в жизни – правда и справедливость. Дело ведь не в личности Дрейфуса, хотя и в нём тоже. Он – еврей, и в этом его вина. И это в конце девятнадцатого века, во Франции, которую мир чтит как родину свободы! Когда у нас в России плохо, мы ищем причин вне нас и скоро находим: «Это француз гадит, это жиды, это Вильгельм...» Капитал, жупел, масоны, синдикат, иезуиты – многое можно придумать для самоуспокоения. А если французы заговорили о жидах, о синдикате, то это значит, что они чувствуют себя неладно, что в них завёлся червь, что они нуждаются в этих призраках, чтобы успокоить свою взбаламученную совесть. Золя правильно пишет – газетный текст я хорошо понимаю: «...Одурманивают сознание простых бедных людей, поощряют мракобесие и нетерпимость, пользуясь разгулом отвратительного антисемитизма...» Да и мы с вами тоже...
– А мы-то что, Антон Павлович?
– Вчера встречали Новый год с доктором Вальтером, а утром вы сказали: «Какой приятный жид». Это же оскорбительно.
– Но и вы сами.
– Да, и я такой. Хамская привычка. Внутренне, кажется, уже чувствую себя свободным человеком, а привычки раба остались. Хочется идти в одной толпе со всеми и быть похожим на них. Попал в стаю – лай не лай, а хвостиком виляй. Надеюсь, вы не слышали пьяных мужицких разговоров? Там каждое второе слово нецензурное. Сквернословят без нужды, по привычке. Вот и я по привычке человека толпы сквернословлю: жиды, шмули... А человек даже в толпе должен оставаться самим собой. Оставаться одиноким в толпе.
– И ваш Суворин.
– Я много раз говорил с ним и теперь писал и ещё напишу по пунктам о деле Дрейфуса и о гнусных выпадах его газеты. Это, конечно, бесполезно. Он во всём согласится со мной, а через пять минут Буренин убедит его, что дело Дрейфуса – происки всемирного еврейского синдиката, Чехов тоже подкуплен синдикатом, и Алексей Сергеевич сядет сочинять «маленькое письмо» о великой борьбе между христианством и иудейством. Эти события – испытания для него и его газеты. Ренегаты любят прикрывать своё трусливое предательство стремлением к объективности, но приходит момент, когда требуется сказать: да или нет, и им приходится сбрасывать маски.
После обеда, состоявшего из щей, пирогов, мяса, рыбы, соуса, зелени и фруктов, следовало бы отдохнуть и посидеть над рассказом, который ждут в Петербурге, но художница обдала женским взглядом, и пришлось пригласить её к себе – всё-таки она приехала только к нему.
В соседней комнате, доселе пустовавшей, через стену слышались голоса: мужской и женский.
– Я так радовался, что моя комната угловая, а соседняя пуста – и вдруг.
– Я их видела – молодая пара. По-моему, из Москвы.
Мужской голос звучал странно монотонно и долго не прерывался. Приникнув к стене, он разобрал фразу: «Они взглянули на реку и обомлели: в воде по пояс стоял голый мальчик». Женщина засмеялась.
– Послушайте, они читают мой рассказ «Злой мальчик»!
– Поздравляю автора. Однако молодожёны, наверное, будут не только читать Чехова.
– М-да... Не только Чехова. Но мы не будем прислушиваться, а выпьем вина, которое пил сам Бонапарт.
Письмо на столе мешало, и он убрал его в выдвижной ящик. С печальным вздохом посмотрел на рукопись, готовящуюся к отправке, и на ворох неразобранных писем. Больше всего писем от сестры. Издалека он видел её такой же хитрой и целеустремлённой, но думал о ней теперь, помня известное: «Comprendre – pardonner!»[68]68
Понять – простить (фр.)
[Закрыть] Этот девиз украшал почтовую бумагу Анны Ивановны Сувориной.
– Если бы не был указан год, мы бы не знали, что вино такое вкусное, – сказала Саша. – Садитесь удобнее, Антон Павлович, отдыхайте, а я набросаю ваш портрет.
В столе много писем и от Лики: вновь, как после провала «Чайки», почувствовала слабость мужчины и немедленно кинулась за ним, чтобы помочь, вылечить, взбодрить, то есть затянуть наконец аркан. Взялась собирать для него деньги и привлекла к этой затее неуправляемую Кундасову и верного друга Левитана, который сам уже одной ногой в могиле. Следовало сразу же пресечь, но он тогда действительно был слаб и без денег. Но в Ниццу уехал, получив свои тысячу семьсот рублей, никем не подаренные, а заработанные выпуском книг. Левитан и женщины неожиданно оказались шустрыми и прислали ему ещё две тысячи рублей, выбитые у миллионера Сергея Морозова. Теперь Лика разочаровалась в этой своей деятельности:
«...Вы не даёте мне покоя во сне. Сегодня всю ночь я не могла отделаться от Вас. Но успокойтесь, Вы были холодны и приличны, как всегда...»
«...Как Вы там живете? Тепло ли у Вас и есть ли дамы в Вашем вкусе (следует понимать «кривобокие»)? Я недавно размышляла о Вашем романе с писательницей и додумалась вот до чего: ел, ел человек вкусные и тонкие блюда и надоело ему всё, захотелось редьки!.. Танька приехала в Москву, похорошела, и в лице у неё стало больше той Reinheit, которую Вы так цените в женщинах и которой так много в лице m-me Юст... Я всегда рада, когда моим друзьям хорошо. Вот и за Вас я порадовалась, что наконец-то Вы взялись за ум и завели себе для практики француженку. Надеюсь, что моя приятельница Кувшинникова оказалась неправой относительно Вас и Вы не осрамились! Надеюсь! Пусть она Вас расшевелит хорошенько и разбудит в Вас те качества, которые находились в долгой спячке. Вдруг Вы вернётесь в Россию не кислятиной, а живым человеком-мужчиной!.. В сыре Вы ничего не понимаете и, даже когда голодны, любите на него смотреть только издали, а не кушать – помните эту Вашу теорию! Если и относительно своей Марго Вы держитесь того же, то мне её очень жаль, тогда скажите, что ей кланяется её собрат по несчастью! Я когда-то глупо сыграла роль сыра, который Вы не захотели скушать...»
«...я уже почувствовала себя хорошо, похудела, похорошела (извините!) и сделалась, говорят, похожей на прежнюю Лику, ту, которая столько лет безнадёжно любила Вас...»
Всё это читалось с интересом и вызывало здоровую улыбку, однако в пьесу, которую он должен написать, не ложилось. Россия не олицетворяется убитой чайкой или неудавшейся актрисой.
– Портретисты любят разговаривать с позирующим, – сказала художница.
– Сказать вам что-нибудь умное?
– Неужели от вас можно услышать что-нибудь глупое?
– Говорить глупости – привилегия умных людей. Когда я лежал в клинике, ко мне приходил Лев Толстой и доказывал, что все мы будем жить после смерти в некоем начале.
Что за начало, как его понять – это тайна. Какой вам представляется мысль великого человека?
– Не знаю, что и сказать. Смотрите не на меня, а на ту стену. Они, кажется, там ещё читают Чехова.
– Да. Я прислушался – «Свадьбу». А мне это начало, в которое я должен погрузиться после смерти, представляется в виде бесформенной студенистой массы; моё «я» – моя индивидуальность, моё сознание – сольётся с этой массой. Такое бессмертие мне не нужно, я не понимаю его. Если после смерти уничтожается индивидуальность, то жизни нет. Я не могу утешиться тем, что сольюсь с червяками и мухами в мировой жизни, которая имеет цель. Я даже цели этой не знаю.
– Смотрите мой шедевр. Третьяков, наверное, не купит, но Чехов угостит меня наполеоновским вином.
– Лучше, чем у Браза. Кстати, он приедет сюда делать новый портрет. А вам особенно удались усы. Точно как у таракана. В молодости такие усы у нас были в моде. Вино вы заслужили.
Соседи закончили чтение, и возникли звуки, вызывающие у Саши смущённо-игривую улыбку.
– Это лучше, чем говорить о смерти, – сказала она.
– Тем более что у нас кровать стоит у другой стены, – согласился он...
Потом она рассказывала о своей недавней поездке в Богимово:
– В зале с колоннами стоит ваш диван, и на нём Мишины стихи: «На этом просторном диване...» Я ездила после того, как прочитала «Дом с мезонином», и всё узнавала. Только вы написали, что в зале десять окон, а их всего пять.
– А хозяин? Читал?
– Обиделся. Он там у вас и скучный, и ни в ком не встречает сочувствия. Всё у него в имении плохо – собирается продавать. Наверное, уже продал.
– Чтобы сделать в литературе что-нибудь стоящее, приходится не жалеть ни себя, ни родных, ни друзей. А куда исчезла рыжая Анимаиса?
– Поссорилась с хозяином и куда-то уехала. Наверное, все у вас спрашивают, и я хочу спросить...
– Мисюсь, где ты?
– Да. Где она?
– Я её придумал.
– Не стану вас допрашивать, но Евгений Дмитриевич рассказывал мне о вас.
– Были там, конечно, девушки, но таких отношений, как у художника и Мисюсь, не возникало. Может быть, какая-то девушка оказалась похожей на Мисюсь. Нельзя придумать человека, который ни на кого не похож. Вы – художница и знаете это лучше меня. Это естественно. Тяжело писать горькую правду, обижающую людей. Для русского писателя самое трудное – это писать правду о России. Моя повесть «Мужики» – это та самая правда, которая всем не нравится. Мне передавали, что Лев Николаевич выразился о моей повести с присущими ему гениальностью и категоричностью: «Это грех перед народом». И теперь я заканчиваю рассказ, в котором пришлось говорить горькую правду о своих истринских знакомых. Я его так и назвал: «У знакомых». Вы, наверное, ещё не видели декабрьской книжки «Русской мысли». Маша написала мне, что там есть рассказ моей знакомой писательницы «Жена цезаря». Очень хороший, правдивый и очень женский рассказ. Об узах светского петербургского брака. Она знает, о чём пишет, – сама жена высокопоставленного чиновника. Я знаю эту писательницу с тех времён, когда она была ещё гимназисткой, и убеждён, что в своём рассказе она написала о себе.
– А почему... Почему она так вышла замуж?
– Вы хотели спросить, почему я на ней не женился? Для её матери я – парвеню: она аристократка, вдова тайного советника. А её дочь не вызывала у меня чувств, необходимых для женитьбы.
«Потому что Чехов не хочет жениться, тем более на некрасивой», – продолжил он мысленно. Старая сказка, ей тысячу лет: она его любит – он её нет. Когда-нибудь поймут, что его «Чайка» – продолжение этой сказки, и будут её смотреть и читать ещё много лет, когда пройдут и забудутся все процессы, революции и войны.
Русский пансион в Ницце далеко от моря, и вместо поэтического шума прибоя по ночам всегда в одно и то же время раздавался крик осла, и они с Александрой просыпались. Когда она уехала, осёл, наверное, не зная об этом, продолжал кричать.
IV
В Париже Хотяинцева устроилась с подругам и художницами на какой-то дальней окраине – он назвал место парижским Ваганьковом, и ездить туда не хотелось. Появилась и мужская компания старых приятелей.
В парижском уличном кафе под весенним солнцем понимаешь, откуда появились импрессионисты, Мопассан, Бизе и много другой человеческой красоты, созданной не для спасения мира, а для радости, и кажется, проживи здесь год – и сам сочинишь какого-нибудь «Милого друга». Однако ещё непонятнее становится, почему эти быстрые, разговорчивые, хорошо одетые люди взбудоражили не только свою страну, но и чуть ли не весь мир простым вопросом: можно ли посылать на каторгу невинного? Или так: можно ли человека за то, что он еврей, объявить виновным в преступлении, которое он не совершал? Об этом говорили с Потапенко и Иваном Павловским, земляком-таганрожцем, но принадлежащим к предыдущему поколению: бывший народоволец, «красный», ныне – парижский корреспондент «Нового времени», но «розовый» – не соглашающийся с хозяином.
– Долго нет, Иван, твоего генерала, – сказал Потапенко. – Пишет «Маленькое письмо» в защиту Дрейфуса.
– Если бы... – Павловский был расстроен и возбуждён. – Обещал, что в этом номере пойдёт моя статья с доказательством, что Эстергази – шпион. Открываю газету и... «победа христианства над иудейским синдикатом».
– Заметьте, друзья, – сказал Чехов. – Он никогда не высказывается по существу, например, справедлив приговор или нет, достаточно ли доказательств предъявили суду – об этом он не пишет, но прекрасно знает, как старый журналист, что без этого о суде нельзя писать.
– Он не знает таких слов, Антон, – сказал Потапенко убеждённо.
– Я вам расскажу занятную историю, – оживился Павловский, вспомнив что-то интересное. – При Александре Третьем одно время начались еврейские погромы где-то в Одессе или в Кишинёве, не помню точно, и император пригласил Витте поговорить об этих делах – вы же знаете: он его очень любил. Спросил его мнение, а тот сам задал вопрос, с разрешения, конечно, Александра. «Ваше императорское величество, – спрашивает Витте, – вы можете утопить всех евреев в Черном море?» Тот, разумеется, отвечает, что не может. «Тогда, ваше императорское величество, вам надо смириться с их существованием и постепенно уравнять в правах со всеми остальными вашими подданными. Лишение прав такой активной части населения, – говорит Витте, – может привести к большим потрясениям». Александр заинтересовался сказанным и обещал подумать. Но самое интересное – это откуда я узнал о такой беседе императора. Вы будете страшно удивлены. Мне рассказал Суворин! Он же дружит с Витте. Генерал выложил мне всё это в тот день, когда я показал ему статью с разоблачением Эстергази. Он сказал мне: «Ты победил; будем освещать по-другому».
– Он столько раз обманывал меня подобными обещаниями, – вспомнил Чехов, – что когда теперь начинает обещать, я просто прекращаю разговор.
– Русскому человеку не понять азиата, – вздохнул Потапенко. – Мы все трое южане, почти хохлы, мы и есть настоящие русские, потомки киевских славян, а все эти псковские, воронежские и прочие – все татарва. У них нет понятий «правда» или «ложь», виновен или невиновен. У них всё построено на полном повиновении какому-нибудь Тамерлану. И гонения на евреев они устраивают, чтобы самим в стране править.
– Вы, милсдарь, заразились от французов. Писание забываете: «несть ни эллина, ни иудея». Дай вам волю – вы всех черноглазых объявите шпионами и загоните на Чёртов остров. Алексей Сергеевич – добрый русский человек. Особенно добрый к негодяям, но иногда и порядочным людям делает добро. Сколько, Игнатий, ты у него вымаклачил?
– Чего считать? Всё в Монте-Карло оставил. Эх, рулеточка, рулетка! Ты ж мене, молодого, с ума-разума свела!
– Сколько ж ты спустил? Когда мы вместе играли, по моим подсчётам, ты оставил там семь тысяч франков.
– Больше, Антон. Больше. Лучше б жене послал.
– Какой? Которая в Керчи?
– Которая в Москве. Но ты меня поразил, Антон. Веришь, Иван, мы играли по системе, выиграли, и он перестал ставить. Это ж какую волю надо иметь. Правда, выиграл он много. Не говорит сколько.
– Боюсь умереть под забором, как предрекал один выдающийся критик. Коплю на всякий случай. Вдруг доживу до старости.
Игнатия удивила его воля на рулетке. Не знает, что вся его жизнь состоит из таких поступков. Заставить себя ехать на Сахалин. Заставить себя писать настоящую прозу вместо того, чтобы строчить лёгкие рассказы для лёгкого смеха. Заставить себя отказаться от весёлых возлияний с друзьями, а желание не слабее, чем у Сашечки. Заставить себя бросить курить. Заставить себя писать сомнительную повесть о революционере вместо того, чтобы ехать с Ликой на юг... Вся жизнь состоит из усилий, и каждое такое преодоление оседает в груди, в лёгких, давит, разрывает, и ты кашляешь кровью.
– Идёт генерал, – сказал Павловский.
В тёмном длинном плаще, чужой и ненужный среди яркого разноцветного потока парижан, с тростью, похожей на дубину, согнувшись вопросительным знаком, Суворин щурился на солнце, прикрывал глаза ладонью, разыскивая их.
– Пойду приведу старика, – сказал Потапенко.
– Старайтесь, молодой человек, аванс получите.
– С вами получишь. Заведёте свою дрейфуссиаду – старик и копейки не выложит.
Один из способов избежать неприятных нападок – это вызвать к себе жалость, и Суворин сел к ним за столик измученный, со слезящимися глазами и начал с жалоб на бессонницу, ломоту в ногах, на слабость.
– Всю ночь глаз не сомкнул, – жаловался он. – Посоветуйте, голубчик Антон Павлович.
– Пользуйтесь моим старым рецептом. Бром и валерьянка. А в дополнение читайте на ночь что-нибудь длинное и скучное. Например, романы Боборыкина или газету «Новое время».
– Последний номер, – уточнил Павловский.
– Почему последний? – Суворин спросил с убедительной искренностью, но, заметив возмущение Павловского и иронию Чехова, как бы вспомнил. – Ах, то... Но, голубчик, я же в газете не один. Это мой новый сотрудник Амфитеатров. Очень способный.
– Способный на всё, – заметил Чехов.
– Но ведь вы согласились, что вина Эстергази полностью доказана, – продолжал возмущаться Павловский, – и, значит, Дрейфус невиновен.
– Ну что доказательства? И тот... Завтра будут другие доказательства. Всё это ничто перед нашей Россией.
– А помните, Алексей Сергеевич, свой роман «Всякие»? – спросил Чехов. – Революционные сходки, молодёжь, стремящаяся облегчить жизнь народа, гражданская казнь Чернышевского. Вы же пострадали за этот роман.
– Посидел немного на гауптвахте. Но теперь же всё иначе, голубчик. Другая теперь Россия.
– Россия та же – изменились вы.
– Я издаю газету. Это такое большое дело. Нельзя, чтобы все были согласны. И читателя надо чувствовать. Читатель – это и есть Россия. Да и вы, Антон Павлович, сняли своё интервью. И правильно сделали. Всё сомнительно с этим Дрейфусом.
– К сожалению, журналист всё переврал и написал от себя такое, с чем я не могу связать своё имя.
– Я видел этот текст и согласен с Антоном Павловичем, – подтвердил Павловский. – Лазар больше половины написал от себя. Но почему вы, Алексей Сергеевич, не напечатали мою статью?
– Голубчик, это же можно поправить. Напишите ещё. И вы бы, Антон Павлович, дали что-нибудь. Читатель давно ждёт Чехова...
– Давайте прекратим этот разговор. – Иногда и у Чехова не хватает выдержки.
– А я пройдусь по лавкам, – сказал Суворин, поднимаясь. – Здесь попадается старинный фарфор.
И пошёл, согнувшись, опираясь на трость, похожую на дубину.
– Злякался, – сказал Потапенко.
– Посмотрите, какая у него виноватая спина, – заметил Чехов.
– Но ты, Антон, со своим интервью тоже что-то смухлевал, – вспомнил Потапенко. – И ты злякался?
– Этот Лазар сделал интервью не со мной, писателем Чеховым, а с членом какой-то партии. Я ни в каких партиях не состою. Высказываюсь за оправдание невинного, а не во имя победы какой-то партии.
Потапенко не поверил:
– Хитришь, Антон, хитришь. С нами говоришь прямо и открыто, а всему свету сказать не хочешь. У старика научился. С кем поведёшься – от того и наберёшься.







