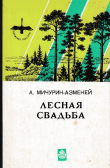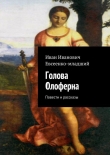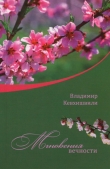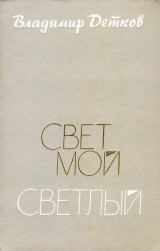
Текст книги "Свет мой светлый"
Автор книги: Владимир Детков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
Но вот солнце скатилось до горизонта, и они, притихшие, стоя провожали его. Здесь-то и назвала Оля его богом своим. А он вдруг впервые за этот огромный-огромный день почувствовал, как уходит его всемогущество, и, словно пытаясь удержать его, так крепко обнял Олю, прижимаясь грудью к ее спине, что она неожиданно воскликнула: «Ой, Сережа, я сердцем слышу твое…» И тогда он и сам ощутил кожей груди тихое биение… То ли свое, то ли ее…
Потом они долго сидели у костра, незаметно утопая в сумерках, И чем круче замешивались сумерки, тем теснее прижимались они друг к другу и ярче разводили огонь. Но костер был бессилен вернуть день. И все же они не стали его гасить. И, отплывая, все оглядывались. И когда свет костра, приглушенный темнотой и расстоянием до огонька свечи, вдруг совсем пропал, они знали, что он еще горит. Но этого сознания для Сереги оказалось мало, и он, ни слова не говоря, развернул лодку в крутом вираже и вновь повел ее к острову. И лишь услышав Олино «горит», и увидев зыбкое свечение островной тьмы, Серега так же молча, но уже по размашистой дуге, вернулся на прежний курс и больше не оглядывался и не сбавлял скорости, с холодком в душе отмечая, как приближается, разгораясь, огромное кострище полуночной станицы.
Вначале холодок этот осознавался как следствие предстоящей разлуки. Утром Оля уезжала домой в Ростов, да и его солдатские каникулы упирались в дорогу. В общем, это было так, хотя и не совсем. Ведь впереди у них еще целый день. Да какой день – сутки, а то и больше. Само собой разумеется, что он проводит Олю до Ростова, до порога дома ее… «Как можно не радоваться этому, не жить ожиданием нового дня?» – сам себя спрашивал Серега, но ощущение душевной смуты не проходило и влекло за собой странные неотвязчивые мысли, которые и потом будут являться ему не раз.
Серега смотрел на Олю, вернее, на ее силуэт, темневший все в тех же полутора метрах, что и утром – и ощущение неминуемой потери не покидало его. С каждой минутой это расстояние меж ними как бы увеличивалось, как утрачивались черты ее с заходом солнца… И теперь, сколько ни добавляй оборотов своему «Вихрю», не приблизиться к ней ни на сантиметр… как мог это делать он в любое мгновение там, на острове, в дне ушедшем…
Конечно, и сейчас он может дотянуться до нее рукой, обнять и посадить рядом с собой. Но не делает этого. И не потому, что не хочет. Элементарные правила безопасности при вождении лодки с мотором запрещают это… Условность? Да. И теперь подобных условностей будет все больше и больше. Условность, что она уйдет сейчас на целую ночь к Люське и до утра он не увидит ее, будто и не было ее никогда…
Он смотрел теперь на все с высоты своего прозрения – Оля самый близкий, самый дорогой, самый желанный человек для него… И там, на острове, все его чувства и ощущения были в ладу и согласии с действительностью. Что будет завтра? Послезавтра? Через месяц? Через год?
На рассвете он вновь метнется во вчерашний день. Каждая деталь острова вызовет в душе радостное восклицание – «было». И душа выплеснет признание – небу, солнцу и миру всему… И вместе с тем он поймет, что одному-то как раз и не следовало туда возвращаться…
На следующий день «Ракета» понесла их стремительно вниз по течению, и Серега невольно посетовал на бездумную торопливость подводных крыльев. В считанные минуты они достигли острова. С ветровой палубы хорошо был виден песчаный мыс. Оля узнала его и обернулась к Сереге с радостно-вопросительным взглядом. Он подтверждающее кивнул ей и обнял за плечи. «Смотри, костер наш! – Оля указала рукой на темное пятно кострища. – Ой, а это что?! – тут же воскликнула она, различив на песке шагающие метровые буквы, выложенные крупной речной галькой: «Я люблю тебя!!!» Серега ничего не ответил, лишь сильнее стиснул Олины плечи. А она неотрывно смотрела на песчаную страницу, пока ту не сменила зеленая, на которой уже без букв и восклицательных знаков их души читали и перечитывали такую простую и такую необыкновенную историю одного дня, кажущуюся невероятной, и только руки его и ее плечи удерживали, подтверждали реальность острова, его рассвета и заката, ливня, града и полного крутого солнца в прокаленном синевой небе. И сказанных слов. И прозвучавшего смеха. И молчания, молчания, молчания. И тишины. И глубины взглядов. И смешанных дыханий. И ласковых рук. И восторга тел.
Оля резко повернулась и, не обращая внимания настоящих рядом людей, уткнулась лицом в Серегину шею.
Пожалуй, это было одно из последних мгновении, когда он чувствовал себя всемогущим.
X
Удар был несильным, упругим. Нос лодки стал забирать куда-то вверх, и Сереге показалось, что сейчас его запрокинет назад, и он инстинктивно сжался и заглушил мотор. Подавшись еще вперед и вверх, как на горку, лодка замерла, слегка покачиваясь. Серега осторожно извлек из кармана куртки круглый фонарь и, осветив нос лодки, привстал. Но не успел он распрямить ног и как следует оглядеться: лодка, кренясь, стала сползать набок по упружистым осклизлым веткам павшего в воду дерева, в крону которого и угодил он впотьмах. Как завороженный следил он за сползающим носом лодки и едва не свалился за борт, когда лодка, освободившись, хлюпнула носом о воду и сильно закачалась на плаву. Серега, потеряв равновесие, упал на сиденье и вцепился обеими руками в борта. В воду же плюхнулся фонарь. Несколько мгновений перед глазами был только угасающий желтый кругляшок тонущего фонаря, а потом тьма сомкнулась и стала вовсе непроглядной. Лодку разворачивало. Затихал плеск потревоженных ветвей. Смыкалась тишина в жутковатое безмолвие…
Серега не шевелился, ощущая, как постепенно им овладевает оцепеняющее чувство одиночества, затерянности, подобное тому, которое пришлось испытать еще в школьном турпоходе, когда он среди ночи отправился купаться в море. Не то чтоб на спор, а просто себя проверить хотелось…
Отплыл чуть от берега и лег на спину. Справа – в полсотне метров берег, хоть и невидимый почти, но ощущение опоры, уверенности, жизни. Слева – подумать страшно: вода, вода… На сотни верст, аж до самой Турции, то есть практически до бесконечности – бездна и тьма… Любая неведомая тварь может тебя схватить – и поминай как звали. Да что там схватить – достаточно прикоснуться. Левый бок онемел, будто растворился: ли кожи, ни мышц, ни ребер не ощущаешь… Одно только обнаженное, беззащитное сердце испуганно гухает в бездну и, как во сне, опоры не находит и все больше проваливается куда-то. Руки и ноги стали невольно подгребать к берегу, который обозначился из темноты шорохом пляжной гальки, а затем и Борькиным хриплым кричащим шепотом: «Сере-ога!» Сердце радостно скакнуло на зов, однако Серега не откликнулся, выдерживая марку бесстрашного испытателя. Но Борька, видно, натолкнулся на его одежду и не думал уходить. Шепот повторился. Зная, что друг теперь не отстанет, и радуясь этому, Серега как можно недовольнее подал голос: «Чего тебе?» – «Ты что там делаешь?» – «Раков ловлю, не видишь?» – «Не вижу». – «Так они ж черные-е…» – «А-а», – протянул Борька, как всегда с запозданием поняв, что его разыгрывают…
Воспоминания о друге детства вывели из минутного оцепенения, и Сереге даже почудилось, что он слышит шорох его шагов на берегу и что вот-вот, в самую неожиданную минуту, Борька окликнет его и спросит как ни в чем не бывало: «Ты что тут делаешь?» А он, Серега, непременно съязвит ему в ответ что-нибудь навроде тех же раков, И он стал придумывать, что бы такое заковыристое сморозить Борьке на этот раз… Но вместо Борькиного: «Сере-о-га-а» – тьма выдавала натужное, приглушенное: «Ы-ы-ы-у-о-о-о!» – словно кто-то звал на помощь ила хотел испугать.
Ознобью хлестануло по спине, и Серега невольно схватился за рукоятку ножа, напряженно прислушиваясь. Он даже не успел понять, откуда исходило это утробное мычание. Не из воды ли? А может, зверь какой зевнул спросонья и завалился себе на другой бок? Но звук больше не повторился, и Серега, стараясь не шуметь, перевел дыхание и смахнул со лба холодную росу пота…
От испуга он как бы наново прозрел. Пояснее проступили берега, все так же вздыбленные темью леса на разную высоту, а меж ними едва различимым прогалом угадывалась река. Только теперь почему-то холмистый берег оказался по правую руку. И тут Серега наконец сообразил, что его лодка дрейфует углом кормы вперед, и вспомнил о моторе.
Мотор откликнулся сразу. Сначала сердитым, завывающим рычанием, а затем спокойным, неторопливым стрекотом отогнал он все подступившие было ночные страхи и подтолкнул, повлек лодку дальше по бегучей дороге реки. И Серега добром помянул Митю, его любовь к технике. Но вместо улыбчивого Мити память почему-то воскресила хитроватое, с левоглазьим прищуром лицо Харитона Семеновича, и оно не показалось ему неприятным. Напротив, он резонно подумал, что должен быть благодарен Харитону Семеновичу уже за то, что тот на Митю указал. Вот Борька, пожалуй, тут же навязался бы ремонтировать «захлебывающийся мотор», приняв все за чистую монету. И с Митей он бы нашел общий язык именно в сфере техники. Здесь его интересы и увлечения не знали границ. Он бы забросал Митю рацпредложениями по техническому перевооружению моторки. Какую-нибудь штативную мачту с парусом предложил, целлофановый купол от непогоды, звуковую и цветовую сигнализацию непременно. А о прожекторе завел бы разговор в первую очередь. Борька не то что безалабер Серега, не позволил бы пускаться в ночное плаванье по незнакомой реке без освещения. Что стоило одолжить у «стрижа» фару с аккумулятором, приспособить ее на носу лодки – и рассекай себе тьму и воды на самом полном…
Серега представил себе эту картину и с улыбкой подумал, что у него тоже нередко «умная мысля приходит опосля». Фразу эту долдонил сегодня Иван Баракин, проигрывая ему в шахматы партию за партией. Теперь вот Серега словно сам себе проиграл. И ему стыдно стало перед Борькой, на техническом иждивении которого частенько приходилось бывать. Ведь даже с «Вихрем» больше возился друг, нежели он сам, хоть и купил мотор на свои трудовые. Борька себе такой роскоши позволить не мог – обувку-одежку покупал. Но зато все техуходы и ремонты, которые нередко следовали один за другим, проводил собственноручно. Серега не ревновал, ему больше нравилось владеть мотором в движении, к чему, кстати, технарь Борька относился довольно равнодушно, а вернее сказать – побаивался, потому что терялся, когда любимая техника вдруг сдвигала его с места. Он был врожденным бортмехаником (Серега его так и звал – «Борькмеханик»).
Все это как раз и прояснилось летом после девятого класса, когда они работали в станичном совхозе помощниками комбайнеров. Борька буквально не отходил от комбайна: все подмазывал, подкручивал, разбирал-собирал. Умаял своего комбайнера, добродушного дядьку, вопросами и предложениями. Тот терпеливо разъяснял ему, полностью доверяя уход за машиной, но воздерживался доверять управление ею.
Позже, когда Борька поступит в машиностроительный институт, Серега ему напишет из армии: «Ты нашел себя под комбайном». Самому же Сереге еще предстояло «искать себя». До сих пор вот ищет. К технике он, в общем, тоже относился уважительно, с интересом, но не вожделел, как Борька, над всяким болтом. Ухватив общий принцип действия узлов и механизмов того же комбайна, Серега не копался в нем без надобности, теряя интерес к деталям, но жаждал «порулить». И к концу страды убрал-таки свой первый гектар хлеба.
Зато к деталям человеческих отношений и характеров в нем таился неиссякаемый интерес. Он мог часами просиживать в компании взрослых и слушать, о чем они говорят. И поражаться: как люди похожи друг на друга и насколько они разные!
О каждом однокласснике, учителе, товарище по службе он мог бы многое оказать, в то же время дивясь, как порой емко и точно выражает суть человека и отношение к нему одно-единственное слово, пожалованное ему в кличку или прозвище. Об учителях что и говорить – их «звания» передаются из поколения в поколение. Сереге больше памятны армейские, рожденные у него на глазах.
Своего командира роты, например, капитана Сомова, они звали коротко и ясно: «Мужчина»! Произносилось это с неизменным оттенком восхищения и почитания. Рослый, стройный, мужественный… Все превосходные эпитеты безошибочно ладились к нему. И не только к внешности. В роте он был прежде всего лучшим солдатом-десантником. Все, чему учили их, он знал и умел лучше других и выполнял не просто отлично, а с естественной легкостью человека, влюбленного в свое дело. Спокойный и уравновешенный, размышляющий как обыкновенный учитель в часы занятий и отдыха, он строжал до суровости перед строем, был взрывной и стремительный в бою, в учебном конечно… Однако, когда на тебя мчатся «живые» танки и земля, как испуганная лошадь, вздрагивает под тобой от щедрой пиротехники, это уже далеко не кино. С непривычки чумеешь будто. Сжимаешься весь в недвижимость, и, кажется, ничто не способно тебя разжать в человека, пока стоит вокруг этот гул, лязг и грохот. Но отрывистый, пронзительный голос капитала игловым импульсом отыскивает в твоем сознании именно ту точку, от которой все в тебе приходит в движение, – и ты почти автоматически, с какой-то неведомой ранее неистовостью следуешь точно его приказу. И казалось в ту минуту, прикажи он обломать черту рога, ты исполнишь это не задумываясь, появись только бесенок на горизонте…
Ну как с таким командиром не станешь «достойным представителем»?
Лейтенант – комвзвода – был тоже, по оценке ребят, «мужик ничего, свойский». Но уже не то… Он явно и не всегда умело подражал капитану, а это хоть и понималось и прощалось ребятами, но не поощрялось. В общем, «художественная самодеятельность», как снисходительно выразился однажды Яшка по этому поводу, и «звание» приклеилось в сокращенном виде «худсам».
Неуязвимее других оказался старшина. Хоть с ним-то как раз у каждого было связано больше всего неудобств и конфликтных ситуаций армейской службы. Каких только кличек-ярлыков не лепили ему гораздые на выдумки ротные Теркины, все они держались не больше дня. Но каждый, пожалуй, увез домой последнее слово, сказанное о нем при расставании. Капитан и комвзвода простились перед строем, а старшина вышел проводить до автобуса, навсегда увозящего их из части. И когда они расселись по местам и водитель запустил мотор, старшина совсем не по-уставному, без единой металлинки в голосе сказал им: «Дай бог вас больше в форме не видеть, ребята. Не поминайте лихом!» – и, спрыгнув с подножки, взял под козырек. Автобус тронулся, все оглянулись на старшину, и кто-то из ребят растроганно обронил: «Человек!» Серега не смог ничего добавить к сказанному, он глотал слезы…
Самостоятельно с первой публичной оценкой личности Серега выступил еще в восьмом классе. Правда, вся публика состояла лишь из самой оцениваемой личности, но все же это был качественный скачок, очередная ступенька прозрения. Накануне экзамена по математике Борька застал его над старым, отцовским еще, учебником «Психологии». «Псих энд псих», – прокомментировал он это событие. Но Серега не среагировал на язвительность.
– Борька, знаешь, кто ты? – опросил он таинственно.
– Кто? – сторожась подначки, переспросил друг.
– Ты необыкновенная личность! – произнес Серега в раздумье, как открытие.
– ?!
Но Серега, не дав ему и слова сказать, стал обосновывать свою гипотезу, расцвечивая друга перьями всех достоинств. И чем больше и вдохновеннее он говорил, тем подозрительнее щурилось Борькино конопушное лицо. В конце концов, желая упредить розыгрыш, друг перебил его:
– Ты лучше все это Люське пропой, а то она не знает, что рядом с нею живет герой нашего времени, и все на тебя лупатится…
– А что, идея! Пошли! – воскликнул Серега, все еще находясь на волне своего прозрения, и встал, чтобы идти к Люське.
Но Борька, сразу посерьезнев, суетливо «тормознул на все подошвы»:
– Ладно, ладно тебе, психолог. Ты вот лучше скажи мне: хочешь гармонически развивать личность?
– Учись играть на гармони, да? – уже соскальзывая на хохму, отреагировал Серега, потому что Борька заговорил еще серьезнее и высокопарнее его.
– Не-ет, пошли… пошли в «грузию»! – вдруг оживившись, сказал Борька.
– А я туда и так еду, мать обещала достать путевку в альплагерь.
– Да нет, – Борька сник, – я говорю в «грузию» от слова грузить. Вагоны разгружать.
Серега растерянно смотрел на друга и чувствовал себя не совсем уютно – где-то внутри него довольно явственно похрюкивал свиненок: об альплагере он ничего еще не говорил другу.
– А может, вовсе и не будет путевки или мама две достанет, – пытался он еще оправдаться, но свиненок все хрюкал, потому как вторая путевка ничего не решала: Серега отлично знал, что Борька собирается в свою «грузию» отнюдь не за гармоническим развитием… – Так бы прямо и говорил, что грузить, – наконец нашел он верный ход, – на Кавказ мы и без путевок поспеем – турпоход же намечается в конце лета, – заключил Серега облегченно, и свиненок умолк.
А Борька взахлеб затараторил.
– Представляешь, придем осенью в школу: плечи – во! – следовал красноречивый жест руками в стороны. – Грудь – во! – руки соответственно сошлись впереди. – Ну и карман, само собой, поправим…
Это уже выражение Борькиного отца, вольного плотника, который после каждого крупного дела столь же крупно гулял, а потом брался за топор и, оказав свое «надо бы карманы поправить», уходил со двора.
XI
Карман они, конечно, поправили. Для Борьки это было существенно, хоть он и не показывал виду. Сереге же спортивного интереса ради, ну и с Борькой за компанию. Мать даже настаивала на путевке: мол, успеешь, наработаешься. Она, фельдшерица, много лишнего о человеческих слабостях знала и частенько полошилась попусту – не надорвись, не простудись. Хотя самой-то хорошо было известно – почем фунт лиха и поту…
Отец, будучи преподавателем физики, подходил к этому вопросу философски.
– Аксиома, – говорил он, – что человека в общественном смысле породил труд. Труд, изначально самый примитивный и жизненно необходимый. И как в эмбриональном цикле человеческий зародыш проходит эволюционные стадии общего развития жизни, так и, рождаясь общественно, каждый из нас, кем бы он ни стремился быть, обязан обрести как можно больше навыков того изначального труда, который передние конечности в руки преобразил! Труда охотника, старателя, землекопа, строителя, подельщика. О грузчике и говорить не приходится. Переноска тяжестей – это занятие, пожалуй, самое древнее. И всех богатырей-силачей мира, легендарных и сущих, история может с чистой совестью приписать к профсоюзу грузчиков. Сколько тяжестей им поднимать пришлось!
Отец не назидал, а размышлял вслух. Обычно их беседы проходили за шахматами. С Борькой и Серегой он играл одновременно, на двух досках.
– К тому же, – продолжал он, – в каждой профессии есть свои подножья и вершины, фундаменты и крыши. И я не верю в инженера-конструктора, руки которого не познали труда рабочего, не признаю доктора, не способного выполнить работу медсестры и санитара, не представляю себе генерала, не хлебнувшего солдатских тягот.
– А учителя? – спросил дотошный Борька.
– Да ученик, пожалуй… Только не примерный, в целлофановом смысле этого слова, а разный… И прежде всего – пытливый и благородный. Все мы ученики от рождения: задаем вопросы, нам отвечают. Вскоре мы сами начинаем разрешать свои вопросы. И как только появляется в нас потребность отвечать на вопросы других – рождается учитель. Вот в тебе, Боря, учитель, по всему видать, уже наклюнулся. А некоторые из присутствующих. – отец выразительно посмотрел на сына, – начиняют свою педагогику в жизни с подзатыльников, хотя подобного опыта на себе никогда не испытывали.
Отец имел в виду случай, происшедший накануне. Сереге подарили фотоаппарат, и он отснял свою первую в жизни пленку. Хлопотно готовился проявлять ее, утемняя чулан. А когда вернулся в комнату, взревел от негодования: младший брат, второклассник, разглядывал на свету извлеченную из аппарата пленку и недоумевал: «А где же карточки?» Ответом ему и был подзатыльник.
Отец был прирожденным учителем, переливающим всего себя в других, будь то-ученики, дети или даже случайные собеседники по рыбалке, дорожные попутчики. И пребывал в хорошем расположении духа, если ему удавалось приоткрыть человеку какую-то истину либо самому распознать его глазами еще неведомую грань бытия. Играя с ребятами в шахматы, он больше радовался их победам, чем огорчался от своего поражения.
В игре друзья были столь же неодинаковы, как и в жизни. Борька играл цепко, дорожа каждым ходом. Добившись минимального преимущества в начале игры, седлал его и с нудной настойчивостью оберегал до конца партии, словно боролся за решающее очко для гроссмейстерского балла. Играть с ним было трудно, изнурительно, да и сам он вставал из-за доски, точно машину угля разгрузил. Обычно отец успевал сыграть с сыном три-четыре раза, прежде чем завершилась партия с его другом.
Серега играл легко, увлеченно, совсем не думая об «очке». Все его страсти поглощал процесс игры, ее драматургия. Особенно обожал выкручиваться из безвыходных положений, в которые, надо сказать, попадал довольно частенько, потому что в вихре излюбленных атак жертвовал фигуры напропалую. Меж собой друзья играли всегда результативно, почти без ничьих. Серега либо ловил друга на приманку жертвы и стремительно взламывал его оборону, добираясь до короля, либо терял свое войско перед «крепостным валом»… Борьку отец называл солидно – мастером изнурительной обороны, Серегу – гусаром, за эффектные, да не всегда обдуманные жертвы. Сам, предпочитая играть в умеренно комбинационном стиле, отец искренне уважал в своих юных противниках индивидуальности, радуясь им. Пожалуй, именно понятие об индивидуальности, непохожести составляло стержень ею педагогической да и житейской философии.
– Быть на кого-то похожим – какая ерундистика, – говорил он почти возмущенно. – Будь сам собой, проживи свою жизнь, и тебе, и миру, многообразию его, от этого больше пользы будет. Даже Эйнштейн второй не нужен… Он все сказал, что мог, что должен был сказать. Но продолжение его, вторую ступень его интеллекта, так сказать, – миром просим.
К Серегиным метаниям он относился терпимо, даже уважительно, сдерживая естественное беспокойство матери. Особенно когда сын, окончив школу «рядом с медалью», решил сразу не поступать в институт, а прежде осмотреться как следует в мире профессий. Устроился на консервный завод. Вначале разнорабочим, потом, после краткого обучения, в слесари-наладчики перешел. Через полгода в военкомате предложили допризывнику Крутову приобрести шоферскую специальность. Возражать не стал, окончил курсы и, не воспользовавшись второй попыткой абитуриента, до самой армии работал шофером.
Мать, конечно, высказывала свое отношение. С житейской простотой, в которой ударным доводом было – «как у людей», – она давала советы, словно порошки и таблетки прописывала, зная лишь принцип действия лекарства, но не вникая в его мудреный химический состав. Отец же в своих размышлениях любил исходить из химической формулы бытия. Серега вначале недоумевал и горячился, когда родители, высказав по его поводу совершенно противоположные мнения, вроде бы соглашались друг с другом… И только со временем понял, что оба они заботливо оберегали его самостоятельность в выборе жизненного пути, предоставляя ему самому сказать последнее слово.
Правда, мать иногда не выдерживала благородного нейтралитета и в сердцах высказывала ему с отцом:
– А ну вас, умники, поступайте как знаете. Только потом не бегайте к докторам и мамам, когда очень больно будет…
Серега отшутился тогда:
– Мне-то хорошо, не надо в разные стороны бежать: у меня мама доктор «Ай-болит!»
– А что, и была бы доктором, если б ты в свое время не появился, – в запальчивости обронила мать, имея в виду свой так и не оконченный институт.
– Ты что, мама, сожалеешь? – удивленно спросил Серега.
Мать смутилась, сразу утратив воинственный пыл. Поспешно подошла к сидящему сыну, прижала его голову к груди:
– Что ты, что ты, родной мой. Разве можно так думать. Я к тому, что причина большая была у меня… А кто тебя держит? Мне кажется, ты немножко растерялся…
Так одним жестом-порывом и вселила в него свою особую правоту.
Отец не мог себе позволить таких нежностей, но, сознавая их благотворную необходимость, любил повторять:
– Слушай мать (что означало: чувствуй любовь и тревогу материнскую). Мы с тобой теоретики: я – замшелый, ты – зеленый. А ее сердце – великий практик…
Отец обычно, как и приличествует мужчине, держал себя спокойно, выдержанно. И только однажды дрогнул его голос. Провожая Серегу в армию, он сказал на прощанье:
– Пусть всегда раскрывается над тобой парашют. – И спрятал лицо в объятиях сына.
Во время прыжка, сближаясь в свободном падении с землей, Серега вспоминал эти слона, как родительское благословение воспринимая полногрудый хлопучий вздох распахнувшегося над головой купола.