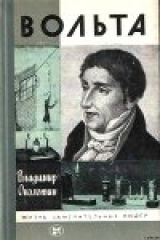
Текст книги "Вольта"
Автор книги: Владимир Околотин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц)
Он расширил ряд металлов, внеся в него уголь, графит и колчеданы (медный, железный, свинцовый и мышьяковистый). Он задабривал оппонентов терминами «гальванизм» и «гальванианцы». Он признавал, что «кое-где и я сказал слишком много, слишком решительно, зашел слишком далеко». Он отговаривался нехваткой времени: «Я пишу из Комо во время вакационного досуга, который заканчивается». Он снова обличал: у Валли лягушка, мол, плохо обмыта, а животные выделения могут искажать факты. Он ссылался на свои добродетели: «Многие иностранцы и сограждане без колебаний подписались под моим мнением, увидев мои опыты». Наконец, он кивал на Томазелли из Вероны и Марума из Гарлема: еще в 1792 году лягушки у них вздрагивали при простом касании нерва!
Короче, самолюбие не пускало Вольту кончить битву вничью, невыигранный бой ему казался поражением. Гальвани подлил масла в огонь: в моденской публикации он не захотел назвать себя, тем самым отказавшись дискутировать с Вольтой, высказав свое недоверие и, если угодно, даже отвращение к любым, хотя бы письменным, контактам. Вольта нервничал, но все еще вел научный разговор, Гальвани без нужды обострил ситуацию до болезненности.
Публика прекрасно разобралась. В честности и компетентности Вольты никто не сомневался. Работящий, добросовестный, знающий, но страстность привела к нетерпимости. «Легковерные читатели», «какой-то торжествующий тон», «ослепление», – продолжал лепетать честный упрямец. Гальвани побежден, но и самоуверенность Вольты разлетелась вдребезги, больше никогда он не будет столь категоричным. Он доведет до конца свою победную «металлическую арию», и только. Факты гальванианцев при жизни Вольты так и не получат объяснения, наука электрофизиология сформируется много позже.
В слишком нервном противостоянии Гальвани – Вольта выиграл разве только Вассали, в 1799 году он выпустит и свет «Письма о гальванизме». Безделица, но все же. Огорченный какими-то непонятностями в убедительной ясной картине с лягушками, Вольта все же откровенно поделился своими сомнениями с Делфико, младшим коллегой: «То животное электричество порождалось металлами, а это, без металлов, вроде бы новое» (13 апреля 1796 года). Что ж, разум Вольты на обычной высоте, как раз такой и окажется «гальваническая правда».
Как бы то ни было, но металлы не подвели. Граф Вилзек посчитал возможным лично поздравить с публикацией в Лондоне и медалью Копли. В июне писал из Марбурга Мошетти: «Химик Пфафф претендует на сокращения без металлов, но в Вене считают, что Ваши опыты с углем и пиритом сделаны раньше».
Еще подарок себе – законы пара! Уж пять лет он работал с паром, (и еще будет экспериментировать до 1804 года), рассказывал на лекциях, спорил с коллегами, написал три письма, но все недосуг было напечатать. Он заметил, что даже лед испаряется. Подключив барометрическую трубочку к ванночке с нагреваемой водой, Вольта отыскал ценой множества опытов три правила. В науке выжил только третий вольтов закон (давление паров не зависит от того, пуст сосуд или заполнен другими газами), в 1802 году его подтвердил Дальтон, тоже самоучка и учитель. Так имя Вольты попало в славную когорту ученых, изучивших законы давления паров и газов.
Размышления педагога.
Плюс-минус два года около 50 – пожалуй, самое насыщенное время в жизни Вольты. Семья, наука, еще и работа.
В июле 94-го года Вольта представил в политическую канцелярию магистрата серьезный труд с доводами об устройстве курса философии, о методах преподавания, содержании лекций и экспериментов. Программы занятий еще спутаны и нелогичны, писал профессор, неясно, когда давать начала математики, когда общую и когда специальную физику, когда давать время иезуитам на семинары и философию.
Студентам, изучающим теологию и право, на первом курсе надо б дать логику и метафизику (профессор Балдинотти), потом элементы математики (профессор Маскерони) и общей физики (падре Барлетти). На втором году обучения хорошо бы прочитать курс этики (Ламбертеньи), затем частной и экспериментальной физики (Вольта), географии и истории (Гюртола), истории естествознания (Спалланцани). Медикам на первом году надо то же, а на втором заменить географию и историю анатомией и физиологией. Правоведы, теологи и медики пусть сдают экзамены два раза, до и после пасхи. А собственно физикой надо считать оптику и метеорологию, туда входят учения о воздухе, газе, огне, испарении, электричестве, магнетизме и приборах типа баро-, термо-, гигро-, электро-, магнито-, эуди– и прочих «метров».
Ректору и в ученый совет профессор передал расшифровку: по одному только воздуху надо знать о текучести, упругости, тяжести, машинам пневматическим (вакуумным) и сгущательным (давления), сифонам, барометрам и манометрам, баллонам, аэростатам. По звуку: возбуждение, распространение, скорость, сила, отраженно, эхо, инструменты, тональности, музыка. А по газам 15 тем, столько же по теплу и огню, свет дается по Ньютону и Эйлеру, причем среди 17 тем телескопы, микроскопы, волшебные фонари и камеры-обскуры.
По электричеству, главному делу Вольты, затрагивается 20 тем: природа, возбуждение, распространение, изоляторы, проводники, емкости, конденсатор, электрометр, банка лейденская, квадрат Франклина, электрофор. Еще электричество в атмосферах и животных, магниты с арматурой, сходство электричества и магнетизма, магнитные углы (склоненья, наклоненья), магнетизм животный. Сверх всего этого нужны гидравлика и химия, Земля с вулканами и землетрясениями, ветры и погода, соли и химические соединения (кислоты, щелочи), земли (бариты, кальции, магнезии), глины, камни и кристаллы, металлы, жидкости, масла, спирты и эфиры.
Даже прочитать нелегко этот пухлый методический трактат, зачем же Вольта писал его? Затем и писал, чтоб далекие от университета чиновники поняли, что наука – это не умные беседы, а тяжелый труд, требующий предельной загрузки мозга и обращения к множеству приборов. И пусть никто не сочтет физиков бездельниками…
Составляя записки, Вольта и для себя подытоживал состояние классических наук, их дробление и взаимопереплетение частей. Любопытна эволюция учебных курсов, многое еще не доведено до отчетливой ясности, но не так уж мало знали физики-химики два века назад.
Никаких иллюзий о возможных благодеяниях извне у Вольты не было, он просто информировал начальство, чтобы не говорили потом: «А мы не знали!» Вольта разослал бумаги тем, кто мог что-то решать, прежде всего в Вену. «Учебные часы следует непременно перекраивать, – страстно вещал он маркизу Гульяни, – оптику надо урезать (там ничего нет, кроме камеры-обскуры), зато давно пора усилить динамику и гидростатику. В месяц можно читать 7–8 лекций, в год до 150. Лабораторных работ сотни, действующих стендов еще больше. Лаборанту Ре нелегко, студентам еще труднее. Физический Театр должен в год ставить 150–200 спектаклей!» (январь, 1793).
Двор «за», отзывался из Вены служилый меценат. «Мой респектабельный друг! – вторил Франк. – Во время моего визита к императору я заручился его полным согласием». Ландриани в Вене зондировал возможность выбраться в столичную академию, и заодно советовал купить паровую помпу Кемпелена. Подобно многорукому Шиве Вольта умело «дирижировал» участниками своих программ: датчанину Ранцау показал кафедру; Боваре в Милан отослал табель посещений; перечислил Ландриани необходимые качества помпы; проводил в Вену Франка-младшего, тот уже 10 лет заведовал медицинской клиникой университета и сожалел о разлуке, но ему влияние отца предоставило госпиталь в столице, так пусть заодно передаст привет Вилзеку и сам примет поздравления в связи с рождением сына («у меня тоже, пусть оба поступят к нам в университет»).
Еще приходилось заниматься ружьями для аристократов, по 24 цехина с персоны: занятная новинка, духовые аркебузы, работают на сжатом воздухе, пусть граф Эберли забирает первую партию пневматических стволов. Тот прислал Раканьи, и Вольта всласть наговорился с падре-химиком про опыты с фосфором, про кислород, ведь когда что-то жжешь, то жизненного газа становится меньше, а удушливого больше, и чем ниже температура, тем больше в воздухе азотистых составляющих. Хорошо поболтать со знающим человеком!
Нашествие.
В 1795 году французский Конвент отменил так называемый максимум. По старой памяти французы принялись бунтовать, но ситуация изменилась. Остатки энтузиазма инертных людей, все еще опьяненных недавней свободой, помогли разбить пруссаков, потом картечью вдоль парижских улиц были выметены воспрянувшие реалисты, но и бунты кончились.
Крупные буржуа держали в узде и санкюлотов, и монархистов-легитимистов. Вот гибнет заговор истинных революционеров: Бабеф и Дартэ, понимавшие необходимость подкрепления смелых фраз более прочной опорой, попытались заколоться, но их сохранили для гильотины. Третий радикал, Буонарроти, просидит в тюрьме пять лет, по выходе напишет книгу о мечтаниях современных Гракхов, а от эшафота его спасет (кому ж неясно?) корсиканская кровь, как в жилах восходящего Бонапарта.
Но вот французы бросились на Италию. Планы генералов просты: побольше кричать о братстве свободолюбивых франков и латинян, а под шумок и заодно прибрать к рукам богатство соседей. 27 марта девяносто шестого года занята Ницца, 10 мая австрийцы снова разбиты при Лоди, 14-го пал Милан. Пал для австрийцев, а дети итальянцев в восторге визжали, девушки лобызали грязных, запыленных пехотинцев, восторженные юноши дрожали от наконец-то сбывшихся надежд обрести свободу.
Итальянский поход начался триумфально. Первым делом Бонапарте убрал из фамилии «е», чтобы покончить с корсиканским запахом, его курс – прямиком к владычеству сперва над Францией, потом надо всем миром. А тем временем следовало превратить Апеннинский сапог в собственный ботфорт.
На другой день после входа в Милан он принял депутации края, всем, мол, простертой дланью отсыплю блага и справедливости. Из 40 декурионов Комо Вольту и Джовьо, знатоков французского, отрядили воспеть хвалу избавителю, в толпе других уполномоченных провинциалов их осчастливили (вот дома разговоров будет!), допустив в палаццо эрцгерцога Дюка (власти меняются, а дворцы остаются!), где французский комендант генерал Деспиной принимал депутацию.
Благосклонность победителей – то же золото: Вольту вмиг ввели в муниципалитет, назначили персональным асессором для службы на стыке французских и итальянских интересов. Он купался в почитании, признании, да ведь заслужил, и в Париже бывал, кто ж лучше родине послужит, чем он, грамотный, честный и одаренный?
22 мая через миланского астронома Ориани Бонапарт объявил свои высокие намерения поддержать честь и славу местной науки. Ориани приуныл: он не решился предстать перед своими «рупором конкистадора», а пока он медлил, прекращение выплат содержания вынудило профессуру молить о милости. Услышав про такую безделицу, Бонапарт мигом решил дело, отозвавшись из своей ставки в Ливорно и тем заслужив немало похвал.
29 мая Тереза разродилась вторым сыном, счастливые родители дали ему имя Фламинго, чтобы подобно своему тезке в птичьем мире он парил, грозя лягушкам (и гальваническим тоже). Как странно, всех Вольта, и Алессандро тоже, матери вынашивали под гром пушек! Асессору Вольте сразу пришлось заняться пренеприятнейшим делом: распределением военной контрибуции среди граждан завоеванного города. Да мы не воевали, пусть австрийцы платят, возопили горожане, уповавшие на ласковые речи Бонапарта и не желавшие верить умникам, язвительно уподоблявшим народ дойной корове. Но жалобы не помогли, военный налог надлежало сдать в три месяца.
В неприятное дело вовлек Вольту его новый пост, но деваться было некуда. Самое разумное, советовал он делегатам провинции, разложить репарацию на аббатство и капитул, потом на собственников земли, а остальное на всех прочих граждан сообразно их доходам. Мысль одобрили, дело спихнули на Вольту, и тот, пожелавший внести справедливость в неправедное дело, перед стонущими людьми предстал вандалом, перед церковью блудным сыном. «Я не могу что-то изменить, – оправдывался он перед кузеном Лопико, – каждый платит по персональному билету, мы лишь следим за справедливым взиманием. Ты, между прочим, платишь 25 тысяч, по минимуму, по расценке в полпроцента, надо б вдвое больше. Пойми, мы мало на что влияем». Влияют, влияют, злились обираемые люди.
25 июня 1796 года, то есть теперь по революционному календарю IV года, начался грабеж Павии. Озверевшие «освободители» срывали кресты с шей, серьги с ушей, кольца с пальцев, насиловали жен и дочерей, детей, убивали их защитников, тащили в обоз столовое серебро. В университете нашлось мало поживы: машина Атвуда тяжела, поднять не удалось, зато зачем-то украли новый дупликатор, перевернули шкафы и стеллажи, все кувырком, стекла вдребезги, ни одной целой склянки. Только к концу другого дня конные части усмирили мародеров, к кладбищу поползли гробы, комиссар Салицетти заверил павийцев, что ущерб компенсируют. Вольта сидел в Комо, читал скорбный рапорт Ре, губы дрожали.
Тем временем контрибуция в Ломбардии собиралась решительно. Вывозились картины, золото, книги, мебель; это ж не нам, а республике, объясняли пришельцы. Люди прозрели: их опять провели болтовней о справедливости, коварный корсиканец оказался предводителем армии разбойников, но предъявлять счет французам было не по зубам, их проклинали исподтишка, сквозь зубы, а козлом отпущения стал… Вольта. Ему грозили, вредили, он умолял Валери, военного агента в провинции Комо, срочно освободить его от обязанностей асессора. «Как один из 40 декурионов Комо, входящих в совет, я выполнил почетное поручение помочь в распределении репараций. Я прошу Вас и комиссара Салицетти снять с меня временно исполнявшиеся обязанности асессора, чтобы я смог заняться естественными науками, ибо крайне желаю продолжать службу профессором в университете Павии». Увы, мирным просьбам в военное время не внимают, приходилось тянуть две лямки – лекционную и контрибуционную.
В октябре появились слухи о переводе Павийского университета в Милан. Это дело Вольты – решили многие. Одних новость радовала («не забудьте вашего верного школяра»), другие не желали бросать насиженного места («это все Вольта из-за кафе и театра, до которых он большой охотник»), профессора едва не передрались.
Вольта опять промахнулся, он начал оправдываться. «Вчера в театре на празднике открытия учебного года, – писал он аббату Габбе, – меня потрясли несправедливые упреки в том, что я якобы действую против университета, инициируя его переезд».
Увы, никого не обманули жалкие оправдания человека, не умеющего лгать, клерикалы уже перенесли имя Вольты из белого в черный список. Письмо Вольты читали в кабаках, а его автора обливали грязью. Назревал самосуд. 21 ноября каноник Джованни призвал муниципалитет Комо приставить к брату охрану, ибо «многие события, происходящие изо дня в день, вынуждают просить о защите». Козел отпущения верно служил Франции, через него стравливался пар возмущения. «Обойдется без охраны, – нагло ответили Солари, Новати и Требини из канцелярии, – он прикомандирован к университету Павии». На другой день Вольте с домашними пришлось спасаться бегством.
Только тут власти зашевелились. Уже 19 ноября президент Навези, ответственный Карневали и секретарь Германни из главной администрации Ломбардии призвали Вольту на службу. От имени Французской республики, единой и неделимой, его призывали срочно вернуться для исполнения общественно необходимых обязанностей ради пользы юного студенчества, ибо его звания, почести и имя служат достаточным для этого основанием. «Я вернусь, – отвечал Вольта 26-го числа, – но без охраны это невозможно, мое письмо к Габбе еще ходит по рукам, слухи множатся, так что дайте отсрочки хоть на две недели». Просим вернуться как можно быстрее, снова молил его представитель конгресса Карневалли-Чичери, студенты ведь не виноваты, а положенное жалованье будет выплачено. В письме от 15 декабря Вольта напоминал обо всех своих заслугах перед городом, университетом, о том, что публика ездит глядеть опыты, о медалях, статьях, приборах, лекциях и упрекал: неужели вы не можете Габбу образумить!
В новом году (2 января 1797 года, или 13 нивоза Пятого года Республики) Карневалли опять просит вернуться скорее к студентам и не подводить коллег. Но что это, вместо положенной концовки «Салют и Братство» он пишет «Салют и Знакомство», а прошлый раз даже «Салют и Поклон»! Здорово, но зачем рисковать, сейчас не до глупых шуток. Конечно, пышные словеса выродились, никто не читает фанфарной ерунды, но надо б поосторожнее. Впрочем, Вольта недолго продержался схимником, через месяц-другой он подключился к словесной эквилибристике.
Конечно, все прозрели, «дочерние» республики, устроенные Бонапартом – Гольветическая, Цизальпинская, Лигурийская, – хоть кого отрезвят. О какой науке тут речь? Но Вольта затыкал уши, чтобы не слушать опасных речей: чем, мол, французы хуже австрийцев, за одного убитого они вырезают целый город. Да и зачем рисковать, ничто не вечно под луной, тем более эта пена.
За спиной шепчутся, что в Бонапарте и Вольте родственная кровь, они ж иберийцы. Вот корсиканец: малый рост, черные волнистые волосы, кости тяжелые, решителен, нетерпелив. А Вольта разве не таков? Повыше, пообразованнее, но такой же кипяток. Вот почему Вольта столь решительно присягнул Бонапарту, а Гальвани, слыхали, отказался!
Но и поплатился за то – кафедру отняли, по Лючии своей по-прежнему горюет, хоть шесть лет прошло. Уже после ее смерти нашел силы завершить свой трактат о животном электричестве, а сейчас сдал, бедняга.
А сам Вольта с затянувшимся бегством немного лукавил. Он паниковал и упирался с возвратом в университет не только потому, что попал с контрибуцией, как муха в пиццу, просто у него удачно шли опыты с касанием металлов, хотелось урвать денек-другой-третий. Еще летом прошлого года он доказал, что эффект дают не только металлы, у Валли, например, и вовсе одни неметаллы. На эту тему уже есть публикации на немецком, французском, итальянском, теперь еще рукопись к Грену. В августе туда ушло и второе письмо про то же, но с электрометром, конденсатором, дупликатором Никольсона. Experimentum crisic, опыт решающий: серебро и латунь, между ними мясо или просто мокрый картон, и диски заряжаются!
В сентябре обрадовал граф Виани из Ниццы: он-то уверен, что в гальванических опытах проявляется именно электрический флюид! Вольта с оказией переправил восторженный ответ (он стал статьей): никаким экивокам, сомнениям и двусмысленностям места нет! Измеритель сделал Беннет, Кавалло кавалерийским наскоком его улучшил, Никольсон элегантно довел до ума, и этому прибору безразлично, откуда взялось электричество, трением или касанием, прибор сработал, значит, оно есть!
Потом Марум, хоть и педант, порадовался вместе с Вольтой. Из-за этой непроходящей гибельной войны связь сделалась ненадежной, приходилось вести переписку через французские комиссариаты в Милане и Женеве, оплачивать ливрами и надписывать пакеты именами Бонапарта или комиссаров Салицетти и Гарриса, чтоб солдатня не распотрошила по дороге.
Эх, советовал Вольта Маруму, вам бы такую машину, чтоб все гудело и трещало, как при грозе, приборы чтоб дрожали при малейшем намеке на электричество. С измерителями он бы помог, ибо в них он разбирался хорошо, а машинами давно не занимался. Еще древние понимали, что verba volant, scripta manent («сказанное улетает, написанное остается»), а потому Вольта еще раз добавил: животное электричество оказалось металлическим!
А французы тащат все, приписал Вольта, ибо у них нет страха перед генералами. И ждите меня в длительное турне на вакациях, если война не помешает. Марум, сидевший в Брюсселе, порадовал Вольту китовыми усиками для гигрометра – как не помочь друг другу узникам соседних камер, то есть стран.
И снова писал Виано. Он отсасывал электричество из воздуха, заряжал им банки, предлагал измерять время электрометром, настолько четко менялись его показания в течение суток. Читать такие слова было сплошным удовольствием, и друзья у Виано влиятельные – чего стоит комендант Карло Д'Осаско, офранцуженный испанец, Виано вспоминал умершего Ван-Свитена, лейб-медика покойной Марии-Терезии, тот мечтал обмерять больного приборами, хотя б электроскопами или электрическими весами. Давно уже замечено влияние температуры тела на состояние больного, теперь самое время вступать в игру электрикам!
В 97-м году Монж начал славить искусство Вольты. Живший в Париже Маскерони всем там рассказывал, что приборы павийца могут даже фиксировать момент перед срывом искры! Вольта писал к Бертолле, намечалась поездка в Политехническую школу, заказов на статьи было так много, что не успевал все их удовлетворять.
Тогда же в Берлине вышла книга Гумбольдта, через два года последовал второй том. Вольта огорчился: немец не знал про многие опыты, и на четырехстах страницах уверял читателя, что электричество родится живыми тканями и химическими процессами. Вот уж истинно – зрят умом, а не глазом. Только химия, только кислород и водород – два дня Вольта читал многословный труд, а осилил лишь четверть. Том устарел, еще не появившись, напрасно природовед-путешественник взялся за физику, авторитет автора лишь навредил истине.
Зато порадовал венский житель, некий Каррадори. «Вы излечили меня от тоски, – благодарил далекий незнакомец, – метаморфоза вызвана тем, как чудесно вы пишете об электричестве, все великолепно и чарует».
Но, как и прежде, внешний мир властно стучался в окна Вольты. В марте 97-го года Вольта с горечью жаловался жене: «Дорогая супруга! Вчера ректор Разори и профессор Носетти призвали студентов устроить поход в честь новой власти и пойти в Брешию и Верону с патриотическими лозунгами, славя французскую революцию. С трех факультетов набралось три сотни желающих, и остальным уже не до занятий. Корпус в 3–4 тысячи, с охраной и разбившись на отряды, пройдет до Кассано, а потом вернется в Брешию. Вот уж лучший способ прославить университет! И этот развал учебного процесса должны поддерживать профессора, разве за это им платят? Уж давно стало известно еще об одном разгроме австрийских войск, французы уже вступили в немецкий Тироль, в мае войдут в Каринтию. Если так пойдет дальше, мир наступит не скоро, и прусского короля не оставят в покое».
28 декабря молодого генерала Дюпо из свиты посла Жозефа Бонапарта зарезали в Риме в двух шагах от самого посла. А в ответ через сорок дней папская столица занята французами, святой отец лишен светской власти. Правда, Римская республика не продержалась и года: воспользовавшись уходом главных сил французов, падких на всяческие авантюры, австрийцы (у них все же три армии!) и итальянцы из Неаполитанского королевства (которое скоро превратится в республику Партенопею) на время вернули город к старому образу жизни.
Что принесли французы?
Казалось, что наступили три конца: австрийцам, может быть, науке и христианскому счислению веков. Всего не перечесть, устоявшийся уклад сменился мельтешением, а Вольта из зрителя волей-неволей превратился в участника спектакля по имени Жизнь.
Вместе со сменой власти немецкий язык уступил французскому, и, как его знаток, Вольта шел в гору. Исчезла австрийская педантичность, но новая администрация тоже тяготела к патернализму, изуродованному избытком слов и формализма.
Австрийцы ушли, но атмосфера насытилась кровью и ненавистью. Давно опостылевшую разумность сменили крикливые лозунги. Идеи Руссо, Дидро, Вольтера казались детскими иллюзиями. Впрочем, и якобинской диктатуры уже не было: она устранила говорунов-жирондистов, которые сбросили монархию, а теперь и сама сметена термидором «серьезных» дельцов.
Вольта с ужасом замечал – террор не миновал французской науки, хотя кто, как не ученые Франции, снабдил революцию пушками, порохом, аэростатами. В то же время закрыты 22 университета, а в девяносто втором году упразднены все три академии (Французская, Надписей и Наук) как «школы сервилизма и лжи». Обличения Мирабо подхватил «друг народа», прорицатель событий Марат, тут уж удар не миновал академиков. «Шарлатаны, – неистовствовал трибун, формируя мнение народа, – ищите их среди 70 тысяч эмигрантов, только богатые могли заниматься наукой, знания тоже продаются и покупаются, «ученый» и «враг бедняков» суть слова-синонимы!»
Кулона, Лапласа, Лавуазье вывели из комиссии мер и весов. «Перемена династий не дает больших преимуществ», – смело отбивал Кондорсе упреки Робеспьера в аполитичности, но лучше б он помалкивал. Временами в день падало по 30 голов, многие из них принадлежали тем, кто казался слишком грамотным. Вот пал Байи, фигура легендарная, академик-астроном, автор биографий Мольера, Корнеля, Лейбница и Карла V, друг Франклина и оппонент Бюффона, певец Платоновой Атлантиды, докладчик по животному магнетизму, борец с болезнями, льющимися по парижским улицам вместе с кровью от боен городского рынка. Ужели мэр Парижа казнен невиновным, мучил себя вопросами Вольта, разве такие люди расхищают общественные фонды?
Та же участь постигла Лавуазье, творец химической революции не смог пережить революции социальной. Вместе с другими двадцатью восемью генеральными откупщиками его обезглавили за «мошенничество и незаконное обогащение продажей влажного табака, заключение Парижа в тюрьму[27]27
Имелась в виду ограда, возведенная вокруг Парижа с целью облегчить сбор таможенных пошлин агентам Генерального откупа – организации, объединявшей богатых коммерсантов, взявших при старом режиме на откуп государственные подати. Лавуазье принадлежал к их числу, но в отличие от подавляющего большинства генеральных откупщиков расходовал свой капитал на научные исследования и материальную поддержку нуждавшихся ученых.
[Закрыть] (забор для сбора таможенных пошлин), плохое снабжение страны порохом». «Дайте хоть пару дней, чтоб привести в порядок бумаги, которые важны для науки», – просил из тюрьмы приговоренный, но казнь не отсрочили ни на час, ибо, как сказал на радость всем будущим хулителям любой революции печально знаменитый обвинитель революционного трибунала фанатичный якобинец Антуан Фукье-Тенвиль, «республика не нуждается в ученых».
Покончил с собой пламенный спорщик, математик, непременный секретарь академии Кондорсе. Бедняга вольтерьянец, чуть старше Вольты, после разгона жирондистов летом 93-го он с полгода поскитался, потом все же попался и решил избежать если не смерти, то позора.
Острый умом, он кончил слишком рано, оставив людям наспех написанный «Эскиз прогресса человеческого ума». Колесо истории не повернуть назад, учил экс-маркиз, развитие неудержимо, богатства правят, но пробил час для знаний достичь паритета. Он утверждал, следуя учению физиократов: только математики, знающие историю, могут увидеть закон развития; от богословия через философию к физике – вот непреложный путь совершенствования разума; прогресс вперед влечется то одним, то другим народом. Черед французов настает, но пал под колесницей тот, кто долго мчал ее вперед!
И еще одну новость принесли на штыках французы – новое летосчисление. На первом же заседании Конвент декретировал неприкосновенность личности и собственности и упразднил монархию. Началась новая эра, возгласил восторженный монтаньяр Бийо-Варенн, и позднее революционный календарь действительно начался с той самой даты – 22 сентября 1792 года.
Месяцев осталось 12, но год теперь начинался с осени: вандемьера (сбора винограда), брюмера (месяца туманов) и фримера (месяца холодов). Зимние нивоз, плювиоз и вантол (месяцы снега, дождей и ветров) сменялись весенними жерминалем, флореалем и прериалем (прорастанием, цветением, сенокосом) и летними мессидором, термидором и фрюктидором (временами жатвы, жары и сбора плодов). Недели исчезли, равные месяцы вмещали по три декады, внемесячные пять дней в конце года стали праздниками-санкюлотидами, так что в сентябре гуляли. Они б и год удлинили, ворчали старики, но солнцу не прикажешь!
Вольте пришлось всерьез изучать нововведение. До сих пор учебный год кроился по Христову графику, теперь вводился Бонапартов. Все должностные лица получили распоряжение приспособить жизнь и службу под календарь французов, Вольта приложил все усилия, но приказ оказался невыполнимым. Пришлось заявлять протест. Друзья сдерживали, но ведь нецелесообразно, упирался добросовестный профессор. 13 февраля 1797 года, то есть 25 плювиоза Пятого года, главная администрация Ломбардии получила пространную бумагу от возмущенных деканов Павийского университета: Вольты с философского факультета, Нани с правоведческого, Прешиани с медицинского, Зола с теологического. Делами высшей школы в администрации ведали Перелли и Матья, им не хотелось неприятностей, жалобу замяли.
Чем же не угодил деканам новый календарь? Он вводится во всех официальных учреждениях, рассуждали жалобщики, но сам генерал Бонапарт не советовал нарушать сложившихся канонов религии, морали и обычаев жизни народа. Вместо понедельников, вторников и т. п., вводятся примоды, дуоды, триоды, что «нарушает христианский склад поведения юношества, расстраивает ритуал религиозных служб. Ведь многие мыслители, – блеснули эрудицией заявители, – Толанд, Спиноза, Коллинз, отмечали важность периодических процессов, даже студенты полагают нововведение ужасным деспотизмом».
Ректор Разори среагировал сразу: календарь вводится для пробы, теперь у нас и покровителей-французов станут совпадать будни и праздники. Эти четыре профессора что-то бормочут про ненависть к тирании, но разве мало славного совершила для нас революционная Франция, а мы для нее. Приложим все силы для введения нового календаря по всему миланскому краю, по всей Ломбардии!
Демагогия позволяет выиграть время, Бонапарт для проформы выполнял якобинские заветы, начался двойной счет времени по старому и новому календарям. Кому нужны радикальные переломы привычного? С грехом пополам календарь прожил еще с десяток лет, незаметно исчезнув при подписании конкордата с папой, ибо христианская религия построена на христианском летосчислении, революционный календарь не мог выжить без революционной религии.
Активные, но малочисленные атеисты не смогли сломить пассивного неприятия календаря католиками и протестантами, гораздо реальнее обстояли дела с вводом единых мер и весов, нужных всем потребителям и крупным производителям. Кто-кто, а Вольта знал про важность измерений и их унификации. Еще в 1783 году Уатт мечтал ввести единые показатели для своих паровых машин, разлетавшихся стаями по Европе, и машин других фирм. Он писал об этом Делюку, тот обсуждал проблему с Лапласом, Лихтенбергом, Вольтой, позже сам Уатт побывал в Париже.
Впрочем, сработала инициатива масс, а не грамотных одиночек. «За единого короля, за единые законы, за единые меры и веса!» – такой наказ получили Генеральные штаты в 1789 году от граждан, истомленных самоуправством местных сеньоров, дававших законы своим владениям. Через год депутат Бриссон перевел проблему в ранг научных, тогда-то впервые и прозвучало имя Талейрана, советовавшего ввести единые меры для всех стран ради претворения в жизнь своей мечты – сотрудничества с мудрой Англией, по пути которой с запозданием на дюжину дюжин лет тащилась Франция.








