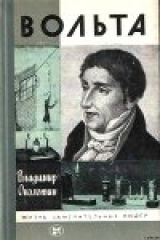
Текст книги "Вольта"
Автор книги: Владимир Околотин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц)
Глава третья (1769–1781). ПРЫЖОК ИЗ КОМО
Кончилось время брать, пришло время отдавать. Вот Вольта издал первые научные труды во славу столь модного тогда электричества, и граф Фирмиан великодушно уступил способному новичку заведование физическим кабинетом в школе Комо. Вот Вольта изобрел электрофор, и ученые Европы дружно продублировали новый источник электричества. Вот появляются газовые приборы (лампа, зажигалка, аркебуза) – так Вольта сообщил миру первый импульс в сторону будущей газификации. Вот Вольта изумительно разобрался в процессах сообщения заряда разным предметам, последовало предложение создать первую линию электропередачи, заработала «громоносная машина». По трудам и вознаграждения: командирован в Швейцарию, избран в научные общества Цюриха, Мантуи, Лондона, появилось множество коллег и знакомых. «В университет Павии назначен новый профессор, этот Вольта един в трех лицах: умело учит молодежь естественным наукам, большой дока по электричеству, а его работы по газам замечательны» (Розье).
Признан великим туринцем!
Если бы мысли об «электрическом огне» сами могли светиться, то историки увидели бы, как в Англии продолжал в начале XVIII века сиять Гильбертов огонек, – это Хоксби научился электризовать стеклянные шары, натирая их тряпками. Потом и сам Ньютон заразился интересом к удивительным электрическим танцам бумажек и загадочному свечению кошек, поглаживаемых в темноте.
Потом пламя электрических знаний переметнулось во Францию: Дезагюлье, Дюфе, Нолле в первую треть века получили и осмыслили много нового. Вот Винклер, Планта, Ингенгоуз и Рамсден к середине века превратили натираемые шары в надежно работающие дисковые машины трения, а лейденская банка Клейста и Мушенбрека еще больше закрепила славу обстоятельного практицизма германских инженеров. Потом электрическую эстафету подхватили россияне (Рихман, Ломоносов), американцы (Франклин), итальянцы (Беккариа).
Сейчас о пьемонтце Беккариа мало кто слышал, а тогда, в середине XVIII века, он был научной звездой, притягивавшей к себе лучших из лучших. Начал он с геодезии и математики, в 32 года (1748) стал профессором физики в Туринском университете, а через пять лет выпустил в свет лучшую для того времени книгу об электричестве, упрочившую его высокое реноме. Скромный Беккариа был отрешен и важен, на плохоньком прижизненном портретике выглядел озабоченно, думал о чем-то то ли земном, то ли небесном, придерживая рукой дисковую машинку трения и лейденскую банку.
Славный Беккариа был на диво плодовит, его находки многочисленны и по форме просты. Про геодезию и гидравлику говорить здесь не место, но вот… Отчего-то нынче бытует мнение, что о законах электрических цепей узнали только после открытия тока. Ничего подобного, Беккариа прекрасно обошелся искрой! «Металлы, – писал туринец, – все же оказывают некоторое сопротивление, пропорциональное длине пути, который пробегает в них искра» (1753). Разве не видится здесь будущий закон Ома, потом уж подготовленный опытами Кантона, Дэви и Кавендиша, но начатый Беккариа?
Или еще. Он смог восстановить искрой металлические «земли»: сурики, свинцовые белила, цинковую золу (1758). Граф Милле подтвердил – да, Каде и Бриссон заявили – нет! Это, мол, провода плавятся. Через 30 лет Ван Марум снова сказал «да»: если сурик набить в полость проводящей трубки, то сторонним каплям металла взяться неоткуда! Потом уж, в следующем веке, при появлении вольтова столба споры стихнут, но за полвека и про Беккариа забудут!
Совсем уж сенсация! Еще Франклин намагничивал иголки и перемагничивал магниты разрядами банки. Повторив опыты, Беккариа прямо заявил, к восторгу соплеменников и чужеземцев (Пристли, например), что магнетизм порождается электричеством (1758)!
Кроме того, Беккариа опытами доказал, что облака заряжаются чаще положительно, реже отрицательно. Вслед за Стекли и Бином заявил: потенциалы земли и атмосферы выравниваются землетрясениями. Раньше Эпинуса показал, что емкость конденсатора растет, но по-разному, если между обкладками вложить сургуч, серу или смолу. Полый и сплошной кубики притягиваются одинаково, учил профессор, стало быть, электричество на поверхности (1753).
Последнюю идею Беккариа умело воплотил в жизнь, построив «электрический колодец», из полости которого нельзя было зачерпнуть ни капли электричества. Мало того, наэлектризованный пробник целиком отдавал заряд, случайно коснувшись стенки в полости. Любопытно, что через 70 лет колодец Беккариа вырастет в цилиндр Фарадея, где англичанин мог безопасно сидеть, хотя с наружных стенок наряженной клетки сыпались искры. А еще через 96 лет колодец-цилиндр станет огромным шаром высоковольтного генератора Ван-де-Граафа.
Естественно, что Вольта всей душой стремился в Турин к столь ученому мужу. А тот, ко всему прочему, был человеком сострадательным, полагавшим всепрощение стержнем веры. Потому, став профессором, он взял в обучение 12-летнего мальчика, француза Лагранжа, которого опекал еще в школе Пия. Родился мальчик в Турине, где осели его богатые родители, но они тут же разорились, и падре Беккариа распростер над способным французо-итальянцем свою благодать. Шутка ли, в 17 лет юноша уже преподавал математику в туринской артиллерийской школе, а в 30 лет Д'Аламбер уже рекомендовал Лагранжа, члена Берлинской академии, в ее президенты!
Заманчиво было бы повторить тот же путь, а для этого надлежало всего лишь попасть в ученики Беккариа! В своих способностях Вольта не сомневался, отца не было, мать-графиня небогата, чего ж еще? К тому же люди снова заговорили о падре Беккариа и его младшем брате Чезаре, который публично призвал мир к милосердию. Не судите, да судимы не будете! Не казните виновных, ибо не вами дана жизнь! Не конфискуйте имущества, ибо одна рука отстаивает справедливость, другая ж плодит нищету и озлобление! Лучше предупредить вину словом и делом, чем, упустив события, карать за них, ибо себя караете за попустительство и бесконтрольность!
О долге пастырей светских и духовных, об овцах заблудших страстно и вдохновенно вещал Чезаре Беккариа в «Преступлении и наказании». Над книгой лились слезы раскаяния, души очищались участием, сердца людей воистину содрогнулись, и труд туринского юриста краеугольным камнем лег в основы уголовной юриспруденции во многих странах. Даже далекая Россия, столь склонная к самобичеванию, испытала непереносимый приступ сострадания. Разве не в Турине надо искать истоки романа Достоевского под тем же названием, что и труд младшего Беккариа? Берешь в руки роман: ба! Да ведь Сонечка Мармеладова и есть словно родная сестра братьям-итальянцам с их кротостью, только век спустя!
К нему, к падре Джованни Беккариа, указывал перст растроганных и умиленных комовских родичей Вольты. Там, в Турине, найдет наше возлюбленное чадо руководство в электрических и духовных занятиях разом! Первое письмо желаемому руководителю юноша послал еще в 1763 году, подробно изложив свои мысли о различиях между электризацией смолы и стекла. Нам-то известно, что знак заряда во многом зависит от натирающего предмета, но обычно смола захватывает, а стекло отпускает часть электронов (минус и плюс соответственно). Тогда микромеханика зарядки была неизвестна, мысль блуждала около скрытой правды, то оступаясь, то опираясь на немногие известные факты.
А через год последовало новое письмо с извинениями за назойливость и объемистость пересылаемого меморандума. Падре ответил («Не ограничивайтесь предположениями, нельзя миновать экспериментального поиска»), дополнив советы просьбой: «Шлите копии работ, если придется печататься». Юноша возликовал, его компетенцию признал сам великий Беккариа! Надо было готовить публикацию, а пока в Турин пошло письмо с описанием опыта по электризации шелка. «Надеюсь применить шелковый цилиндр в электрической машине», – писал юный физик (2 апреля 1765 г.).
С тех пор Вольта и Беккариа обменивались письмами нечасто, но регулярно. Первый искал консультаций, рассказывал о канониках Вольта, братьях и дядях, фамилии которых были известны в церковных кругах; благодарил за разъяснения и доброжелательность. Второй слал копии статей, советовал поставить по ним опыты, излагал свои суждения о физике электричества. А в итоге в свет вышла первая научная работа Вольты. И не просто публикация, а диссертация в письмах.
Предметом размышлений стали не совсем новые, но еще загадочные факты. Еще Грей и Франклин говорили про электрические атмосферы, одеялами окутывающие заряженные тела, так что подносимый предмет, погружаясь в эту невидимую оболочку, якобы воспринимал ее состояние. Казалось, что опыты Кантона подтверждали подобные взгляды, но оказалось все наоборот – Вильке перевернул до того ясную картину вверх ногами. В электрической атмосфере тело получало другой заряд!
Теперь в игру по угадыванию истины включился Эпинус, старший друг Вильке, тоже сын пастора, тоже учившийся в Ростоке и Берлине, где они вместе делали опыты, тоже ставший академиком, но не в Стокгольме, а в Петербурге. В солидном труде «Теории электричества и магнетизма, основанные на опытах» (175У) Эпинус отринул гипотезу об атмосферах и примитивном зачерпывании из них предметами, будто половниками. Нет, сказал физик-мыслитель, в предмете два скомпенсированных заряда: одноименный убегает, разноименный притягивается и остается!
Электростатической индукцией занимались и в Италии. Чинья, например, заряжал шелковую ленту, подносил к ней свинцовую пластину, из нее пальцем извлекал искру, а заряд другого знака оставался (1766). Многократно повторяя ту же операцию, можно было зарядить лейденскую банку!
Опыты родственника отвлекли Беккариа от гидравлики-геодезии, он «вспомнил» свои электрические экзерсисы, но на этот раз оплошал, уйдя от привычного надежного эксперимента в зыбкую теорию и опрометчиво выдвинув странный тезис о «местоохранном электричестве». Мы-то знаем, что при касании двух тел с разными зарядами следует разрядка и при размыкании тел они остаются нейтральными. Беккариа же утверждал, что при разъеме тел их электризация восстанавливается!
Смешно, но он был абсолютно прав. Его тела были обмазаны смолой, при касании тел электроизолированные заряды слиться не могли, а поля пластин исчезали, вновь разделяясь при разъеме тел. Достаточно, впрочем, чтобы только одна пластина не теряла электричества, на другую набегал заряд со стороны!
Эта простая картинка событий тогда еще не совсем была ясна, но Вольта твердо знал, что при касании разнозаряженных пластин электричество фактически исчезает, хотя и может навестись вновь только благодаря индукции. Тут-то он и восстал: «Местоохранному электричеству» нет места!» – отважно исправил юноша метра. Да, у Вольты были регистраторы заряда, он был отлично подкован чтением книг Эпинуса – Вильке. А Беккариа что-то замешкался, он не заметил, что пластины (или одна) не разряжались, но, теряя уверенность, цеплялся за свою теорию «постоянного самовосстановления электричества». Но и у Вольты ошибок не было, так что со стороны объективного туринца поддержка была гарантирована.
Диссертация Вольты состоялась. Мудрый Беккариа переключился на проводимость металлов, на экранирующие качества своего колодца, охраняющего полость от электричества снаружи. Мало ль дел у экспериментирующего профессора? Контакт с Вольтой расстроился, тот получил нужное, только через пять лет он снова написал Первому Учителю, ибо «этап Беккариа в биографии Вольты» кончился, как иногда пишут биографы.
Теперь-то, изрядно отстранившись от тех событий во времени и в пространстве, понимаешь, что это была игра льва с львенком. Старый рычал спокойно, молодой взвизгивал от нетерпения. Беккариа в частном хотел опереться на общее – ведь ничто в мире не пропадает, в том числе и электричество, лишь группируясь по-новому. Философски старик был прав, но он не нашел простых слов для описания простого эффекта. В общем плане, говоря про исчезновение, юноша заблуждался, но в мире царствует тактика, а не стратегия, Вольту понимали все, Беккариа мало кто. Два поколения – два разных мира со своими ценностями, со своими словами. Как чужеземцы, они толкуют о своем, не понимая друг друга. Как глухие, они тянут свои арии, не слыша друг друга. Все же, что ни говори, львенок кусался неплохо, у него выросли острые зубы, как же доброму пьемонтцу не поддержать задиристого, но быстро матереющего молодого ломбардского зверя, который так и рвался в бой?
Неистовый Лазарь.
Ближайшие семь лет (1769–1775) пролетели под знаками старой дружбы, новой науки и поисков службы. Давнее знакомство с графом Джовьо выдержало проверку временем, в октябре 1771 года завязалось многозначительное общение с юной донной Терезой Чичери ди Кастильоне, которой нравилось почтительное обращение «мадам».
А еще был нужен новый метр, и Вольта точно орел вглядывался в возможных кандидатов, пока не упал камнем на «гиганта», как он его однажды назвал, – Лазаро Спалланцани. Притом же и дорога к нему недальняя: не Пьемонт, даже не соседняя Ломбардия, а совсем уж близкая Павия с ее университетом.
Недостатков у Спалланцани хватало: горячность, репутация чудака. Еще хуже был позорный разгром, учиненный аббату эпигенетиком Вольфом дюжину лет назад. Но в том ли дело? Имя Спалланцани известно каждому, известность – сила, она-то и нужна молодому искателю.
Подумав, Вольта все же обратился к «бешеному Лазарю», выбора не было. «Разрешите посвятить Вам свой научный труд «О новой простейшей электрической машине, удобной для проведения опытов»?» – попросил молодой человек, и Спалланцани милостиво согласился, хотя в электрических машинах не понимал ничего. Но кто их тогда понимал?
Аббату льстило, что молодой, гордый и грамотный гнет перед ним выю, а Вольте того и надо. Сначала он презентует павийцу несколько экземпляров еще первой работы (вот, мол, какой высокий класс!), потом посвящает новую диссертацию (со всем почтением!), а потом приносит в дар ту самую машинку, о которой шла речь.
В этой рукописной диссертации уже нет голых умозрений, только факты. Как влияет на электризацию сферы ее обмазка глиной, смолой или лаком? Зависят ли электрические качества палки от нагрева, окраски, упругости? Какое электричество лучше: полученное трением, ударом, сжатием или надпиливанием? Много позже Фарадей продолжит эту работу и повторит выводы Вольты: (все они одинаковы!). Наконец, гвоздь диссертации – дисковая машинка трения, хитрость которой в ее полной древесности! Стойки, диск, ручки – все древесное, обточенное, промасленное, отшлифованное и отлакированное, даже в масле пропаренное, ничего, кроме древесины! «Надо ж, – ахали люди ученые и неученые, – искры из дерева! Неужто в дереве скрыт электрический огонь?» – «Подождите, у меня и вода загорится», – ронял довольный самоучка, даже не подозревая, насколько скоро его пророчество сбудется.
О Вольте заговорили не только соседи и родные. А тот упорно, но ненавязчиво гнул свою линию: вот к Спалланцани уходит письмо с восторгами относительно великолепной «Истории электричества» Пристли, которую хорошо б перевести; через год следует почтительная просьба проконсультировать, как отрастают оторванные члены у земной саламандры. Тут-то Спалланцани знает, что ему кое-чего известно, и готов поделиться: они ж едят друг друга, эти ночные водно-лесные каннибалы! А собака, ненароком укусив саламандру, гибнет от белого подкожного яда с запахом муската!
«Любитель-зоолог» Вольта непринужденно разыгрывает свою партию. Как бы только ускорить бег событий, очень уж мал темп? И вот в Англию уходит письмо: итальянец рассказывает Пристли, как выжимать электричество из дерева, как наделить этериэлектрики (диэлектрики) свойствами идиоэлектриков (металлов). Пристли из Лидса благодарит, расспрашивает про детали опыта и конструкции. Вольта в ответ делится своими мыслями о смоле и стекле, дающих то одно, то другое электричество.
А Пристли делится новинками по «воздухам», ибо во многом пневматика вот-вот разродится удивительными открытиями. Но это ж чудесно, радуется Вольта, сфера занятий расширится, вырастут возможности, скорей бы только вероятное превратилось в действительное! Уж двадцать восемь, а жизнь лишь тлеет, но что-то близко, но что-то зреет. Между тем в 1773 году созрел окончательный запрет ордена Иисуса папой Климентом IV.
Надо было этого ждать. Началось с Франции, нынче вольнодумцы пробрались в Ватикан. Привычный мир рушился, надо было опираться на что-то другое. Но на что, на государство? День и ночь Вольту гложет отсутствие службы. Он пишет в Милан аббату Фризи, дарит ему все, чем богат, – свои диссертации. Тот вежливо благодарит и только. В голову Вольты приходит умная мысль поклониться барону Спергесу, и тот – слава богу! – реагирует благожелательно. «Почему бы Вам – знатоку электрических наук – не обратиться в Павию к графу Фирмиану», – ненавязчиво советует барон из Вены.
Как и с Беккариа, «флирт» со Спалланцани тоже сошел на нет. Публикация есть, чего еще надо? В ученики к вздорному профессору идти нереально: характером тот неустойчив, всю душу вымотает, к тому ж науки о живом примитивны, не то, что физика. Этот аббат так и норовит подавить тех, кого может, конкурентов, начинающих ученых, чуть завидит слабость – сразу топчет, теша свою наполненную желчью душу.
Конечно, к этому самодуру есть свой ход: кланяться, но внезапно грубо и резко дать отпор. Тот от резкой смены ритма как бы цепенеет, бери его голыми руками. Так что сосуществовать с ним можно, через пять лет Вольта даже в Швейцарию с ним соберется. А научные интересы впредь у них никогда не пересекутся, так что причин к склокам вроде бы быть не должно.
Начало службы.
До тех пор Вольта только приближался к подножию той жизненной горы, которую предстояло одолеть. Само восхождение началось, когда ему было под тридцать. Молод, честолюбив, энергичен – вот и удалось одним рывком найти службу, изобрести электрофор и построить кучу безделушек на болотном газе. Даже не скажешь, что главнее, все три дела подпирали друг друга, как камни в фамильной арке-символе.
После первых двух диссертаций Вольта на время затих, но до чего ж усердно он работал в те годы! Может быть, больше всего сил съела у него химия. Вольта бросился в нее не только ради любознательности: электричество стало приедаться, казалось, много ль в нем осталось неизвестного, а химия поднималась как на дрожжах, появлялся серьезный шанс «испечь» что-нибудь удивительное. Во всяком случае, Гаттони был уверен в скором взлете друга, он даже начал комплектовать «Вольтиану» (!), без устали толкуя о великом предназначении (полушутка, но почему б нет?).
Наладилась переписка с Пристли, письма из Англии щекотали тщеславие, держали Вольту в курсе дел и явно стимулировали, подстегивали, мешали разнеживаться в блаженном климате. Ведь если трезво взглянуть, он был никто, но с амбициями! А Пристли успел кое-чего добиться, но ведь он и старше на 12 лет. Смышленый учитель знал семь языков (вот полиглот!), немудрено, что он взялся за родную речь, написал по грамматике учебник, пришедшийся всем по нраву. В этой книге он не постеснялся мимоходом (хоть вдвое был моложе!) укорить самого Юнга за дурной стиль и философ мудро исправил огрехи лингвистики в своих историях Англии, религии и морали.
Заслужив имя писателя для молодежи, Пристли получил предложение от Ватсона, Прайса и Франклина (тот уж много лет жил в Лондоне как представитель своего штата) поработать над историей электричества. Новая книга опять пошла на «ура», ее Вольта и расхваливал перед Спалланцани, а потом и перед самим Пристли.
Теперь Пристли снова прославился. Одно время он жил около пивоварни, и ему страстно захотелось узнать, что за газы рождаются при брожении пива. Когда загадка отгадалась, газ этот назвали «крепким воздухом» (углекислый газ), а вода, им насыщенная и получившая имя сельтерской (1772), якобы излечивала от цинги, а потому вошла в моду как вкусная и лечебная заодно. Потом Пристли выделил «соляно-кислый воздух» (хлористый водород), «воздух щелочной» (аммиак) и «воздух дефлогированный», который, как писал сам первооткрыватель, «оказался настолько чистым и настолько свободным от флогистона, что в сравнении с ним обычный воздух казался испорченным». Через много лет Лавуазье назовет этот газ кислородом, а тогда, в 1776 году, взволнованный президент Королевского общества Бэнкс вручит Пристли большую золотую медаль: «Отныне мы знаем, что все растения от дуба до былинки вносят свою лепту в производство чистого воздуха, столь нужного всему животному миру».
А пока Пристли возбуждал Вольту письмами. Писал же он чудесно, думал просто и отчетливо. «Успехами в химии и оригинальности мышления, – говорил он сам, – я обязан невежеству в этой науке». Даже недоброжелатели – а их число возрастало вместе с известностью – признавали его высокую ученость и полемический талант, но, как через сто лет скажет Джонсон, «его труды в высшей степени способны потрясти, однако не создают ничего нового». Сказано слишком сильно, но «талант к спорам» оказался у Пристли даже сильнее «таланта рудокопа».
Как тут Вольте было не заняться химией? Досадно: только распознал электричество, опять в подмастерья, зато теперь-то Вольта знал, что не хуже других. Но приходилось засесть за книги Бехера, Шталя, Жоффруа, Блэка, Кавендиша, да и самого Пристли.
Если взглянуть на химию XVIII века глазами 30-летнего дилетанта, то в этой науке виделись шесть стадий развития, а тогда как раз шла седьмая. Все древние, в том числе Аристотель и Гален, чисто умозрительно выделяли четыре первичных элемента, слагавших любое тело. Потом алхимики научились работать с тиглем и ретортой, но только в XV веке в высшей стадии Ренессанса (Чинквечементо[10]10
Пятнадцать (итал.) – принятое у историков обозначение XV века в Италии.
[Закрыть]) возникла школа трех начал (соли, серы и меркурия, то есть ртути), освоившая методы разделения и соединения веществ, так называемое спагирическое искусство. Конечно, итоги столь долгих поисков казались ничтожными, уж очень робко топтались химики у истоков материи, не умея вскрыть двери внутрь вещества, проникнуть в его толщи, хотя, что ни говори, всегда хватало амбиций и мудрых разговоров.
Истинная химия началась, пожалуй, с Сильвия в XVI веке. Он сумел нейтрализовать щелочь кислотой, два острых вещества становились безвредными. Позже француз Лемери так и учил: «Щелочи есть тела, которые шипят от прикосновения к кислотам». Потом уж Маскье добавит: «Щелочи и кислоты отнимают друг у друга характерные качества». Много ль тут смысла, ехидно смеялись умники, вторя вопрошавшему в «Скептическом химике» великому Бойлю, но для начала истинной науки было все же достаточно; классификация – первый путеводитель к пониманию и покорению.
Вот химики ухватились за ключ, заговорив о предпочтительном сродстве веществ (1718, Жоффруа), а Бергман издал знаменитое сочинение «Об избирательном притяжении» (1775). Пользуясь перечнем веществ, выстроенных по ранжиру активности, удавалось заранее предсказать, пойдет ли реакция и как шустро. Это ль не успех?
Базой для практиков неплохо служила флогистонная теория, выдуманная страстным Бохером (1625–1682) и сварливым Шталем (1660–1734). Мы-то знаем, что окисление есть присоединение кислорода, но гениальные баварец и пруссак начали с обратного: при горении от тел якобы отлетает нечто под названием флогистон. Выяснить, отлетает или подлетает, помогли бы весы, но все было не до них, слова, да еще вымолвленные с нажимом и с жестом, всегда действовали на психику сильнее цифр. Впрочем, и без весов проблем хватало: флогистон отождествлялся с горой, уголь якобы возмещал при горении убыток флогистона, к туманному пониманию сути дела добавлялась мистика алхимических методов. Вот и блуждали тысячи умов в химических лабиринтах, откуда время от времени совершенно загадочно вылетали какие-то вещества, шкварки или мутные взвеси, и приходилось гадать, что же сработало на этот раз: молитва, созвездие, добавка соды или крошки истолченной сухой печени змеи?
Истинно новую главу под названием «химия пневматическая» начал шотландец Блэк. Еще юношей, 26 лет от роду, он защитил диссертацию с важной новинкой о смягчении щелочей «крепким воздухом» и до седых волос продолжал углублять свою идею, но уже в чине профессора в родном Эдинбурге.
А химия газов бурно прогрессировала. Год в год с открытием Блэка построил пневматическую ванну Кавендиш. У него газы хранились под слоем воды. Он же доказал, что «фиксированный воздух» в 9 раз легче воздуха обычного. Вот тут-то и подоспел Пристли со своими новыми сортами воздуха: селитренным, дефлогированным и прочими.
Все эти премудрости Вольте пришлось изучать обстоятельно. Оставалось еще узнать про два факта, он полагал – химия познана. Лавуазье сжигал металлы, и их вес возрастал ровно настолько, насколько уменьшался вес воздуха (1774). Подобный опыт на полвека раньше провел Ломоносов, но замалчивать достижения «азиатских варваров» уже давно стало нормой для западноевропейских мудрецов. Годом позже тот же Лавуазье доказал, что «постоянный газ» состоит из угля и дефлогированного воздуха, ибо землистая ртуть при нагреве давала чистый воздух, зато в присутствии угля уже воздух постоянный, отчего его и назвали углекислым газом.
Так и сошлись в противостоянии две теории: старая, Шталева, с отлетающим флогистоном при сгорании тел и новая, с присоединяющимся кислородом. Пока Вольта блуждал в терминологическом лесу, он познал еще одну сложность, уже национальную. За старый флогистон стояла Англия, за новую пневматику – Франция. С обеих сторон Ла-Манша узнавалось много нового. Англичане начали, французы продолжили, вновь прославились англичане, но параллельно чисто научному потоку бушевал поток амбиций. Вот почему Лавуазье посчитал нужным оставить секретарю Парижской академии памятную записку: «Сейчас идет научное соревнование между Францией и Англией, это состязание стимулирует проведение новых опытов, но иногда приводит ученых той или иной науки к спору о приоритете с истинным автором открытия» (1772). А что ж Вольта? Словно сознательно, он затушевывал националистические страсти, переписываясь то с Лондоном, то с Парижем и делясь новостями с научными «врагами» во славу скорейшего торжества истины.
…Однако химия химией, но и без нее новостей хватало. В мае 1774 года от оспы умер Людовик XV. «После нас хоть эпидемия!» – рискованно шутили циники. Король-жуир оставил своему внуку, 23-летнему толстяку Людовику XVI, Францию обнищавшую, со многими миллиардами государственного долга. «Долой налоги!» – кричали толпы истощенных бедняков-фермеров. В Семилетней войне Франция потеряла колонии, страна бурлила недовольными и прожектерами.
И вот грянуло страшное наводнение. Умер великий Кенэ, провозвестник политэкономии: только земледелец производит материальные ценности, учил он, а промышленник и торговец бесплодны, ибо меняют только форму продукта, но никак не содержание! А новые власти призвали на службу Тюрго, ученика Кенэ, назначив его генеральным контролером и уповая на физиократов как на спасителей государства. «Физио» означало «природа», от того же греческого слова получили название физика, физиология, физиотерапия. Вольта тоже вроде бы приобщался к великому племени обновленцев, ибо служил Природе.
Тюрго шел дальше Кенэ, он учитывал любой капитал, даже вложенный в промышленность, ибо тот тоже давал прибыль. Вольта читал книгу Тюрго «Размышления о создании и распределении богатств», доводы автора звучали убедительно, но и Кенэ рассуждал не менее здраво. Вольта в захолустье читал, а Тюрго уже действовал: сняты ограничения с торговли хлебом, дорожные пошлины стали брать деньгами, а не натурой, закрылись ремесленные цехи, душившие конкурентов монопольными ухватками. Одни перестали жаловаться, другие зароптали, но все надеялись на лучшее.
Бурлила Польша, два года назад разделенная между Пруссией, Австрией и Россией. В нее тайно хлынули запрещенные иезуиты. Куда ж им было деваться? В этой сугубо католической стране даже письменность была в основном латинской, хотя простолюдины хранили верность своему языку. Пригрели иезуитов и в России, только что победоносно завершившей войну с турками.
Как грибы множились тайные общества, зрели заговоры, шептались обыватели. Из Баварии приполз слух про иллюминатов, «просветленных». На словах они боролись за нравственность и просвещение, а посвященные знали главное: монархии следовало заменить республиками, а христианство – деизмом. По примеру масонов новые подпольщики привлекали в свои ряды людей могущественных, а неофитов подвергали мрачным торжественным испытаниям; по примеру иезуитов новые радикалы делали ставку на субординацию, военную дисциплину и взаимные доносы.
А 1774 год приносил все новые впечатления. То парижане триумфально встретили Глюкову оперу-балет «Ифигения в Авлиде», написанную в духе милых старых Люлли и Рамо и трогавшую зрителей добротой Артемиды, которая сжалилась над любимой дочкой царя, простив Агамемнона за убийство священной лани. Боги милостивы, цари прощены! – нехитрые трюизмы помогали жить без грусти. То улицы ломбардских городов заполнились шествиями в честь тысячелетия славной победы Карла Великого над лангобардами, а австрийцы не стали реагировать на двусмысленность своего статуса оккупантов, ожидающих разгрома.
Сбитый с толку множеством событий, которые аналитический ум безуспешно пытался выстроить, сгруппировать, прояснить, Вольта махнул рукой и отступил от всегдашнего правила обдумывать все досконально, прежде чем совершать действия. В сентябре он пишет графу Фирмиану с просьбой дать место в школе, в октябре еще раз, и – о чудо! – приказом от 22 октября граф назначает Вольту регентом (заместителем директора)! Впрочем, чуда нет, иезуиты в силе, за Вольту замолвили словечко, к тому ж надо благодарить члена церковного совета Перегрини и венского министра барона Спергеса, еще не забывшего о переписке четырехлетней давности (вот время летит!). Сработала и диссертация на имя Спалланцани, как-никак школа Комо подопечна Павийскому университету!
Условия работы регентом оказались тяжкими. Должность без жалованья, школа старая, милостиво разрешено думать об электричестве, но как это делать? Отступать некуда, Вольта бросается в работу и перво-наперво подает ведомству просвещения докладную записку об улучшении преподавания в школе. Суть документа проста. Ситуация драматична, объективно существует неотложная необходимость срочно провести коренные реформы в методах обучения подрастающего поколения естественным наукам, ибо содержание преподаваемых предметов катастрофически устарело по сравнению с невероятными успехами наук, представителем и полномочным послом которых выступает пишущий сей рапорт. Сейчас в школе преподают грамматику, историю, риторику, философию, теологию, мораль, каноническое и гражданское право, однако все это надо ревизовать, усилить преподавательский состав, непременно привлечь иезуитов (они опытны, грамотны, бескорыстны!), обновить оборудование.








