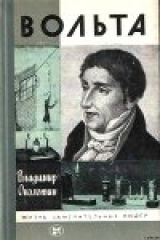
Текст книги "Вольта"
Автор книги: Владимир Околотин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 24 страниц)
В напряженной обстановке россиянам было не до науки, она шла вторым планом. Санкт-Петербургская императорская Академия наук была старше Вольты всего на 21 год, и она привыкла влачиться за Европой, ибо с первых дней там царили, соперничая между собой, немецкая и швейцарская партии. Блеск поистине великих одиночек академии заслоняли бездарности, склонные к интригам, наподобие пресловутых противников Ломоносова – Шумахера и Тауборта. В начале XIX века застой в делах научных явственно ощущался в академических стенах. И тем не менее именно здесь, в Петербурге, в исследовании «текучего» электричества был сделан важный шаг. О вольтове столбе здесь узнали в 1800 году. О новинке сообщил тогдашнему президенту академии барону Николаи из Брауншвейга проведший почти весь свой век на чужбине ученый-дилетант князь Д.М. Голицын. Он писал: «Гальванисты открыли чрезвычайно любопытное электрическое явление. Цинковые пластины, расположенные попеременно с серебряными и разделенные влажной фланелью, вызывают удар и даже электрическую искру. Впрочем, по-моему, все это не является новостью, в третьем письме Вольты Грену сказано, что, применяя одну оловянную и одну серебряную пластины, можно в одно мгновение на первом из этих металлов получить положительное электричество, на втором – отрицательное».
Ровно через год граф А.А. Мусин-Пушкин показал петербургским академикам опыты со своим столбом из полутораста пар серебро – цинк с рубль размером, столб давал потрясения или свет даже в закрытом глазу. Тогда же, вдохновленный увиденным, начал строить большую батарею Василий Владимирович Петров – пока еще не академик, а профессор Медико-хирургической академии.
Для приватного употребления господами в Петербурге уже строились штучные гальванические приборы в ларцах из красного дерева с инкрустацией слоновой костью и с серебряными цепочками, но профессор экспериментальной физики Медико-хирургической академии решил построить столб не красивее, а побольше, чтоб действия были заметнее. Как и Вольта, он преподавал общий курс физики, для чего скомплектовал для студентов лабораторию с электроприборами, магнитами, оптикой, тепловой машиной, Смитоновым воздушным насосом, в Петербурге как раз в эту пору вышла его книга по физико-химическим опытам. А любовью Петрова было горение. Вслед за Ломоносовым антифлюгистоник Петров страстно доказывал, что при соединении: кислотворного газа с веществом родятся и огонь, и тепло. У «огнелюбца» Петрова главными орудиями были зажигательные стекла и зеркальца, что и у парижских академиков, теперь же им на смену пришел огонь электрический.
По типу небольшой приобретенной батареи Петров построил огромную из 2100 пар медь-цинк. В январе 1802 года после того, как граф Мусин-Пушкин показал публике свой столб из 150 пар, Петрова, несколько авансируя доверием, избрали членом-корреспондентом Академии наук. В апреле заработал его столб, еще через полтора года вышла в свет ого книга «Известие о гальвани-вольтовских опытах» с описанием опытов поистине удивительных, но тут же глухая стена умолчания отделила от мира все, что было связано с русским физиком. Только через век о нем вспомнят потомки, наткнувшись на его труд почти случайно.
Дела обстояли так. Не любили Петрова: он гнушался математики, не видя народной пользы в абстракциях. Когда в 1802 году Наполеон объявил конкурс «Отыскать истинную причину электрической силы и составить точную ее теорию», Петров прямо заявил: «Надо искать источник электрических явлений не в умствованиях, к которым доселе только прибегали почти все физики, но в непосредственных следствиях самих опытов». Поистине Петров с Вольтой – близнецы по духу и делу!
Но пренебрежения математикой мало. На каждом шагу Петров славил Ломоносова, объявлял себя верным последователем его, в могилу безвременно сведенного. Петров (как не стыдно!) торговался на рынке, покупая для своего столба металлические кружки и не стесняясь писать в научной книге об экономии народных денег. Нет, высокоученые математики никак не могли включить воинствующего плебея в свой круг, ему перекрыли все пути.
А что ж Петров? Российская Академия не для русских, потому он напишет книгу по-русски и без формул, пусть «варяги» поплавают в чужом славянском языке. Они и поплавали, в книге не разобравшись.
Петров понимал причины дискриминации. Знаток латыни и западных языков, он, выходец из курской глухомани, писал на русском сознательно: «Поелику я природный россиянин» и «наипаче для пользы тех читателей, которые живут в отдаленных от обеих столиц местах и которые не имели случая приобрести нужного понятия о сих предметах» в Петербургской академии.
Про засилье иностранцев в Петербургской академии Европа знала, но кому ж было ведомо, что академик Крафт возражал против избрания какого-то Петрова в члены-корреспонденты, что годом позже он же вопреки своей прямой обязанности не представил академикам петровскую книгу. В 1804 году по всей Европе разошлось Крафтом составленное извещение на немецком языке про конкурс о природе света. Желающие могли писать, как призывало извещение, и «про гальванический огонь, ослепительный блеск коего в случае большого вольтова столба и обугливания веществ до известной степени подобен солнечному свету».
Старый Крафт учил Запад, как переоткрыть вольтову дугу, Петровым обнаруженную, а дирижировал событиями ученый секретарь Фусс, женатый на внучке Эйлера и тоже помогавший старцу. 3 октября 1803 года Альдини запросил Петербургскую академию о новостях, желая написать книгу про гальванизм. Фусс рекомендовал второсортные работы, а о Петрове умолчал, хоть про столб и эффектные опыты уж все знали, а через месяц петровская книжка поступила в продажу.
А 24 декабря того же года Альдини прислал письмо Вольте. Он передавал приветы от Бэнкса, Кавалло, Марума, писал об интересе публики к столбу, про великий вклад итальянцев Гальвани и Вольты в науку. «…Еще надо упомянуть о грандиозных исследованиях, столь своевременно выполненных в прославленной императорской Академии Петербурга с помощью вашего аппарата. Подробностями располагает постоянный секретарь сеньор кавалер Фусс, но для вашего сведения сообщаю, что будет какое-то надувательство».
Так и вышло. Петров построил крупнейший столб в Европе, он разложил током многие вещества, пропускал ток через рыб, лягушек и кроликов, плавил металлы, открыл электрическую дугу. Какие-то слухи бродили, но одних слухов недостаточно, да и, правду сказать, своих забот Вольте хватало.
«Одумайся, друг!»
Во все времена люди ждут чудес. В 1804 году пришлось заняться «рабдомантикой» («домашним безумством»), когда палочка сама собой крутилась в руке. Нет, уверял трезво мыслящий профессор, не обманывайте себя и других, палочка эластична, тепло руки заставляет ее вибрировать, в ней могут быть включения металлов, сказывается разбаланс по весу. Профессор знал, что говорил, его руки помнили несчетное число опытов с металлами, газами, жидкостями и деревом.
К тому же проницательность его была поразительна. В школах будут учить законы и ряд Вольты, но идеи о контактном электричестве никто не считал сногсшибательными. Только в конце XX века им займутся всерьез, появятся нобелевские лауреаты по изучению электрических сил, порожденных касанием металлов. Вольта говорил про это настойчиво, но глубокая порядочность мешала рекламе, так что скромность кое-кто принимал за фарисейство, усвоенное от иезуитов.
Нет, такой напраслины Вольта не заслуживал. Он сам предложил назвать «гальванизмом» раздел физики, более отвечающий слову «вольтаизм». Про высокую научную компетентность Вольты, его человеческую порядочность говорили Кастберг, Ваше, Делюк, Мартене, Гильберт, Риттер, Ван-Монс, не говоря уж о друзьях. Женевец Сенебье, тот даже скучал без приветливого комовца: «Что долго молчишь? Лучше переведи нам три мемории Спалланцани, они так логичны и оригинальны, и еще надо б про твой столб. Свет твоего гения словно погас для нас. Вассали с компанией сделал кое-что, но ты единственный, кто мог бы пролить свет знаний» (август 1803 г.).
Хотя Вольта дулся на Павию, однако там его ценили и обходиться без него по могли. В 1802–1803 годах Вольту замещал Стратико, «но нет, – напоминал Вольте министр внутренних дел, – в новом учебном году надо бы возобновить курс экспериментальной физики; хоть ты и согрешил с Висмарой насчет перерыва в службе, но яви свое чело народу, студенты требуют».
А избрание Вольты в Институт Франции? В объективности тайно голосующих ученых сомневаться не приходилось. В марте 1802 года его поставили на очередь с Уаттом, Гершелем, Далласом и Масканьи, в сентябре уточнили список (Уатт, Кавендиш, Вольта, Даллас, Масканьи, Юнг), через неделю Кавендиш набрал 159 голосов, а Вольта – 135. Еще в ноябре он был шестым, но тут вместе с Дандоло они опубликовали отличную работу о столбе на проводниках второго рода, и его акции резко пошли вверх. В августе 1803 года список выглядел так: Вольта, Масканьи, Клайрот, Вальтер, Уатт, Земмеринг, Жакье и Скарпа, а на выборах 5 сентября Вольта получил абсолютное большинство.
18 фрюктидора XI года председатель Шапталь, секретари Кювье и Деламбр с одобрения первого консула зафиксировали избрание Вольты иностранным членом Института. Почти автоматически последовали менее важные почести: через месяц членство в Гальваническом обществе Парижа, затем в Институте Италии с пенсией, потом еще медаль Института Франции (8 февраля 1804 г.).
Среди приятных хлопот Вольта не забывал о старых друзьях. «Ездил в Германию, Францию, Англию, Шотландию, – писал ему Франк. – Ваша рекомендация к Бэнксу отлично сработала, а медики высоко оценивают ваш столб. Я помогал Дэви, он синтезировал двуокись азота, и Альдини, он пишет книгу и служит в больнице, лучше заработаю 30 фунтов, шутит он, чем всю жизнь ждать медаль». Тогда, кстати, в Париже и вышли в свет книги Альдини и Сю по гальванизму.
В те годы на электротерапию с помощью столба надеялись многие. «Помогите излечить тугоухость, – взывал к Вольте капитан Бусье из Вероны, – заработал злую лихорадку в Венгрии, испробовал все средства, последняя надежда на вас. Мне 55, но я крепок, все органы в порядке».
Жизнь летела в заботах о столбе, о семье, студентах, Институте, а тут еще озадачил Джовьо. «Мой соотечественник, – начал он однажды, – как быстро летят годы, и никакие силлогизмы не в силах уничтожить диалектику. Мы живем в удивительной стране, здесь воздух будто набальзамирован, все пропиталось цветами и травами. Ведь мы несем заряд античности, вспомни, получив брошюры о родине. Когда разум бессилен, доверься импровизации, а ты что-то впал в политику. Кариссимо Вольта, лучше рискни, как советовал Данте, описать глубины первооснов. Впрочем, что говорить, ведь друг становится врагом особенно опасным, поскольку душа твоя обнажена на его ладони». Спасибо, дружище, холодновато отвечал Вольта, твои опусы передам в библиотеку.
В 1803 году случились небольшие неприятности. Из-за просьбы об отставке проверяли послужной список, когда, кем и с кем служил. Кто-то неизвестный через канцелярию цеплялся за учебу в школе иезуитов. Вольта защищался бумагами: с подписями Фирмиана, Вилзека, вытаскивал старые характеристики: уверял, что он не иезуит, но не слишком, чтобы не озлобить их, опять входящих в силу. Тут некстати к нему приехал испанец Д'Азала, натуралист и путешественник. Он когда-то поставлял продукты в иезуитское государство в Парагвае, но я тогда был младенцем, объяснял Вольта, а с Д'Азалой мы обсуждали его книгу «Опыт по натурфилософии», где он написал про тамошних четвероногих. Ведь я сотрудничал со Спалланцани, живой мир мне близок и по моим электрическим занятиям.
Глава шестая (1805–1817). ЛЮБИМЕЦ БОНАПАРТА
Наконец-то на Вольту хлынул золотой дождь: деньги, звание сенатора, титул графа, академические грамоты! Шлюзы признания распахнул сам Наполеон, счастливый Вольта яхтой плыл в кильватере могучего судна, но от бедствий не уберегся: один за другим умерли оба брата и любимый сын. Преуспевший профессор метался в растерянности, он грустил по близким и радовался наградам, читал лекции и оплакивал ссыльного императора, служил в муниципалитете и опекал Сильвио Пеллико и Уго Фосколо – опасных карбонариев, ибо только в молодых идеалистах видел последнюю надежду на освобождение Италии.
Разминулись!
До чего ж славно начинался 1805 год! Вольта не успел оглянуться – уже апрель. 5-го числа прилетело письмо от Гумбольдта: «Жаль, что мы с Гей-Люссаком не застали Вас в Павии, выбравшись из Рима в Милан, но с ним едет один химик, он явится к Вам лично и расскажет про Париж. Хотели заехать на несколько часов, потолковать об астральных гемисферах, но Бруиьятелли, Скарпа и Москати сообщили, что Вы отбыли из Павии в Комо.
Не будете-ль в ближайшие пару месяцев в Риме, а то после Парижа с гальваническим электричеством вас не видно? Быть может, в Англии публиковалось что-либо дельное, а мы в Париже проморгали? Лапласа и Бертолле интересует то же самое. Мой адрес в Риме: барон Александр Гумбольдт, дом министра Пруссии. До 29-го будем здесь».
Ах, как Вольта обрадовался письму и как огорчился несостоявшемуся рандеву! Ведь 8 лет назад этот веселый сангвиник был в Комо, восторгался работами Гальвани и Гей-Люссака, и у Вольты сегодня готов обзор публикаций по электрометрии. Какой редкий человек, всех обольстил при испанском дворе, что за эманацию излучает?
С расстройства отчитал Аралди: сидит там, в Болонье, не мог дать на конкурс Вольтову тему о животном тепле, ведь куда как важно, а в первый том актов Института вполне б поспела мемория о свойствах пара. Все четыре предложения Вольты годятся, про тепло скрытое и свободное, об угле и его окислении. Конечно, кислород можно связать не только углем, но и водородом, что даст воду. И Вольта исписывал страницы, вспоминая Делюка, Пристли, Шмидта, Дальтона и рассказывая секретарю Института Италии, чем венозная кровь отличается от артериальной: кислорода в ней нет.
Встреча в Болонье.
Свиданье с Гумбольдтом он упустил в ущерб душе, и теперь прозевал второе, с Наполеоном, в убыток престижу. Началось с Ипполито, сына сестры Чиары и Лодовико Рейпы. Племянник попал в миланский комитет по предстоящей коронации Бонапарта и теперь просил у Вольты дом для светских целей. Слухи о новом короле ходили давно: в декабре прошлого года первый консул превратился в императора Франции. В Париж сразу укатила делегация во главе с вице-президентом Итальянской республики Мелци и министром иностранных дел Марешальди, чтоб найти «действенные формы устройства политической жизни Италии».
«Новая действенная форма» нашлась сразу: просить Наполеона в короли! 15 марта депутация думала и решалась, через два дня в Тюильри бросилась перед императором на колени, «отец родной» отослал в сенат («чтоб все по закону!»), государственные мужи Франции изобразили мышление и учредили итальянское королевство для «императора французов». В последний день марта из Сен-Клу отбыла вереница карет, через три недели стремительный Наполеон въехал в Турин, 3 мая в Александрию, 6 мая в Меццана-Порта, миновал границу республики, на другое утро в Павии. А Вольта – вот незадача! – сидел в Комо, ни о чем не ведая.
Программа дня у Наполеона напряженная, но посетить университет надо. Аудиенции, беседы. А где ж Вольта? Отпустили? Чрезвычайно жалко. 8 мая корсиканец в Милане, коронация прошла триумфально, республика превратилась в королевство. 26-го числа император-король уже дома, не устает кстати и некстати повторять медоточивые речи о том, как за границей любят Францию, без ее руководства, защиты и помощи существовать не мыслят.
А Вольта сиднем сидит в своем саду, подписывает в канцелярии циркуляры, веером разлетающиеся по провинции, и муссирует свои обиды, бередит душевные раны. Волна сенсаций из Павии чуть запаздывала, но вот нагрянула наконец, и семья остолбенела, пораженная невероятной новостью.
Первым прибыло письмо от Несси – у него брат служит на почте почтальоном. «У нас в университете был Наполеон, – торопился рассказать профессор, – он рекомендовал вернуть Вольту обратно. Бонапарт встречался с консультантами и министрами, в доме Ботты виделся с профессорским корпусом, от их имени Скарпа выступал. Человек, известный всей Европе, дрожал от восторга коллега, должен умирать на службе! Вот что сказал Бонапарт!»
Вольта с женой обомлели, дети ахнули, разговоры выплеснулись на улицы. А 10 мая Вольте вручили спешную депешу Скарпы. «При визите император настойчиво требовал, чтобы я, – писал друг-ректор, – передал тебе о желательности хотя бы частичного возвращения!
Он подчеркнул абсолютную необходимость, чтоб ты и я вернулись обратно. Еще никогда фортуна не была так благосклонна ко мне, как сегодня. Через три дня после этого инцидента его спутники возвратились и бросились меня тормошить, ректор, клерки, консультанты. Я заикнулся, что у тебя жена, дети и от Комо в Павию далеко, но меня слушать не стали, пригласили на обед, хвалили. А про тебя так: этот человек, мол, известен всей Европе, он предназначен учить других, а потому должен умереть на своем посту».
Вольта, оглушенный, механически являлся на заседания коллегии выборщиков («явка обязательна, циркуляр министра внутренних дел…»), слушал восторги племянника Ипполито о роскошном доме синьоры Мартиньоли, предоставленном под коронацию, вникал в малоинтересные детали пизанца Маньяни про состряпанную им вместе с Пинтотти статью о гальванизме.
Но вот форс-мажор! Через секретаря Ваккари Наполеон приглашает Вольту 23 июня на коронацию, просьба прибыть к министру внутренних дел заблаговременно! И завертелось. Муниципалитет Комо срочно вводит Вольту в депутацию («Ведь Вы вместе с графом Джовьо 15 мая 1796 года уже приветствовали императора при входе в Милан»), жена заставила нацарапать ответ с благодарностью от всего сердца, Аральди прислал курьера о срочном заседании Института, министр внутренних дел просит Вольту быть в Болонье 20 июня, чтобы помочь Аральди организовать экстраординарную встречу императора с учеными.
10 июня Вольта мчится в Милан, на другой день он около Брешии, вот уже промелькнули Верона, Леньяно, Мантуя. 21-го числа в три пополудни Вольта в Болонье, а в шесть прибыл сам король-император с Жозефиной. На другой день прием: дипломаты, генералы, делегации, герцоги Пармы и Модены, гвардейцы, кавалерия.
Члены Института собрались в зале филармонии, обсудили переезд в Милан, послушали отчет Аральди, выслушали чрезвычайную новость – в то утро Наполеон назначил своего пасынка Евгения Богарнэ вице-королем. «Все мы представлены, – рассказывал Вольта брату, – тут все в сборе. Наполеон говорил со всеми и со мной, спросил, что я делаю, как дела с Павией, знаменитый человек должен умирать на поле боя, пусть жена и дети едут за мной в Павию и т. д. А я возразил, что моя служба не только в Павии, а скорее в Комо, но если останется время, я готов отдавать его университету».
Генерал и физик.
Может быть, корсиканец девятилетним малышом влюбился в науки из-за ревности к старшему брату Жозефу, когда в ноябре 78-го года того отослали в сказочную Францию учиться на казенный кошт, а Наполеоне остался играть на загаженном курами каменистом дворе при доме своего отца-адвоката? Может быть, Бонапарт потянулся к знаниям позднее, в колледже Отена, Бриенском военном училище или в Парижской военной школе?
У него была цепкая память, и он хорошо считал, но зато дурно танцевал, не знал языков, кроме родного итальянского и французского, плохо играл в шахматы. Вставал в четыре утра, много ходил пешком, любил буколические стихи антиков. «О, как люди далеки от природы!» – экзальтированно вздыхал бедный худощавый юноша с оливкового цвета лицом. Но разве не таков портрет мальчика Вольты, лишь повыше ростом?
«Он был страстным поклонником Жан-Жака и, что называется, обитателем идеального мира», – вспоминал брат. У них даже литературные упражнения схожи: Наполеон гордился изданным в Ницце (1793) своим «Ужином в Бокере», и Вольте было что вспомнить.
Замухрышка, генерал алькова, корсиканский интриган – шептались за спиной всходящего Бонапарта, когда в 96-м году, бросившись из Ниццы в итальянский поход, он по карнизу Альп привел армию к победе при Монтеночче, открывшей путь на Пьемонт, Турин и Милан. Но разве за четверть века до этого не бранили Вольту бабником, австрийским подхалимом, иезуитским выкормышем, когда он, самоучка, попал в Павию профессором? Кстати, он был старше Наполеона на 24 года.
На смене веков, в дни заговора буржуа против революции, Наполеон играл в ученого: он ходил на заседания Института, писал Лапласу, который с Монжем еще в школе читал лекции, а потом принимал выпускные экзамены у будущего диктатора. Получив власть, он сразу назначил Лапласа министром внутренних дел, но познавший законы мира не понимал законов мирян, а потому через шесть недель его сменили, но опять на ученого, химика Шапталя, подсластив пилюлю присвоением титула графа и вводом в сенат.
Про Бонапарта говорили, что изо всех военных он самый штатский. «Истинно сожалею, – признавался Лапласу генерал в дни лихорадочного устройства булонского лагеря ради переправы в Англию годом раньше, – что сила обстоятельств удалила меня от ученого поприща». Свою тягу к науке Бонапарт удовлетворял общением с учеными, главным образом Монжем и Карно – «человеком Разума». «А знаете ли вы дифференциальное исчисление?» – ставил он на место претендующих невежд.
Слов нет, парижские награды за вольтов столб свидетельствовали о проницательности Бонапарта, конечно, не без подсказки других, но он увидел в электричестве знамение времени.
Вольта делал то же самое, что Бонапарт, но на столе, а не на полях сражений. Итальянец как бы моделировал битвы корсиканца. Эти игрушечные бури физика можно было обозреть глазом, они были наглядными. Вольта тратил неживые кислоты и металлы, а Бонапарт, мясник исторического масштаба, проливал реки крови. Англия и Франция: да это же разные полюсы вольтова столба!
Карета науки уносится вперед.
Странный год словно распух. Время казалось полым, туда умещалось сколько угодно событий. Исчезли полутона, или, вернее, они словно нарочно чередовались, чтобы дать нулевую окраску. Будто в сумме ничего и не было.
Однако с наукой все было в порядке. В Комо приехал Фортис поговорить о морской «торпедине», Вольта как раз приготовил восковой муляж рыбы, упрятав внутрь столб. Разве не похоже? Вот только надо заменить металлы на проводники второго рода.
Жилло научился взрывать столбом электрические мины. Бруньятелли отлично вызолотил железные кругляши, при разложении воды столбом выделялось водорода вдвое больше, чем кислорода. Так родилась химическая формула воды, и помог тому вольтов столб!
Делюк написал о гальванизме для Аральди, готовившего к изданию очередной том трудов Института. Молодой Ботта, секретарь второго кантона дистрикта Комо, представил труд Дандоло «Отношение к овцам Испании», импорт шерсти казался выгодным, влиятельные персоны одобрили плакетку. Из Парижа пришла весть о кончине молодого Шаппа, всего 36, но в каком далеком прошлом был его телеграф, только что взмахами сигнальных реек телеграфировавший по маршруту Париж – Марсель – Брест.
Из Рима привезли чудесную, на французском языке изданную брошюрку: химик Гроттгус, у Фуркруа учившийся, взялся повторить вздорные опыты Пакьянини, который якобы заметил хлористый водород на положительном (цинковом) полюсе при разложении воды. Как и надо было ожидать, там собирался кислород, а на медном электроде нарастали блестящие металлические деревца, например дендриты свинца, если воду заменить свинцовым сахаром, и свинец ветвился зарослями папоротника.
Любопытно, что стеклянное электричество будто грело раствор, смоляное – охлаждало. Еще интереснее, что и «вольтов столб, который обессмертил гений его изобретателя, является электрическим магнитом, и я должен сознаться, что это было для меня лучом света», – писал автор. Частички воды, полагал он гениально, сложены из положительных и отрицательных начал, они притягиваются к полюсам столба других знаков, что и ведет к разложению воды.
«Поразительная простота закона, которому подчиняется это явление, сказывается, к нашему удивлению, на законе Вселенной. Природа не может ни создавать, ни уничтожать, так как количество вещества не может ни увеличиться, ни уменьшиться, но любое вещество без исключения подчинено взаимному обмену своих элементов; рассматривая чудесные действия электричества, которые часто происходят таинственно, хотя они вездесущи, нельзя удержаться от признания в нем одного из самых мощных средств, используемых природой для осуществления великих процессов».
Подлинные Мастера приходили на смену Вольтову поколению! Перефразировав Гроттгуса, можно было уходить на покой, оставив новичкам «бессмертный гений». Так и пришлось поступить, Вольта запустил в ход такую пьесу, что она приковала к себе весь мир, а сам драматург смотрел и думал: нелегко было поспеть за гигантскими шагами науки и сотен ее актеров. Можно было притвориться всепонимающим метром, всюду совать нос и бурчать нечто многозначительное, но этого Вольта не умел и не хотел. К тому же физические науки интересовали народ куда меньше политики, лишавшей людей не то что естественнонаучных знаний, но хлеба и даже жизней.
Приглашение в Россию.
И все же перенасыщенный событиями 1805 год продолжал приносить сюрпризы. «Месье! Мои друзья, члены Академии Санкт-Петербурга, уже давно мечтают предложить Вам войти в штатные члены своего научного сообщества, – так начиналось письмо, отправленное из Геттингена 1 июля. – Бесспорно, что Академия предоставит Вам исключительно благоприятные условия. Я высказываю свое предложение, заведомо зная, насколько сильно Вы привязаны к своей родине, что Вы никогда не предпринимали никаких попыток для изменения Вашего теперешнего положения, но данное предложение весьма почетно. И вот по просьбе моих друзей, поручивших мне выяснить Ваше мнение по данному вопросу, я и обращаюсь к Вам с этим письмом. С уважением, учитывая Ваши огромные заслуги перед всей Европой, имею честь – профессор философии Кристофоро Мейнерс».
Тут было о чем подумать. Жаль, уже нет Лихтенберга, он бы открыл глаза на подноготную. Он-то попал в Петербургскую академию, причем сразу после лондонского общества, а вот Вольту продержали в российской прихожей не два, как Лихтенберга, а уж десять лет. Стало быть, какие-то соображения русских умаляли его заслуги.
Но ехать смысла не было. Немолод, опять же Наполеон не ладит с Россией, не дай бог попасть перебежчиком на чужую сторону. И этически процедура приглашения выглядела отвратительно: здесь император публично выказывал уважение, а там, словно из-под полы, с оглядкой через полуизвестных посредников, будто что-то постыдное проворачивают. Похоже, что в Российской Академии так привыкли все делать втихомолку, даже почетное приглашение шепотом, будто в мелочной лавочке.
«Спасибо на Ваше конфиденциальное письмо, – сдержанно ответил Вольта. – Получить Ваше предложение было приятно, но воспользоваться им нелегко. Мне уже 60 лет, со мной два брата церковнослужителя, жена и три сына-подростка, я на родине, как почетный профессор и член Института, получаю пенсию 5000 франков. Чего желать более для тех лет, что мне остались? Жить в покое, отдыхать на родине и с семьей, воспитывать детей и заниматься экспериментами, которые мне хорошо известны. Ради чего бросить все это и Павию, где я уже 30 лет на службе? При других обстоятельствах, будь я моложе, и решение могло быть другим по столь почетному предложению из-за границы. А потому, многоуважаемый профессор…».
Оставалось предотвратить появление неминуемых сплетен. В пакет уложить копии писем Мейнерса и своего, туда же приписку («…и раньше, что не сюрприз, я всегда отклонял подобные предложения, ибо ценю отношение ко мне, хотя Петербургская Академия не хуже обществ в Лондоне и Германии, Институтов в Италии и Франции»), надписать адрес («Из Комо. В Милан. Министру внутренних дел Капелло ди Римини»). Ровно два года, день в день, Римини ходит в министрах, только название страны изменилось с республики на королевство.
Вольта не планировал получения награды за патриотизм, но через месяц она последовала: император Франции и король Италии Наполеон из Болоньи декретировал назначение пенсии 3000 франков в год за счет епископства Адрии «для компенсации затрат по службе и в знак проявления высочайших талантов».
Через два дня, 26 августа, новое правительственное письмо. Из Парижа граф Ласепед извещал о присвоении Вольте звания Почетного легионера с вручением ордена. Подумать только, словно царедворцу!
Подношение триумфатору.
Возложив на голову железную корону итальянских королей, Наполеон занялся Европой, которую, как, впрочем, и весь остальной мир, он собирался пригнуть под сень своих знамен.
Раздраженные властители Англии, России, Швеции, Австрии не выдержали и сбились уже в третью антифранцузскую коалицию. «Моветон», «парвеню»,[30]30
«Дурной тон», «выскочка» (франц.).
[Закрыть]«наглец» лишь смеялся: первое противостояние окончилось миром 1797 года в Кампоформи, второе – в 1801 году миром в Люнневиле и Амьене. И вот 300 тысяч австрийцев двинулись на Ганновер, 20 тысяч русских высадились на остров Корфу, чтоб выбить французов из Неаполя.
Как ни старался посол Разумовский в Вене, но скованный под началом бездарнейшего из бездарных австрийского генерала Макка, Кутузов не смог предотвратить пленения австрийцев под Ульмом (октябрь 1805 г.) и их разгрома в Италии. Австрийский император Франц молил Кутузова не оголять Вены, но тот отошел от Бранау, за счет чего выиграл сражение у Кремса. «День резни» стоил Наполеону 4 тысяч солдат: оскорбленный чуть ли не первым столь страшным поражением, он бросил армию от Мюнхена к Вене, где собирались австрийские и русские войска.
Под Веной сгущались тучи, 5 ноября туда приехали императоры Франц и Александр, но солдаты смотрели мрачно, словно предчувствуя смерть.
Только Евгений Богарнэ мотыльком порхал по Италии, созывая высший свет на фестивали и рауты. Вот и Вольте 12 октября пришлось ехать в Монцу. «Почему б нам не провести заочный триумф Бонапарта от имени Института? – угодливая мысль родилась в голове Аральди. – Мы бы как раз к его именинам успели», – развил он ее дальше. «Давайте», – присоединился Москати, ставший генеральным директором публичной информации. «А поскольку Вольта почетный легионер, то пусть он почитает в ходе действа курс лекций», – решили оба льстеца.








