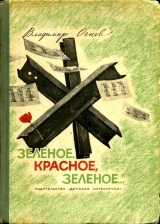
Текст книги "Зелёное, красное, зелёное... (Повесть)"
Автор книги: Владимир Огнев
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
ТЕТЯ ГАНКА
Сашину маму все звали Ганка.
Тетя Лиза написала мне, как ее убили. Она пошла за хлебом. Когда налетели «юнкерсы», люди стояли вдоль каменной стены Греческого переулка. Продавщица ушла в убежище, но люди остались до отбоя на улице – слишком долго они ждали, пока привезут хлеб. Никто не хотел терять очереди.
Немецкий летчик дважды прошел на бреющем. Люди прижались к забору. Тень от него едва прикрывала их. В третий заход летчик нажал на гашетку…
Когда продавщица открыла зеленый ставень, люди лежали строго по порядку. Тетя Ганка лежала первой, протянув руку к окошку. На бледной ладони четко было написано чернильным послюнявленным карандашом «8». Первые, вероятно, не были на перекличке, и тетя Ганка радовалась, что ей достанутся и круглые булочки из желтой кукурузной муки, не только черный хлеб.
Тетя Лиза писала о себе, что ее спас случай – она вернулась с полдороги, вспомнила, что не погасила примус.
В этот же день, часов в пять, разбомбили и наш дом.
К вечеру он догорел.
Вещи, оставшиеся после огня, перенесли в сарай. Тете помогали Костя и Зина.
У обгоревшей акации Костя нашел маленький кинжал в серебряной оправе…
Следующая страница была написана на листке из большой бухгалтерской книги.
10 октября (ночь).
Мы с Тобиком перешли к тете Бориса. У меня еще несколько суток свободных. Наш катер чинят. Пробоина большая. Дней на пять. Тетя Лиза все плачет, рассказывает мне, как бомбой разнесло дом Сторчинских. Боря ничего еще не знает. Я не пошел смотреть развалины. Утром – опять налет. Тобик стал выть до сирены – ученый пес, он научился различать немецкие самолеты от наших. Перед налетом он волнуется и тащит меня в убежище за штаны, сердится, если я сопротивляюсь. Надо найти Бориса. Он не отвечает на письма. Лена в Куйбышеве.
Я слушал рассказ тети Лизы о детстве Бориса. И понемногу стали прорисовываться картины и звуки и запахи моего детства. Странно. Я впервые вспомнил то, что никогда не вспоминал, что будто само жило во мне, но я страшусь лжи моей памяти: а что, если этого не было, если картины эти навеяны чужими воспоминаниями и запали в душу вечерами, когда мама перед сном любила рассказывать мне вместо сказок живые истории своей юности, своего детства? Но воспоминания окружили меня, я почувствовал непонятное волнение, предвкушение чего-то… Я знаю, что в таких случаях образы действуют так же, как (по рассказам) действует опиум. Бороться с этим безнадежно.
Я выпил стакан козьего молока и, пожелав тете Лизе приятных сновидений, пошел в сарай, доверху набитый душистым сеном. Закутавшись в украинское рядно, долго слушал, как кричит сонный петух. Светлел от луны двор, белый, словно его присыпали мукой. Затрещали цикады в саду. Постепенно все более дурманяще пахла трава, еще не ставшая сеном, но уже не живая.
Тобик заскулил во сне. Я лежал наверху, почти у потолка. Он умостился внизу, разгребая зачем-то сено, почти на земле. Интересно, что ему снится? Когда-нибудь наука будет расшифровывать наши сны, а может быть, и видеть.
Мне не спалось. Я думал о маме.
Труднее всего забыть о ней. Никогда не смогу забыть ее.
Я отложил дневник Саши и постарался вспомнить его мать. Она была рослая, сильная и красивая украинка. Хотя я был ребенком, мне всегда почти стыдно было смотреть в ее глаза – они были мерцающе красивы, всегда хотелось скорее отвести взгляд, казалось, что-то нехорошее было в том, что мне нравится смотреть на нее. Она знала это и нарочно смотрела на меня и смеялась, теребя мой чуб.
Жили они бедно. Саша ходил в застиранной рубашке, коротких брюках – рос он быстро, а купить новое не было средств.
Тетя Ганка носила девичью фамилию, и Сашу записала в школу под своей. Отец оставил их давно. Он жил в Москве. Был большим начальником, «винным царем». Мой отец встречался с ним по делам службы и говорил, что это очень заносчивый красавец с седыми висками и военной выправкой. Мы его никогда не видели в Анапе.
Тетя Ганка работала в детском санатории военного округа под смешным названием «СКВО». Саша говорил, что там живут дети индейцев, потому что «скво» по-индейски – «женщина». Забор был большой, беленный известкой. За ним действительно слышались крики и кличи, в воздух взлетали стрелы, но дети не показывались. «У них карантин», – сказала тетя Ганка. Их не выпускали из-за высоких белых стен, и мы, помню, почти поверили в их индейское происхождение. А непонятное слово «карантин» звучало как имя.
О, как мы смеялись, когда увидели маленьких человечков в белых панамках, с горном, когда их наконец выпустили на пляж! Но тогда и нам-то было немногим больше восьми.
Тетя Ганка была санитарка: мыла полы, носила горшки, убирала в палатах.
Саша ходил с судками за обедом и стоял в очереди под солнцем к окошку, откуда хорошо пахло и несло жаром. Я ходил за компанию.
Однажды Саша плашмя упал на камни и разлил суп. Его очень ругали прохожие, которых он облил горячим супом, но потом перестали ругать и долго суетились вокруг него – оказывается, у Саши был обморок. Какая-то женщина купила три стакана сельтерской и поливала голову Саши. Она так растерялась, что на вопрос продавщицы: «С сиропом?» – ответила утвердительно, и Сашина физиономия стала липко розовой, и над ним долго вилась оса, пока мы отсиживались в тени Турецких ворот на старой пушке.
Будучи уже старшеклассником, Саша дважды падал в обморок; он рос стремительно и у него часто шла носом кровь. Тогда он задирал голову к небу и стоял так или лежал на спине и рассказывал мне что-нибудь интересное – он уже привык к этой своей болезни.
Однажды, уже в девятом классе, Саша увидел своего отца. Случилось это так. Саша нередко обедал у нас. Мы учили уроки, и моя мама, чтобы не смущать Сашу, каждый раз как бы спохватывалась: «Боже мой! Да мне же пора на педсовет! Быстро! Собирайте со стола книги! Накормлю вас и пойду…» Она была очень находчива, и Саша никогда не успевал удрать, только смущенно хлопал своими длинными ресницами.
Однажды во время обеда мама встала и непривычно дрожащим голосом сказала: «Саша, прости, а если бы сейчас вошел твой отец? Что бы ты сделал?» Саша положил ложку и побледнел. Незадолго до того, вечером, мама говорила, что я еще ничего не понимаю; что тетя Ганка, хотя и добрая женщина-труженица, неправа, с детства воспитывая ненависть к отцу у Саши; что Саша когда-нибудь разберется в семейной драме; что это не мое дело, что там произошло, посторонним в это лезть нечего, а Саше гораздо легче, если он наладит отношения с отцом, так как Александр Янович без памяти любит Сашу и страдает, не видя его. Когда мама спросила Сашу, что он сделает, Саша вспыхнул и сказал: «Я повернусь и уйду!»
Но он не повернулся и не ушел. Я долго буду помнить тот вечер, когда мы сидели вместе – я, мама, папа, Александр Янович и Саша. А когда Саша и его отец ушли, мама долго растроганно всхлипывала и повторяла: «Ой, как же я боялась, что он встанет и уйдет!» – а отец сопел носом и отводил свои добрые глаза.
С тех пор Саша, продолжая быть очень нежным и заботливым с матерью, нетерпеливо ждал каждого приезда отца. Он гордился отцом, любил его и весь светился, когда мама говорила ему нарочно обыденным голосом: «Саша, приходи сегодня к пяти, Александр Янович звонил на завод – будет». Отец Саши приезжал на машине. Это был черный блестящий «линкольн» с металлической гончей на капоте. Обыкновенно мы все садились в машину и уезжали по живописной дороге в ущелье против острова Утриш.
12 октября.
Когда я вспоминаю маму, мне хочется запоздало просить у нее прощения за обман, которого она не заслужила. Я думал, что та поездка в ущелье открыла ей глаза на наши встречи с отцом.
Это было осенью, во время сбора винограда. Садилось солнце, мы возвращались домой. Дул легкий ветерок. Отец дал мне руль, и я, задыхаясь от счастья и благодарности, любил в те минуты все: и убегающие с двух сторон виноградники, и запах «изабеллы», пряный и сладковатый, – им был пропитан весь воздух до розовато-фиолетового горизонта; любил дорогу, бегущую мне навстречу, мягко, как во сне, покачивающиеся рессоры, мерное рокотание мотора и руку отца, большую и спокойную, у меня на плече, и его доверие ко мне, и наши разговоры на берегу о моем будущем, и хохот Бориса и его отца с заднего сиденья, и песню, от которой щекотало в груди, вольную песню моих предков, которую вдруг затянули на два голоса отец и мать Бориса:
Ой, у поли дви тополи…
Отец подхватил ее тенором, и она поплыла над широкими просторами, а машина летела по прямой бесконечной дороге. У въезда в город отец взял у меня руль.
Замелькали хатки Алексеевского хутора, сады, сине-сиреневые от обилия слив. Мы нагнали группу женщин, идущих с виноградников. Впереди них, чуть поодаль, ослики несли покачивающиеся корзины с черной «изабеллой». И тут я с ужасом и стыдом, опередившим нахлынувшую потом боль, увидел среди усталых, запыленных женщин… маму. Она шла босиком, в подоткнутой юбке, низко повязанная платком, немного отстав от остальной группы. Она хромала. Плечи ее ссутулились, она казалась старой и в нищенской своей рабочей одежде была совсем жалкой и одинокой. Мы обогнали ее, обдав тучей пыли, она посторонилась и глянула из-под платка отрешенно и равнодушно… Она видела меня!
Вечером я плакал и целовал ее грубые руки со сломанными ногтями. Она подняла меня с колен, вздохнула и сказала: «Я очень устала, сынку. Ложись и ты. Зачем убиваться? Так и должно быть». И уже ночью сказала, зная, что я не сплю: «Спи, Сашенька, спи.
Я давно знаю, что с ним видишься».
После этого мне стало труднее с отцом. Блеск «линкольна» казался мне стыдным, как будто я отражался в нем голый, а рука, лежавшая на моем плече, давила на сердце. Мне хотелось припасть к ней щекой, как тогда, в первый день, но я знал, что больше уже не будет такого чувства радости и полета, доверия, покоя и счастья. Рука отца была слишком холеной. Не такая она была у мамы. Он не был ни в чем виноват, это я понимал. Но что я мог с собой поделать!
БРАНЯТСЯ И МИРЯТСЯ
Мне было лет пять, когда мы жили в Теберде. Это на Кавказе, в горах. Теберда тогда не значилась в знаменитых курортах. Несколько домиков среди лесистых гор, и все. Отец мой был каким-то дорожным начальником, и, так как он всюду возил нас с мамой за собой, он поселил нас в одном из деревянных двухэтажных домов с балконом. У дома протекал горный ручей, и, засыпая, я любил слушать его шепот. Ночами с гор спускались шакалы, они будили меня и маму. Сначала было жутко, хотя папа и не велел нам пугаться, так как шакалы трусливые, – это во-первых, и не могут залезть на верхний этаж, где спальня, – во-вторых. Но я был все-таки маленьким – это во-первых, и вокруг на тысячу километров были леса и горы – во-вторых. Так что маме эти концерты по ночам тоже не нравились. Иногда папа ночевал дома, а не ездил в командировки. Тогда он брал ружье и выходил на балкон. Он всегда почему-то радовался и говорил весело: «Заверни Борю в одеяло и вынеси на балкон. Пусть посмотрит, какие у них глаза зеленые. Это красивое зрелище». Папа стрелял с балкона. И шакалы, подвывая потише, удалялись. Иногда они приходили снова, и я сквозь сон слышал, как папа радовался «красивому зрелищу» и стрелял в небо, которое начиналось где-то высоко и неизвестно где заканчивалось – такие высокие были вокруг горы.
Днем я играл вокруг дачи с собаками, похожими на лисиц. Они были маленькие, лохматые и худые. Стрелял из лука, лазал по деревьям и дрался с Гаджибеком, сыном хозяина дома. Гаджибек был очень ловкий и хитрый. Он любил притворяться мертвым, и меня это каждый раз пугало. Когда я трогал его, он не шевелился, а рот с острыми маленькими зубами оставался открытым. Мороз пробегал у меня по коже, и я начинал кричать, звать взрослых: «Гаджибек умер!» Прибегала его мать, вся в черных платках, и давала ему пинка. Гаджибек вскакивал и бежал в лес, а мать бросала ему вслед суковатую палку, которая всегда была у нее под рукой. Потом она успокаивалась и просила меня поднять палку, я подымал палку и приносил ей. И вот однажды, в поисках палки, улетевшей на этот раз особенно далеко, я забрел в густой орешник и увидел отца, который сидел на пеньке у маминых ног и грыз веточку. Мама говорила:
– Нет, нет, я ухожу, ты измучил меня…
И она заплакала, а папа засмеялся и сказал, что никуда она не уйдет и что он самый счастливый человек на земле. И еще что-то такое…
Я обомлел и стоял не двигаясь.
Потом папа встал и обнял маму, которая продолжала плакать, а она говорила, что он ее не любит. Потом мама вдруг стала смеяться. Мне стало тоже смешно, и я выскочил из засады с криком:
– Сдавайтесь, бледнолицые!
Они были очень рады мне, и мама, поправляя прическу, сказала:
– Какой ты умница, нашел нас, а мы от тебя спрятались.
Я это вспоминаю потому, что когда ссорятся взрослые, дети все равно не могут им помочь. Они плачут и смеются почти одновременно, эти взрослые, и в их словах и поступках нет никакой логики.
Папа приехал однажды из Владикавказа и привез мне черкесский костюм с настоящими посеребренными газырями, бешметом, красными сапожками и кинжалом (его потом и нашел на анапском нашем пепелище Костя-грек).
Мама Гаджибека велела мне тотчас же его надеть и восхищалась красотой дорогого подарка:
– Вот как он любит своего ребенка! Ничего не жалеет.
А мама сказала так:
– Иногда дорогие подарки означают чувство вины…
– Перестань, – сказал папа, – начинается…
Мне никогда не удавалось понять, что это «начиналось».
Мне повезло, я не знал злобы и вражды в семье. Но что и в благополучных семьях есть свои тайны и противоречия, я узнал не сразу.
Судя по дневнику, Саша болезненно и рано открыл для себя то, что для меня всегда было чем-то отвлеченным – ненависть, опустошающую ненависть людей друг к другу.
13 октября.
«Они не ровня друг другу» – так говорят люди. И самое страшное, что это так и есть. Они, наверное, никогда не понимали друг друга. Но что же связало их? Значит, они любили друг друга? Любовь умирает? Это противоестественно!
А может быть, та боль, которая всегда жила во мне, оттого что я не видел мать и отца вместе; та боль, что усилилась, когда я нашел отца и должен был любить их отдельно раздражительной, взаимно ревнивой любовью, – может быть, именно это и тянуло меня к Лене?
Ее я мог любить отдельно и целиком. Но и тут появился Борис… То есть, может быть, появился я, а он уже был? Мне всегда суждено любить соединяя, разъединяя, становясь на сторону тех, кто хочет любить меня, не любя того, кого я люблю… Это какой-то ужас!
Любовь не умирает, нет, она все время превращается в счастье других – вот что я думаю.
Отец счастлив – это было хорошо. Борис был счастлив – хорошо. Лена была счастлива – хорошо.
Мама уже не может быть счастливой… И несчастливой не может. Ее нет.
Я думаю о маме. И я думаю не только о ней. Я думаю об искусстве. Искусство, по-моему, и есть любовь.
То, чего никогда нельзя делить. Нельзя любить музыку и не любить моря, щенка, траву или любить Лену и не любить Бориса…
Когда те, кого я люблю, не любят друг друга, расщепляется мир. Мама говорила, что ей хочется умереть, видя, что я ее предал. Она так и сказала однажды, имея в виду отца. Потом она целовала меня, просила прощения, но ночью лежала с полотенцем, намоченным в уксусе, и громко стонала.
Она говорила жестокие, несправедливые слова, но я знал, что ничего поправить нельзя. Она любила меня. И я знал, что если бы я как-то проговорился, выдал себя насчет Лены, она бы этого не перенесла.
Она ревновала меня даже к Борису, которого, в общем, не могла не любить. Она со всем миром была в нервно-натянутых отношениях. Все, кто нравился мне немножко больше нормы, тотчас становились ее смертельными врагами. Внешне, чтобы не причинять ей горя, я научился быть ледяным и скрытным, но в душе у меня что-то рвалось навстречу всему живому, в каждом я хотел и мог видеть хорошее.
У каждого человека (без исключения!) есть хорошие и дурные качества. Как же может быть, чтобы, любя человека и видя хорошее в нем, начать видеть только дурное после того, как вы расстались с ним? Это значит, что любви-то никакой и не было. Как бы ни сложилась жизнь, любовь – это мое достояние. Никто не может изменить того, что я чувствую. Никому не по силам заставить меня любить или не любить.
Любить – это значит не делить мир, а объединять.
Я думаю над этими словами.
Я вспоминаю, как Лена прислала мне фотографию, где мы сняты с Сашей. Лена писала, что после смерти Саши, которая разорвала нашу связь с ним, фотография эта навсегда соединит «наше прошлое». Она имела в виду и себя.
Мы не ссорились с Леной. Просто наши пути разошлись. Взрослые ссорятся по-разному. Иные живут рядом и мучают друг друга. Иногда потому, что любят… Иногда же, как случилось у нас с Леной, люди расходятся, не успев узнать друг друга.
А может, это юность прошла мимо, не успев узнать себя?
САШИНА ПОВЕСТЬ
14 октября.
Вчера один человек в порту сказал, что наш катер реквизируется воинскими частями. Бои уже идут в Крыму. В Керчи – скопление наших войск. Неужели будет эвакуация? Был сегодня в военкомате. Военком сказал, что я ему надоел, но он что-нибудь придумает. Я сказал ему, что уже четыре месяца хожу на катере и ничего с моим туберкулезом не происходит. Он задумался и добавил к обычному обещанию «что-нибудь придумать», новое: «Возможно, ты мне завтра понадобишься».
(Без даты).
Не писал дневник. Простудился в норд-ост, болел. Кашель замучил. Начал обдумывать повесть о детстве.
С чего бы начать? Все-таки, наверное, с начала войны… Начну я с главного: как мы с Борей пошли в военкомат. На Кубанской нам встретился Васька Губан, какой-то надутый, выглаженный, с рыжим ежиком. («И вы уже „под нулевку“!») Но мы были не первые. Там у закрытых дверей сидело человек двадцать.
«Вы что, с вечера?» – спросил Васька.
Мы сели рядом на травку, нервно зевали, смотрели на прохожих. Как-то сразу мы почувствовали себя отделенными от них. Они – люди штатские. У меня что-то прыгало и подпрыгивало в душе: было радостно. Мы говорили громко, возбужденно. Всем, до сих пор помню, хотелось что-то сделать, как-то начать свою службу поскорее. Наконец показался Капустин, начальник третьей части. Он был в форме, как всегда ловко пригнанной на его, как говорится, ладной фигуре. Я подумал, что портупея пошла бы и мне. Только плечи у меня узкие, наверно, съезжать будет с плеча. Капустин, увидев нас, подходил медленнее, и брови его почему-то нахмурились.
Мы встали. Поздоровались. А Васька подлец такой! – подождал, пока мы нестройным хором прокричали свое штатское «Здрасти», и в наступившей тишине четко произнес: «Здравия желаю, товарищ начальник третьей части!» Мы все повернули голову в его сторону. а какой-то мальчик даже открыл рот от удивления. Капустин строго сказал, глядя на Ваську:
«Ты будешь старшим. Пускать по одному. И чтоб тихо».
В кабинете Капустина я был после Бори, пропустил его вперед.
Он вышел красный, сияющий, с капельками пота над верхней губой. Я ничего не мог от него добиться, он только блаженно улыбался.
У меня все получилось не так. Капустин знал меня, и про портупею я уже не думал. Он пощупал мои бицепсы двумя пальцами, и, хотя я напряг их что было силы, они даже не раздвинули его прокуренных пальцев – большого и указательного. Капустин похлопал меня по спине, вздохнул сочувственно. Он знал нашу семью, а с отцом дружил. По глазам его я понял, что дела мои плохие, а хотел Капустин мне помочь. Он сказал: «Вот ты, малый, грамотный, даже очень. И с дисциплинкой в порядке. Что же ты с физической подготовкой… хромаешь, а?»
– Товарищ… – Я боялся, что голос мой дрогнет, и проглотил слюну.
«Иди, братец. Я подумаю. – Он улыбнулся. – Я тебя понимаю. И знаю, что ты не подведешь. Подумаем, как быть».
Я вышел и все время гладил колючий ежик. Поторопился я со стрижкой. Все уедут на фронт, будут бить немцев, гнать их до Берлина, а я…
Потом мы почему-то ходили в подвал, где собираются рыбаки, катались на ялике с Костей Челикиди. Я все время думал о том, какой счастливый Боря, как ему повезло. И как мы расстанемся. Мы ведь всегда были вместе.
Повесть я начну с этого дня. А потом я хочу написать о своем отце. Как он воевал в гражданскую. Как он дружил с Мате Залка и с одним французом-моряком. Папа говорил: «Мы – интернационалисты…» И я думаю, что надо начать с этого. Ведь в эту войну победят многие народы, если пойдут за нами, интернационалистами. Немцы говорят, что они – раса господ. Я сам это слышал по приемнику. Гитлер вопит как сумасшедший, что Германия превыше всего… А Борис думает, все дело в том, что в Германии нет Тельмана. Это верно, что коммунистов осталось мало. Но важно и то, что Гитлер немцев поймал на крючок шовинизма: мы, мол, самые умные, культурные, самые… самые…
Труднее всего нарисовать Борю. Я его люблю – это раз. Он всякий – это два. Всякий потому, что все понимает, но как-то не хочет думать сам. Понимает, как будто догадывается. А надо знать, рассуждать. Про интернационализм у него путаница какая-то. Боря все смешное помнит и в лицах умеет представить, но не хочет задуматься над тем, что наш интернационализм начинается с малого, с самого детства: мы все одинаковые. Мы все одна семья.
Вот рассказы Бори о Гаджибеке, Манушак, про осетина Ваню, шофера его отца… Я так и вижу все. Только надо про это написать в повести так, чтобы стало понятно: 1) почему Боря вырос интернационалистом и 2) почему мы еще больше любим свою общую Родину, где нас научили уважать разные нации.








