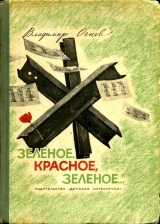
Текст книги "Зелёное, красное, зелёное... (Повесть)"
Автор книги: Владимир Огнев
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
СМЕРТЬ КОСТИ ЧЕЛИКИДИ
Май, 1942.
Перечитал дневник, и многое уже кажется наивным.
Как я жил эти четыре месяца?
Мне нужно все ввести в берега. Иначе я не умею. Главное – это понять, что руководит мною в жизни. Все туманное, просто сомневающееся, неопределенное пугает меня, как болезнь. Со мной что-то такое началось с сомнения в своем чувстве к Лене. Я несколько раз собирался замолчать, чтобы не длить этот обман, хотя и невольный. Дело в том, что мы ведь об этом не говорили прямо. Лена старается изо всех сил показать, что я ей дорог, будто боясь, чтобы моя надежда на взаимность не была разбита. Она думает, что обман дарит мне жизнь, помогает мне воевать. А мне стыдно принимать такие жертвы, и не нужны они мне. Но как сказать такое! Лене кажется, что она нужна, она не сомневается в этом, а тут такой поворот… И проще всего было бы без объяснений прервать переписку. Пусть думает, что хочет. Но мне ее жаль; в любом случае, это жестоко. А потом, я нужен ей как посредник между нею и Борисом. Ей не с кем говорить о нем. И я решил перейти на одну тему – мы теперь говорим лишь о Борисе. Постепенно он, вероятно, может получить пухлый том воспоминаний о себе. Ну что ж, он заслуживает того!
А тут еще это приглашение. Николай Николаевич, узнав о том, что у меня обострился туберкулез, не без подсказки Лены, разумеется, пригласил меня в Куйбышев. Он уверяет меня, что я смог бы сдать экзамены в Военно-инженерную академию. Сначала я решительно отверг такой вариант, как постыдное использование связей. Но написал, конечно, не так, а сослался на то, что математика была всегда моим слабым местом, но что я подумаю. Вскоре я действительно стал думать, но не об учебе, а о том, что мне, может, удастся оттуда удрать на фронт. В Анапе, где меня «наизусть знали» все врачи и где диагноз никак нельзя было опровергнуть, такая возможность начисто исключалась.
До марта я слонялся по берегу, ждал случайных рейсов. Наши атаковали немецкие позиции, но ходили слухи – безуспешно. Театр военных действий отодвинулся сравнительно далеко от Анапы. Ак-Монай теперь упоминался довольно долго.
Дули ветры, шел мокрый снег, мы с тетей Лизой переломали на дрова все, что было можно. Тогда все что-то ломали.
В тылу удручало состояние какой-то временности, жизни вне быта. Судьбы людей не решались месяцами и годами. Они, увы, решались часами.
В течение двух часов, пока я, расставшись с Костей, искал флягу, неизвестно куда запропастившуюся, чтобы взять ее с собой (мы с Костей собирались пойти в Супсех, в горы, за дровами), он попал под бомбежку в районе порта и уже истекал кровью в госпитале, когда я нашел его.
«Что там, – спросил Костя, кивнув на флягу, – керосин?» Это была его острота, и я криво улыбнулся. Он тяжело и неровно дышал. «Что передать дедушке?» – спросил Костя. И это тоже была острота, но уже мрачная. Он изо всех сил старался острить, бедняга. А что ему оставалось?
У Кости была синева под глазами. Он морщился и держал руки над горой бинтов на животе. Скоро меня вывели.
Хоронили его без меня, так как на следующий день Гриша зашел за мной и велел собираться в дорогу. Военком вручил мне конверт с сургучной печатью. Я ехал в Куйбышев, в распоряжение начальника академии. Сборы были недолги. Тетя Лиза обняла меня, заливаясь слезами, и протянула оловянную ложку, видавшую виды, с сильными вмятинами от зубов: «Дедушка наш… на турков еще… смотри не потеряй, вернешь мне». Она улыбнулась сквозь слезы.
Я пошел прощаться с городом. Сначала я зашел к Челикиди. Тело его уже забрали домой для прощания и похорон. На покосившейся калитке все так же было написано черной краской: «Не устучи – закурито»… Глупая острота теперь казалась кощунственной. Во дворике толпились незнакомые мне люди. Дверь в комнату, несмотря на резкий ветер, была открыта. Под низким потолком клубился табачный дым.
Зина молча обняла меня. Она не плакала, а только все смотрела удивленными выпуклыми глазами на худое тело мужа под белой простыней. На углу простыни стоял штамп: «Детский костно-туберкулезный санаторий имени…». Дальше краска была размазана. На стене висели фотографии в общей рамочке: Костя с веселой улыбкой, дурачась, обнимает Зину на фоне «выварки», чана, в котором кипятится белье, а Зина с такими же, как сейчас, удивленно-выпученными глазами смотрит, не мигая, в фотоаппарат. Потом Костя, до пояса голый, волосатый сидит верхом на каменной плите, и в руке его молоток. Сколько он сделал этих памятников! А кто ему сделает? Напряженно и строго смотрят на нас с фотографии отец и мать Зины, приехавшие в гости из Витязево. Они сидят рядом, сложив руки на коленях, чисто одетые и важные. Все это снимал Борис. А рядом на стене плакат Корецкого: «А ты что сделал для фронта?» Палец бойца указывает на Костю, а он укрылся простыней, будто ему стыдно, что он так ничего и не сделал путного.
Я вышел, закрыл калитку, потом, подумав, достал перочинный ножик и соскоблил дурацкую надпись.
У маяка ветер нес какой-то мусор. На деревянной вышке дежурил матрос. По морю шли свинцовые волны. Я постоял, посмотрел на море в том направлении, в котором что-то выискивал матрос в свой бинокль, и пошел домой, собираться.
ЛЕГКИЕ СНЫ
Апрель 1942. Куйбышев.
Гриша отвез меня на мотоцикле в Тоннельную. Там, на горе, было ветрено и холодно. Цементный завод был разбит. Темнело. Мы прошли путями, трижды перелезая под вагонами и через открытые тамбуры. Подошел поезд из Новороссийска. На перроне было несколько человек. Мы обнялись. Гриша хлопнул меня по спине своей тяжелой лапой и сказал: «Ты, Александр, не сердись на меня. Лена просила меня проделать эту операцию». Он развел ручищами. Я понял, что приказ военкома был спровоцирован письмом из Куйбышева, а Грише поручалось довести операцию до конца. Что я теперь мог ему сказать!
Я сел в вагон. Поезд тронулся. Тьма двинулась назад. Огней не было.
Прошел проводник, проверяя шторы. Напротив меня сидел офицер и курил. Потом, в Крымской, сели две женщины в ватниках. Они втащили корзинки, из которых вкусно пахло. Меня начало мутить. Я вспомнил, что ничего не ел с утра. Женщины ехали в госпиталь, к мужьям. Я пересел в другое купе. Тут дуло из темного окна, оно было неисправно. Тогда я лег прямо на пол, положив вещмешок под голову, и сразу заснул.
Я пересаживался дважды: в Краснодаре и Тихорецкой. До Сталинграда ехал с воинским эшелоном, приютившись на открытой платформе, возле ящиков, покрытых брезентом. Лейтенант проверил документы и разрешил остаться. Но в Котельникове меня почему-то высадили и отвели в комендатуру. Пока я ругался со стражей (комендант ходил ужинать), эшелон ушел. Следующий поезд ожидался завтра. На Сталинград шел товарняк, но я и так закоченел на платформе, меня в тепле сморило, и я ни о чем не хотел думать – сел спиной к еле теплой железной печке возле входа в комендатуру в проходном зале и задремал. Меня разбудили, снова проверяли документы, выставили в общий зал. Я считался не военный, несмотря на морскую шинель и мичманскую фуражку. В зале было накурено, но холодно. Ларек, где я мог получить по продаттестату, был уже закрыт. Я дожевал остаток сухаря, запил его кипятком из прикованной цепью кружки, пахнувшей селедкой, и терпеливо устроился между телами на каменном полу.
Делается это просто: втискиваешься между двумя пахнущими сыростью грязными шинелями, сначала боком, а потом расталкиваешь их в стороны. Они, эти шинели, вздыхают, ворчат, но непременно раздвигаются, так чтобы твои колени вошли в расстояние между скрюченными телами на холодном полу. Всякий уважающий себя солдат должен поворчать или выругаться, но опыт показывает, что самое глупое – обращать на это внимание. Ведь и тот, кто ругается, знает, что чем больше солдат уместится в практически бесконечном пространстве холодных полов России, тем теплее будет ему же самому.
Когда человек долго голодает, ему снятся легкие сны. Мне немало приходилось голодать, и скажу определенно, что в таком состоянии сны ничего не весят. Или тебе кажется, что ты сам летаешь или летают другие, а ты их ловишь, как шарики, они извиваются и тут же лопаются. А то может присниться, что ты – птица и тебя хотят накормить щами. Торчит грудинка с легким беловатым хрящиком, а ты никак не можешь приладить клюв, он не открывается широко… На голодный желудок могут присниться и не такие вещи, но главное – не просыпаться, так как, проснувшись среди ночи, чтоб почесать поясницу или снять чужой кирзовый сапог с переносицы, ты уже не будешь чувствовать привычной легкости.
Утром меня растолкали, чтобы спросить, не лежу ли я на чьем-то мешке, но оказалось, что на моем мешке – мои инициалы. Я снова заснул. Но потом все стали подыматься, встал с пола и я: холод тоже не тетка.
И странно, почувствовал себя очень бодрым и отдохнувшим. Отсюда я сделал тот вывод, что главное – не условия отдыха, а сам отдых.
Все куда-то заторопились, побежал и я. На втором пути гудел паровоз. Эшелон тронулся. Я догнал высокий вагон с открытым верхом – коупер. По железной лесенке, уже на ходу, забрался наверх. Коупер – это вроде самосвала – резервуар доверху наполнен головками от снарядов. Они лежали плотно – смерзлись. Поначалу, сгоряча, я не почувствовал холода, но вскоре мне стало несладко: я не успел поесть, где-то потерял варежки, отсыревшие за ночь портянки холодили ноги так, что боль стала подыматься до колен. Сидеть на ледяных снарядах было невозможно, а стоять трудно – поезд шел все быстрее, ветер резал лицо, приходилось почти лежать, чтобы укрыться за бортом. Но состав уже вплывал между черными пакгаузами. Скрежет, толчок, дальше и дальше к хвосту поезда прошла эта судорога – и вагоны стали.
Это была Сарепта. Светило солнце, шел мокрый снег, казалось, прямо с синего неба. Я скорее сполз, чем слез с коупера. С трудом разгибая ноги, шел через бесконечные спутанные пути, блестевшие, мокрые и скользкие.
На станции я пил кипяток из котелка и оттаивал. Мне показалось, что я даже опьянел. Потом стоял в длинной очереди солдат за пайком. Поев, долго сидел на солнце, прижавшись к стене пакгауза. Снег не шел. В лужах отражалось солнце. На сухом пятачке рядом с коновязью пронзительно кричали воробьи. Время от времени из широких дверей склада выходили солдаты с тушами под мышкой и грузили их на телегу. Ноги, мосластые, синие и сморщенные – кажется, это была конина, – торчали из-под брезента. Из пакгауза доносилась ругань, – «не выходил вес», перевешивать солдатам не хотелось.
Телега уехала; вышел весовщик с большим рыжим замком в форме сердца, стал запирать дверь.
Спал я в жарко натопленной школе. Портянки дымились на спинке стула против открытой двери голландки, где по-кошачьи мурлыкал огонь. Мне очень повезло: какая-то женщина окликнула меня, когда я медленно брел по улице. Я наколол ей дров, принес два ведра воды от колонки и отказался от платы. Я спросил, нельзя ли мне где-нибудь обогреться и посушиться. Она привела меня в школу, где теперь было общежитие. Ряды коек стояли тесно, но никого не было. Ждали ополчение, чтоб рыть окопы, объяснила женщина. Она оказалась учительницей. Жила рядом, муж был призван. Я посмотрел на ее большой живот, туго перевязанный серым пушистым платком, на ее добрые, печальные глаза и красные руки и ничего не сказал. Жара разморила меня, глаза слипались. Женщина вздохнула и предложила мне переночевать, а завтра ехать в Сталинград. Я так и сделал.
Спал я часов восемнадцать кряду – сам удивился. Машина гудела во дворе. Я наскоро намотал портянки, накинул шинель и выбежал во двор. Меня взяли до Сталинграда, но велели тотчас ехать, и я не успел поблагодарить учительницу. Больше я ее не видел никогда, но почему-то хорошо помню, как она смотрела на меня, сложив руки на большом животе. Это была жалость, участие и любопытство вместе. Мне кажется, она была очень одинока. А может, я ошибся, мне часто на войне хотелось фантазировать, когда я так, мимоходом, знакомился с людьми и расставался, не успев попрощаться.
Столько людей прошло через меня, через глаза, память, душу!.. И все что-то оставили там, какую-то капельку тревоги, чужой судьбы или хотя бы жест, позу, нерасшифрованный взгляд, недоговоренную фразу, невыплаканную слезу, затаенное желание тепла, застенчивость доброты, которую люди оберегали от наглости и непонимания.
САША ВСТРЕЧАЕТ ЛЕНУ
На пристани Сталинграда было море голов. Я скис. Трудно было представить, что когда-нибудь и до меня дойдет очередь. Гудели пароходы. Кричали и в разные стороны бежали мешочники. Слышалась непривычная для меня окающая речь. Но когда я все-таки протолкался к кассам, оказалось, что все они закрыты, и люди неделями ждут парохода на Камышин, Саратов, Куйбышев. Я подошел к воинской кассе, когда оттуда выходил кассир. Я спросил его, показав пакет, когда смогу рассчитывать на проезд в академию. Он спросил: «Один?» Я ответил утвердительно. Он вернулся в кассу и, открыв форточку, протянул мне билет. В следующую секунду меня чуть не разорвала толпа офицеров, которые сидели на скамьях и ночевали здесь, видимо, не одну ночь. До сих пор не понимаю, как это мне повезло. Пароход уже готовился отдать сходни, когда я, забросив мешок, взбежал по дрожащему трапу на палубу.
Пароход пятился и гудел, будто оправдывался за меня перед многотысячной толпой, покрывшей склон спуска и деревянные дебаркадеры. Я стоял на палубе, вдыхая свежий, пахнущий рекой ветер. Речная вода пахнет иначе, чем морская, – сырым бельем. Волга была свинцово-белесой и просторной. Даже после моря она производила впечатление величавости. Может быть, потому, что берега ее низки, горизонт казался бескрайним. Белые облачка плыли высоко и спокойно. Палуба мелко дрожала, плицы подымали пену вдоль бортов, мелкая водяная пыль светилась радугой на скупо проглянувшем солнце.
Вечером меня поразили огни деревень: сюда не доходила война. Смех, возбуждение людей, сумевших попасть на пароход, постепенно сменились озабоченностью. Кто-то слышал радио в каюте и вышел сказать, что на Украине появились новые названия: Балаклея, Купянск, Лозовая… Я знал, что это означает: немцы рвались южнее Воронежа. Сообщения о наших атаках в Крыму прекратились, и это тоже не сулило ничего хорошего.
Пошел мелкий злой дождик. Волгу затянуло туманом. Я спустился в трюм, где было темно, душно и пахло потом и разогретым металлом. Сон был тяжелым.
Я проснулся перед рассветом. Дождь лил не переставая. На палубе было пустынно и мокро. «Ах боже мой!» – выдохнул кто-то рядом со мной, Мужчина, которого я не заметил, стоял возле двери, нахохлившийся, седой, густобровый. Вода струилась по его лицу, но он не вытирал ее. «Ах боже мой!..» – еще раз сказал он и ушел в каюту.
Как странно бывает! Он ничего не сказал определенного, но волнение охватило меня.
В Куйбышеве никто меня не встретил, как было условлено. С трудом и не сразу нашел я академию. В закрытом окне проходной увидел высокую тулью фуражки с черным околышком и перетянутую ремнем с портупеей новенькую гимнастерку. Строгий чистенький курсант внимательно проверил мои документы и впустил меня во двор, загороженный высоким забором. Я попал на выбитый ногами плац, пересек его и вошел в казарму, заблудился в длинных пустынных коридорах и наконец доложил дежурному по академии о цели приезда. Меня провели в канцелярию и дали адрес Николая Николаевича.
Я застал его за чтением Тацита в старой, уютной квартире, с лепными потолками, камином и мраморными бюстами каких-то римлян с высокими лбами. Он был в белой рубахе, в подтяжках и галифе с лампасами.
Николай Николаевич близоруко щурился и улыбался, поблескивая золотым зубом. Он был рад мне. Мы неловко хозяйничали.
Лена работала в госпитале, была на дежурстве.
Разогрев вчерашние щи, а потом запив их чаем с вареньем, перешли к делу.
Я честно выложил все, что имел сказать: хочу на фронт, кем угодно. Николай Николаевич не спорил. Я изложил свой план: прохожу комиссию, сдаю экзамены (они мне зачтутся и после войны) и за это время, в течение двух недель, хожу на концерты симфонического оркестра. Потом я подаю рапорт об отчислении на фронт. «Что ж, такие случаи были», – флегматично заметил Николай Николаевич.
Хорошо мне было со стариком! Никаких сложностей. И понимал он как-то все с полуслова. Он не говорил мне о патриотизме, но и не говорил о том, о чем обычно говорят в таких случаях: что надо служить Ро-дине там, где ты принесешь больше пользы, и тому подобное, чтобы утаить главное – там, мол, тебя пуля достанет, а тут ты останешься жить. Я столько слышал таких разговоров!
Но все получилось не так, как мы планировали. В тот же день на медосмотре меня после рентгена попросту выставили за дверь. Обе верхушки легких были поражены. И тут я вдруг, как это уже случалось со мной, страшно испугался, что смогу заразить Николая Николаевича или Лену. (Хорошо, что я сам вымыл посуду!) Я взял справку об отчислении из академии, а точнее, о том, что меня не приняли по состоянию здоровья, и, не заходя на квартиру, где меня наверняка уже ждала Лена, пошел в военкомат.
Так я Лену и не увидел. Я попрощался с ними в письме.
Мне не хочется подробно вспоминать все, что было потом. А было всякое.
Уйдя в тот день из академии, я попросился на квартиру к одной старушке, с которой случайно разговорился на «толкучке», шумном базаре, где в те годы менялось все на все. Я сменял на хлеб и шоколадный лом свою запасную рубаху, а теплый свитер пошел старушке за проживание в течение недели.
С рынка мы ехали долгим трамваем. Домишко ее стоял в тихом переулке. В темной комнатке пахло уксусом. В углу стоял топчанчик, который тут же сломался подо мной. И старушка, поохав, принесла из своей комнатенки пачку книг в твердых переплетах. Это был словарь издания Брокгауза и Ефрона. На словаре топчан держался хорошо.
Старушка – я звал ее тетя Варвара – целыми днями шныряла по всем местам, где что-то «отоваривали» или меняли. Меня удивляла ее активность. Временами казалось, она просто убивала время, создавала иллюзию деятельности на пустом месте, так как меняла она, как говорится, шило на мыло, а тратила массу времени и энергии, весьма дефицитной в ее преклонном возрасте.
Неделя эта прошла в чтении. В комнатушке, куда я получил доступ после двухдневной проверки на «честность», была масса книг, неизвестно кому ранее принадлежавших. Я читал и днем и ночью, благо ночи стояли лунные и можно было видеть буквы, примостившись у окошка. Керосин мы экономили.
Днем я ездил в военкомат на медкомиссии, в райком комсомола, где наконец был записан в добровольческую бригаду.
Вечером обычно я проникал на концерты.
Однажды на концерте Якова Флиера я увидел Лену. Она сидела в партере, и я с галерки хорошо видел ее полупрофиль, так как место у нее было на самом краю полукружием расположенного ряда. На ней было черное платье, очень скромное. Лицо бледное. Руки крепко сжимали поручни кресла. Рядом сидел какой-то чернявый курсант-медик. Он все пытался положить свою руку на Ленину, но она снимала локоть и нервно поводила плечом. Они совсем не разговаривали. Я ушел до перерыва, хотя во втором отделении Флиер должен был играть Шопена.
Я шел пешком довольно долго. Ночь была темная. Дома стояли настороженно, казались живыми. Никогда я не чувствовал себя таким одиноким. Разбередила меня и музыка, конечно. У меня было такое чувство, как будто в мире не осталось ни одного живого человека, как будто все вымерли и остались только Лена и этот чернявенький курсант… Сейчас я пишу, и мне смешно. Уже тогда я знал, что никакого чувства к Лене нет. Но, может быть, человеческая душа так устроена – обидно за себя, за то, что ты одинок, и кто-то же должен быть ответствен за наше одиночество?
Если бы был Борис! Он один понимал меня. Понимал, ничего не говоря, только улыбаясь. Он вовремя начинал дурачиться, вовремя потому, что в самых откровенных местах мы оба одновременно чувствовали, что нельзя перейти какую-то грань. Я до сих пор считаю, что дружба – это вовсе не абсолютная откровенность, которая выгребает до дна остатки наших тайн. Я содрогаюсь при мысли, что Борис мог бы нашептывать мне, например, о своих чувствах к девчонкам, Есть вещи, которые мы понимаем без слов. Говорят, у девчонок это все иначе. Наверное, не у всех. Ту же Лену не могу представить выворачивающейся наизнанку перед какой-нибудь подругой или этим чернявым… Дался он мне, однако! Теперь я буду думать о Борисе. Он воюет там, ничего не подозревая…








