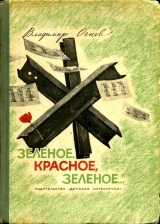
Текст книги "Зелёное, красное, зелёное... (Повесть)"
Автор книги: Владимир Огнев
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
«…В ЗЕЛЕНЫХ ПЛАКАЛИ И ПЕЛИ»
Справедливость жила в Саше сама по себе, не советуясь с ним. Я знал, что, если он в чем-то уверен, его никакая сила не может переубедить.
Помню, как-то раз я рассказал ему о своей поездке на теплоходе в Севастополь. Отец взял нас с мамой в командировку во время каникул. Собрались мы быстро и второпях, и вот оказалось, что билеты достались нам плохие, палубные. Было поздно раздумывать, отец, как всегда, широко махнул рукой: «Что-нибудь придумаем: к капитану пойду».
Надо сказать, я верил в безграничные возможности моего отца. Жили мы по тем временам неплохо, а о разных там комплексах и говорить нечего; рос я веселым, уверенным в том, что все люди равны, все братья, все довольны жизнью, как я сам ею доволен.
И вот случилось так, что на пароходе отец ничего не добился, и мы мерзли на палубе среди таких же палубников, как мы, весь день и всю ночь. Ночью отец провел нас за каким-то матросом на верхнюю палубу, где шло тепло из решетки машинного отделения. Но ветер здесь был еще свирепее. Вскоре нас прогнали, причем довольно грубо и бесцеремонно.
На следующее утро я видел, как из каюты первого класса вышел толстый мальчик в матроске и белых носочках. Он что-то нудел матери, а та сидела в шезлонге и ела шоколадные конфеты, блаженно улыбаясь солнечным лучам. Потом я видел, как, отделенные от нас белой проволочной сеткой, прогуливались хорошо одетые и веселые люди. Один так даже с собакой на поводке. И все они выспались и не зевали, как мы.
Когда я учился в первом классе, я видел на улице умирающего человека, мимо которого все проходили словно виноватые. Он лежал с котомкой, подняв рыжеватую бороденку к синему небу, и дрожал, хотя было тепло.
Человек, умерший от голода? Я долго не мог поверить, что люди могут умереть от голода! И если не было у него еды, почему он не купил ее в магазине? Не было в магазине? Ну, просто попросил бы, как я прошу у мамы, когда проголодаюсь!
А однажды отец, пойдя в сарай за огурцами, поймал там «воришку». Он вел его в дом, а тот кричал хриплым голосом, что он «не вор, а совсем лунатик». Это был страшно худой грек лет девяти, с плутоватыми, кофейного цвета глазами. Звали его Гераклом. Мама, всплакнув, накормила его, а он показывал потом фокусы, смешил всех умением сдвигать глаза к переносице, шевелил ушами и врал, как Мюнхаузен. Он стал моим приятелем, участвовал во многих затеях, но я на всю жизнь запомнил его первое появление у нас, связанное с попыткой кражи не то огурцов, не то арбуза…
Жизнь редко показывала мне свои несладкие стороны. Саша с детства знал то, что проходило мимо меня как бы по касательной.
Рассказ о пароходе очень взволновал его. Неужели ты не понимаешь, говорил он мне, что это был не пароход, а мир? Он все еще несовершенен, и то, что ты почувствовал тогда, это твое рождение как гражданина. Ты, продолжал Саша, носил галстук, потом прикрепил комсомольский значок, ты честен и добр, готов всем поделиться с другими, но ты совсем не знаешь жизни, хотя бы того, что не все желают делиться тем, что у них есть и чего нет у тебя. Мы, а не дядя, не кто-нибудь из нас, должны – всю жизнь, до последнего дня! – бороться за настоящее равенство, против корыстных чувств, против лжи. Ты меряешь землю куцыми мерками! Мы – только начало мира. Не в нас с тобой суть! Мы можем пожить и неуютно, пусть только мы увидим сдвиг, что то, что казалось вечным – корысть, обман, неумение жертвовать собой, – что все это было временными истинами, годными лишь для рабов! А человек ведь не раб! Раба и революция не исправит!
Вот тут-то я его и брал в клещи:
– Так, так, а кто же, по-твоему, делал революцию? Одни Робеспьеры? Рабы превращаются в людей в процессе борьбы…
Саша зажимал уши и морщился:
– Борис! Это же слова, слова… Справедливое общество не решает всех задач. Страсти, пережитки, неточный расчет в практике строительства – да сколько лазеек для искажения идеала! В каждом, в каждом из нас – спасение. В каждом, в каждом из нас – гибель.
– Самоулучшаться зовешь?! – горячился я.
– Верить в то, что от нас тоже что-то зависит, – сказал Саша. – В людях идеи, а не наоборот. Все от людей зависит.
– Можно сделать такие ручные, такие удобные идеи, – сказал я иронически, – что они не будут отличаться от выгоды.
– Не надо упрощать, – терпеливо объяснил Саша, – речь идет о вполне понятных и бесспорных духовных ценностях, таких, как свобода, равенство, достоинство каждого. Вот тебя задело не то, что ты не в первом классе ехал, а то, что вообще классы есть, и даже не сам этот факт, а то, что классы что-то меняют в людях, их самочувствии, самоутверждении на земле, где, казалось бы, все договорились делать общее дело и для всех же в равной степени. Разве не так?
И Саша задумался. А потом неясная улыбка тронула его губы, и он стал тихо читать:
Под насыпью, во рву нескошенном,
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на косы брошенном,
Красивая и молодая.
Он помолчал немного, как будто прислушался. И потом, обращаясь ко мне, со значением продолжал:
Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели;
Молчали желтые и синие;
В зеленых плакали и пели.
И улыбнувшись своей грустной, виноватой улыбкой, повторил:
В зеленых плакали… и пели…
Ты думаешь, это игра в краски? Нет, брат, зеленые вагоны были специально для бедных, а желтые и синие – спальные, для тех, кто побогаче… Но ты не задумывался, почему молчат желтые и синие? Нет? А жаль…
– А почему?
– А потому, что там уже не было жизни – Блок так понимал. Жизнь была в зеленых, пусть там и плакали, но и пели! Жизнь знает и горе и радость. А молчание – на кладбище.
– Это ты прочитал?
– Я так понимаю Блока. Разве это не так?
– Но, прости, ты понимаешь этак, я – иначе. А реальное содержание? Разве в стихах нет реального содержания?
– И ты, и я, еще кто-то – мы все его и должны понять вместе.
– Ну, послушай. Про эти вагоны – что там зеленые были для бедных, а желтые и синие означали классы, наверное, первый, второй, скажем так, этого я не знал… Но не в том дело. Это поэзии не касается. Но вот то, что «молчали желтые и синие», а «плакали и пели» те, другие, – вот это-то разве означает, что Блок, кроме сочувствия бедным, выразил здесь и мысль о том, что богатым ничего уже не оставалось в жизни, что они, как бы сказать… обречены, что ли? Ты утверждаешь категорически – да, означает. Но я вправе усомниться. Я лично понимаю так: там, где много народу, там всегда шумно. Кто-то выпил и бушует, кто-то обнаружил, что корзину украли… Бедность ведь! И вот уже голосит баба… Никто не привык к галантности, к разговорам шепотом, когда рядом человек спит – народ простой и ведет себя непринужденно, непосредственно. Вот и вся недолга! А там, в спальных вагонах, чопорная обстановка. Говорят ровным голосом – как же их услышишь с перрона! Я понимаю, грубовато все у меня получается, так сказать, обидно для поэзии, особенно блоковской, такое жизненное истолкование всего. Да что поделать, жизнь – штука простая, грубая…
– У тебя все? – нетерпеливо спросил Саша. Он все норовил вступить в полемику, но я жестами останавливал его. – Если все, послушай теперь меня. Во-первых, насчет объяснения моего о том, кто в каких вагонах ездил. Для поэзии, ты считаешь, сие значения не имеет, как ты изволил выразиться, «это поэзии не касается…» Как же так – не касается? Касается самым непосредственным образом! Это, если хочешь, главный фокус этого стихотворения. Отсюда и все. И это тоже:
Не подходите к ней с вопросами,
Вам все равно, а ей – довольно:
Любовью, грязью иль колесами
Она раздавлена – все больно.
Вся Россия была разделена отчетливо на эти цвета! И, в конечном счете, это нарушало гармонию, о которой мечтал поэт! И хотя трагедия пустой мечты – «так мчалась юность бесполезная, в пустых мечтах изнемогая» – может быть, и шире, крупнее трагедии девушки с маленькой станции, но и рядом с девицей в цветном платке стоял «жандарм»… Маленькая деталь, незаметная:
Вставали сонные за стеклами
И обводили ровным взглядом
Платформу, сад с кустами блеклыми,
Ее, жандарма с нею рядом…
Жандарм – намек, почти символ. Но и точная жизненная деталь: на какой станции, на какой платформе не стоит блюститель порядка! И вот именно потому, что тут торчит этот блюститель, и противоестественно это самоубийство – этот «непорядок» в мироустройстве! Я говорю путано? Ты прости… Я хочу главное сказать. Жандармы, желтые эти и зеленые вагоны, – это жизненное, точное, но и не только точное – поэтически тонкое, тонкое, понимаешь! И то, что ты говорил – кто-то пьян, кто-то дебоширит там, в зеленых, кто-то что-то украл… и нет заботы о тишине, или непринужденность простого человека, привыкшего спать в гаме, лишь бы не текло над головой… Все это верно, и так бывает в жизни. Но если в первом случае я говорил о нераздельности жизненного и поэтического, о том, что из жизненного и растет поэзия, то тут, в твоем примере, я вижу совсем другое: ты говоришь не о стихах Блока, а о том, почему могут молчать желтые вагоны и почему могут шуметь зеленые. А это, прости, к делу не относится. К Блоку не относится. Стихи отвечают на свой вопрос. У Блока ясно: из большого позорного разлада в мире, из этой разноцветности, что ли, подчеркнутой молчанием и криками, как лишним проявлением контраста, вырастает и эта частная трагедия, которая, несмотря на то, что частная, как цветная капелька росы утром на травинке, отражает солнце. Если бы Блок прямо связал, как это у нас на каждом шагу пишут поэты, что вот проклятая царская Россия губила девушек тем, что они прозябали в поисках легких дорожных знакомств…
– Ну, это ты уже карикатуришь… – рассмеялся я.
Но Саша не дал мне продолжать. Он был серьезен:
– Прости, я не кончил. Сила великого поэта в том, что он чувствует глубокую связь между явлениями, а не трехкопеечные истины, которые сегодня похожи на правду, завтра повторяются на веру, а послезавтра уже лгут. Сила Блока – а Блок истинно великий русский поэт! – в том, что он протянул ниточку чувства от зеленых вагонов, где «плакали и пели», к девушке, у которой тоже в душе не молчало, а плакало и пело навстречу поезду – движению – возможности счастья – переменам – навстречу этим нарастающим огням – «три ярких глаза набегающих»!.. Но как невозможно перейти из зеленых вагонов в синие или желтые, так невозможно оказалось счастье бедной девицы:
Лишь раз гусар, рукой небрежною
Облокотись на бархат алый,
Скользнул по ней улыбкой нежною…
Скользнул – и поезд вдаль умчало…
– Кстати, – перебил я, – это все смахивает на жестокий романс. И «бархат алый», и гитарная интонация…
– Да, романс – жестокий, очень жестокий… Но в «алом» я вижу не символ пошлости, а кровь. Да, да, кровь, которая потом будет, в финале:
Любовью, грязью иль колесами
Она раздавлена – все больно.
Насчет интонации ты, может, и прав. Я не думал об этом. Блок мог и нарочно – для характеристики героини, ее идеала. Но разве это главное? «Все больно…»! Кровь – везде кровь. Боль – всегда боль…
– Мы начали с права каждого на равенство, свободу, достоинство, – продолжал Саша, вновь разгорячась. – Пусть идеал для кого-то – и плюш, и гитара – смешон нам или жалок. Мы должны научить человека, привить ему вкус, и у него будет иной, более высокий и достойный идеал, не в этом же суть спора у нас, – дело в цели искусства, цели художника. Неравенство – противоестественно, унижение достоинства – противоестественно, несвобода, какого происхождения бы она ни была, – противоестественна! Вот – истина, вот – главное.
– А выход? – спросил я.
– Где выход? В поступке. Для девушки – это самоубийство. Для поэта – рассказ о нем. Для нас с тобой – понимание сути этого рассказа. Все это – цепь поступков, действий. Отсюда я имею право сделать свой вывод о том, что Блок намеренно, а не случайно (такого рода случайностей в искусстве не бывает!) погрузил в молчание вагоны – «желтые и синие». Россия поет, плачет, бросается под колеса. И другая Россия – тягостно молчит. Конечно же, это образ. И притом, какой силы! Старая Россия затаилась, испуганная нарастающим гулом будущей Революции… Конечно, из одного стихотворения нельзя сделать столько категорических выводов, и ты вправе последний мой вывод, наиболее общий, поставить под сомнение. Но теперь я говорю уже обо всей поэзии Блока накануне революции. А зная ее, почему же мы должны умышленно читать прошлые стихи как отдельные, изолированные друг от друга картинки? А? Ведь поэзия – единая развивающаяся песня, единая судьба! Судьба не одного поэта – России!
– Может, ты и прав. Но ты не ответил на конкретный мой вопрос: в чем же реальное содержание стихотворения, если, как ты выразился, «мы все его и должны понять вместе»? Не означает ли это, что порознь никто не исчерпывает содержания?
– В известной мере, полностью исчерпать содержание стихотворения нельзя. Тогда оно перестало бы быть стихотворением, стало бы понятием. А понятие – удел точного знания. Но когда я говорил о том, что содержание мы раскрываем все вместе, я имел в виду только одно: что для каждого человека остается некий «остаток», что ли, что каждому впору взять от стихотворения то, что, быть может, доступно лишь ему, в то время как другая грань образа для другого человека окажется наиболее близкой. Это не значит, что только ее, эту грань, он и увидит в стихах – просто в ней для него окажется сокровенное, свое прочтение. Да мы с тобой только что подтвердили эту мысль. По-разному ли мы поняли стихи? Да нет, думаю, если разобраться, нет. Главное-то оба ухватили, разошлись в частностях. Но исчерпали содержание? Разумеется, нет! В нем много осталось такого, что доступно прояснению идеи, ведь произведение искусства целиком содержательно, а не по привеску вывода, в нем все нужно.
– Ты знаешь, – несколько неожиданно сказал я, – я вспомнил, читал где-то: в каждом из нас много настоящего и лишь одна капля будущего…
– Это – тот же Блок. В дневнике. Но к чему ты?
– Не знаю. Так. Нет, вероятно, потому, что вспомнил: Блок писал эти стихи в то время, как много читал, вернее, перечитывал Толстого, Чехова, прозу Пушкина. Он все время об этом вспоминает в 1909 и 1910 годах. И вот что я подумал: Блок здесь, в этом своем периоде, уже не только Блок. Он уже – традиция русской литературы, давняя традиция совестливости. Хотя и раньше… Я не хочу сказать, что это новое для него, нет, конечно. Но перелом где-то на грани первой революции, в 1905 году и дальше – все покатилось… Он потому, верно, и стал все это перечитывать методически. Того же Толстого. Но, прочитав снова, взволновавшись – ты помнишь, конечно, он так и пишет в дневнике, что взволновался и стал перебирать друзей, отказываться от некоторых, оставляя себе только глубоких, несуетных, – задумал начать новую жизнь без пустых желаний и мелочных страстей. Блок записывает в дневнике подробно и тщательно – может быть, впервые так развернуто – историю о том, как он встал в четыре утра, чтоб посмотреть комету Галлея (о ней все говорили, писали, ждали страшного), но вместо кометы увидел, как ворует его сено какой-то Егорка, ворует поспешно, пока барин спит; и дальше Блок пишет, что вороватый этот Егорка вьет гнездо для детей, а он, помещик русский, дворянин, держит таких, как Егорка, для того, чтобы они «строили» их «больную жизнь»… Я хорошо запомнил. Именно «больную» жизнь. Он там же добавляет, что у него нет детей. Меня эта деталь, помню, еще тогда поразила, пронзила, я бы сказал. Ведь это значило большее – нет будущего у «больной жизни» богатых. Ведь это не кокетство, а боль, стыд за всех, кто ведет такую «больную» жизнь! Все это я к тому же. Не спорю, как ты понимаешь, скорее подтверждаю тобой сказанное. Только одного не в силах понять: все художники, остро чувствуя несовершенство настоящего, рвутся в будущее, но вот наступает момент гармонии, хотя бы относительной, что тогда будет с искусством? Не изменится ли дилемма: «капля будущего» эта не растворится ли, не улетучится ли вовсе?
– Грустную ты нарисовал перспективу, – усмехнулся Саша. – Хорошее надо назвать хорошим, доброму надо радоваться, торжествуя. Но художник по природе своего дарования – разведчик будущего. Он непременно должен чувствовать его приближение, хотя бы как гул рельсов перед приближением состава. И как бы ни говорили вокруг: нам, мол, и без поезда неплохо, – ничего не изменится, поезд все равно придет, в этом суть! А лучше ли, хуже ли будет, когда поезд придет, не зависит ни от художника, ни от тех, кто не слышит этого гула рельсов и думает, что в его силах отменить поезд Будущего.
ПРОСТО ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ…
(Без даты).
Никоненка увезли в госпиталь. Загноились раны. Сутки целые горел, бредил, звал какую-то Веру. Нас сменили. На переправе в сплошном дыму, под разрывами мин и снарядов, оглохшие и ослепшие, мы прошли до середины Волги.
Огонь спал. Мы пристали к песчаному большому острову. Долго выносили раненых, сгружали полуживых.
Транспорты пошли назад. Мы ждем парома на восточный берег.
Сижу на песке, желтом, мягком, и смотрю на Сталинград. Он черно-багровый, подрагивающий – гул ровный, тяжелый и непрекращающийся, сотрясает почву, Когда немного рассеивается дым над городом, видны разрывы, немецкие самолеты, заходящие на бомбометание. Даже странна их безнаказанность – кажется, туча комаров повисла над развалинами, над бушующим морем огня.
Время от времени доносятся глухие, но сильные залпы наших тяжелых батарей. Где они, я не знаю. Может быть, на восточном берегу?
Недалеко от меня в мокрых шинелях нахохлились мои товарищи – Волейко, Захаров, Максименко, Гигла… Гигла уже не поет – ранен в голову, бинты рыжие от крови, голову держит настороженно, чуть набок, говорит «больно нэстэрпимо», но не стонет.
У Волейко легкая контузия, как у меня. В атаке он отличился и сам не заметил: в немецких ходах сообщения, которые мы временно отбили на высотке, он, споткнувшись о провод связи, упал на фрица как раз в ту секунду, когда тот выдергивал чеку из гранаты рядом с нишей, где были боеприпасы. Еще полсекунды – мы все, и я в том числе, взлетели бы к богу. Граната разорвалась под немцем, а Волейко почему-то оказался наверху ниши, карабкался на бруствер, но, кроме мелких осколков в ноге, ягодице и контузии, все обошлось. Командир роты, который был почти рядом, тоже отделался легким ранением. Волейку все считают спасителем.
Захаров – краснодарец, с землистым лицом и отечными глазами, нам в отцы годится, ему лет тридцать пять. Лицо подергивается – у него тик. Захаров курит и улыбается: «Загадывал три раза и три раза оставался живой, – говорит он, хитро подмаргивая нам, – теперь уже в живых останусь. Меня ведь берут по специальности – слышал? Картограф я. Батальонный узнал: что ж ты, говорит, молчал? На таких запрос был». И Захаров смеется, обнажив желтые, прокуренные зубы.
Максименко – совсем мальчик из-под Херсона, родителей убили (в эвакуацию ехали с заводом), а его сделали сыном полка. Так и остался солдатом. Стаж у него большой. Воюет от Харькова. Был сперва в разведке.
Рассказывает: «Раз под проволоку лез, зацепился, а немец ракету повесил. Я лежу, похолодел, руки дрожат. Светло как днем. И слышу, два немца разговаривают за спиной, проходят, а я голову повернуть хочу – страшней всего, что в спину стрелять будут. Но голову поверну, шум будет, и так себе лежу, про себя их шаги считаю. Слышу, перестали говорить и остановились. Я голову втянул и жду. А сердце стучит так, что голова вроде подпрыгивает на рукаве. А они, сволочи, молчат. И ни звука. Как будто увидели меня и рассматривают, решают, что со мной делать. И тут мне закричать захотелось, чтоб скорей стреляли. Вспомнил мать, как она лежала на дороге, рядом с машиной, глаза открытые и нигде кровинки нет, как задумалась. А уже холодная. Как отца понесли, закрытого с головой, и посмотреть не дали, чтоб не испугался.
Тут ракета погасла и темно стало. Слышу, немцы разговаривают, а я немножко понимал по-ихнему. Один, значит, спрашивает: „А если в рукав покурим?“ А другой отвечает: „А что, можно“. Сидят они, гады, совсем рядом с моими ногами, и как не видят – понять не могу. Потом слышу тот, второй, говорит: „Надо повернуться, ветер оттуда“. Ну, думаю, теперь – хана, они, оказывается, спиной ко мне сидели. А сейчас вот-вот ракета. Да и без нее увидят. Чиркнула зажигалка. „Вот черт“, – ругнулся немец. „А где твоя?“ – „Оставил, видно“. – „У Вилли попросим“. И слышу – шаги. Считаю: „Двадцать пять…“ Подождал немного. Ушли!
Отцепился я и полез дальше. Что надо сделал, как всегда, но когда к своим вернулся, снял шапку, а все смотрят на меня как остолбенелые. Командир разведки спрашивает: „Юрчик, а Юрчик, что с тобой было ночью?“ – „А ничего. Порядок“. – „Да ты в зеркало посмотри“. Ищу я это зеркало, а где оно – не знаю. Я ведь еще не брился – ну, нашел, посмотрел: оно в блиндаже на стенке висело. А я седой совсем, белый. Попробовал голову рукой, не поверил, думал, сотрется. Не стирается, сволочь…»
Это Юра Максименко. По прозвищу «Белый». Я говорю: «Что ты больше всего в жизни любишь?» А он сморщил лоб и нос одновременно и думает. «Не знаю, – вздыхает, – не знаю, что в жизни есть».
А и правда, откуда ему знать, когда он жизни этой не видел. Он только войну видел. В общем-то, конечно, очень, очень жить хочется… Ни для чего. Просто так.
Просто так! Нужно много выстрадать и передумать, чтобы прийти к такой ясности, такой простоте. Обычно думают, что сложность – удел зрелости, а молодость живет прямолинейно, одними порывами, и цель, мол, ясна, проста, все доступно, и потому юность дерзает, а не предается сомнениям. Может, оно и так, но не для всякой юности это подходит. Мы жили иначе, чем живут сегодня наши сверстники. Мы рано повзрослели, и у нас смутность желаний, туманный сон надежд, радость узнавания жизни – все, по сути дела, сложное и совсем не такое уж ясное, что свойственно любой юности, начинающейся естественно: все перегорело внутри, быстро, как горит валежник в ночном костре, когда короткая ночь сменяется розовато-синим пеплом рассвета.
Ясность и мудрость жизни, ее святая простота пришли к нам как откровение в восемнадцать – двадцать. Мы научились ценить время, вставать пораньше, чтобы успеть сделать свое дело, начатое вчера.
Мы разучились беззаботности, и нас всегда что-то зовет, требует, мы строимся на поверку внутри своей души, каждый день, а иногда и каждый час.
Мы начинаем с середины… Всегда с середины. Начала первой этой половины нет – она отрезана войной и к ней никогда не вернуться. Там – детство. Там – «а вот до войны…»
Иногда мне начинало казаться, что провалы памяти из того мирного прошлого – не только вина контузии и не то одно, что война вытеснила детство более сильными впечатлениями, поразившими неокрепшее воображение, но и то еще, что между тем мною и этим мною легла пропасть в понимании жизни – все, что я чувствовал, о чем думал, что меня интересовало и заботило, все это настолько не соответствует нынешнему опыту, что для воспоминаний нет некоей общей точки соприкосновения.
Мы можем помнить только лишь то, что нам нужно помнить. Но нам давно ни к чему розовые заблуждения и слепая наивность незнания. Мы знаем! А из того, что знаешь, все ли нужно оживлять в памяти?
Память – дрессированная собака. Ей достаточно намека на желание, она выполнит автоматически. Или не выполнит, если мы не попросим ее. Память – верный пес, верный друг, по-собачьему преданный хозяину. Она понимает с полуслова: ложится у наших ног и чутко дремлет. Ее присутствие, как присутствие совести, – беспокоит, но прогнать ее в нас не достает сил и смелости. Где-то мы понимаем, что прогнать память – как прогнать совесть. Мы не можем стать другими, чем мы есть. Такими, какими мы стали.
И я опять подрываюсь на воспоминании.








