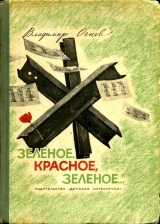
Текст книги "Зелёное, красное, зелёное... (Повесть)"
Автор книги: Владимир Огнев
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)
ДЕВЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ
– Сколько вы сказали, младший лейтенант?
– Девятнадцать, – ответил я седому грузному полковнику медицинской службы. – В прошлом году я окончил школу… танцевал на выпускном вечере…
Я сказал «танцевал» и сразу почувствовал острую боль, пронзившую все мое существо. Мне захотелось кричать, выть, грызть железо, как та дворняга на берегу моря, только бы все то, что было, уже было – оказалось одним из снов или бредом, который может окончиться. Несколько раз за эти сутки, когда это стало свершившимся фактом, я испытывал прилив нестерпимого горя, который, казалось мне, способен разорвать мое сердце. Но тогда я еще не знал, как молодо и сильно мое сердце и сколько еще ждет меня впереди таких дней и ночей, когда, только сжав зубы и считая про себя: «Сто один, сто два, сто три, сто четыре…» – можно остудить кровь в жилах, заставить себя забыться… Я смотрел на простыню, которой было покрыто мое тело. На том месте, где когда-то была правая нога, как бы не оставляя никаких иллюзий о случившемся, лежала… коробка с шахматами.
Да, я играл в шахматы и даже выиграл партию у капитана авиации, у которого сделали это же неделю назад. Койка его стояла рядом, на ширину табурета. Капитану казалось, что он отвлекает меня, а я просто ничего не чувствовал, будто все это случилось не со мной. Капитан говорил мне, что я должен ощущать бывшую ногу как живую. Но я ничего не чувствовал, вернее, не хотел чувствовать. Я и про себя говорил – «это», горько усмехаясь; ясно было, что я так обманываю себя, пытаюсь обмануть, заставить пока не называть то, что произошло, своим именем.
Но однажды ночью, проснувшись среди сонного бормотания, запаха йодоформа и сладковатого, другого запаха, который переносится труднее всего, – запаха ран, не заглушаемого никакими лекарствами, я определенно почувствовал отрезанную ногу и каждый палец на ней болел отдельной болью. И тогда я холодно и трезво заставил себя сказать вслух: «У меня отрезали ногу… у меня никогда не будет ноги…» Я говорил это шепотом, но так отчетливо, старательно, как будто диктовал детям: «Ма-ма мы-ла pa-мы… И Ро-ма мыл pa-мы…» Странно, очень страшно и в то же время легко стало мне. Как будто я перешагнул глубокую пропасть и дальше была ровная прямая дорога.
Госпиталь был полевой. Он размещался в станице. Потом его эвакуировали в Краснодар, а оттуда долго везли под бомбежками немцев в Кавказскую, затем, не выгружая из вагонов, нас повезли через Гудермес на Баку. По дороге, где-то под Моздоком, одинокий «хейнкель», просочившийся к линии железной дороги, сбросил бомбы и повредил полотно. Был жаркий летний день. Состав стоял в голой степи уже часа три, вагоны накалились под солнцем. Все, кто мог передвигаться, вышли в тамбуры, где сквознячок создавал некоторую иллюзию прохлады, а те, кто посмелее, с горем пополам выбрались в тень вагонов и вдыхали смешанный запах нагретых рельсов, пыли и полыни. Машинист не переставая гудел, пока «хейнкель» кружился над нами, будто пугал его. Видимо, у немца больше не было бомб, пулеметы в ход не пускал – поленился перейти на бреющий полет.
Постояв в тесном тамбуре, я тоже попытался, орудуя костылями, выбраться из вагона. Стоявший у ступенек пульмана старшина из санитарного взвода, огромный детина с засученными рукавами гимнастерки, видя, как нерешительно я топтался на верхней ступеньке, шагнул ко мне и снял меня как ребенка, осторожно опустив на землю. Я смутился. Детина представился: «Старшина Бойко». Я предложил ему закурить. По заведенной привычке старшина кивнул на мою культю: «Под Керчью?» – «Под Анапой», – ответил я. Старшина неожиданно оживился. Оказалось, что он тоже из тех краев, не из самого города, правда, а из Натухаевской, одной из ближних станиц. Слово за слово, мы разговорились, и оказалось, что мы почти что даже знакомы: его отец ходил под Керчь с дивизией генерал-майора Ивана Книги. Когда меня подбили в первый раз и я выбросился с парашютом, я два дня провел в рядах отбивавшихся в пешем строю казаков. Там я и познакомился с дюжим сотником Бойко, как оказалось, батьком этого старшины. Какова судьба сотника, не знали ни он, ни я. Но я знал нечто иное.
До сих пор вспоминаю то раннее утро, когда я увидел розовое море… Да, море было розовым. Я вышел из палатки раньше всех и остановился как вкопанный. До самой кромки горизонта, где в тумане угадывался крымский берег, вода розовела и, по мере того как всходило солнце, становилась все краснее… Когда я спустился по песчаному откосу, вода была уже алой. Приливом прибивало к берегу красные башлыки… Сколько же их было?
Всю ночь земля содрогалась от взрывов, небо прочерчивали прожекторы. Все корабли, барки, лодки, плоты, катера были переполнены: наш десант на Крым был сброшен в море. С того дня аэродром перебазировали, а бои в воздухе переместились на Кавказское направление.
Я сказал старшине, что видел сотника в полном здравии, при трех орденах. Он был горд батькой своим и, размахивая могучими руками, божился мне, что сбежит из медсанбата. Загудел паровоз, и раненые суетливо начали карабкаться в вагоны. Старшина так же ловко вскинул меня наверх и вскочил уже на ходу. Поезд набирал скорость. Мы курили в тамбуре и молчали. Степи проплывали чужие, желто-бурые, без травы, хотя стоял июль.
На вторые сутки показалось море. Каспий был серый, скучный. Донимала жара.
Мы расстались с Бойко в Баку. Он обнял меня на прощание и побожился, что еще один рейс, и он удерет на фронт.
Я поковылял по пыльным, казавшимся бесконечными, улицам Баку. Дым висел над нефтепромыслами, над городом.
Начиналась новая жизнь – инвалида.
На главпочтамте мне предложили подойти к окошку без очереди, и я, почему-то покраснев, торопливо получил свои письма. Они были желтые, с переадресовками – старые. В одном из них тетя Лиза, мамина сестра, сообщала, что бомба попала в наш дом; что, к счастью, мама в это время ходила за хлебом, а отец был на заводе; что началась эвакуация; что отец мой, директор винного завода, велел оставшиеся чаны пробить, и вино лилось трое суток в море по улицам Анапы; что собаки были пьяные; что все почти уехали, а она, тетя, останется в городе, потому что на руках ее свекровь, которая больна и не перенесет дороги. Отец и мать где-то в Казахстане, кажется в Джамбуле. Писем нет, и она волнуется. Второе письмо было от Башьяна, командира звена, в котором я летал. Письмо было толстое, и, разорвав конверт, я обнаружил два маленьких голубоватых конверта со знакомым острым почерком… Я почувствовал сильное волнение и не стал читать письма в голубоватых конвертах, а сунул их в карман гимнастерки.
У нее были светлые волосы и серые смелые глаза. Она часто щурилась и улыбалась иронически. Она была спортсменка и плавала так далеко, что мне становилось страшно. Фигура у Лены была скорее мальчишеская: широкие плечи, узкий таз, сильные руки, покрытые до локтей рыжеватым пушком, крепкие ноги. Вся она была какая-то подтянутая и твердая – одни мышцы под ситцевым, всегда выгоревшим сарафаном, прямая постановка гордой головы, твердая стремительная походка. Стрижка – короткая, выше лба перетянута лентой, черной или серой. Она была дьявольски умна и проста. Лена знала, не могла не знать, что мы оба, Саша и я, влюблены в нее как олухи. Но она так ловко вела себя в этой сложной ситуации, что я до сих пор удивляюсь, как это ей удавалось. И как мы оба несколько лет, бывая вместе, ни разу не воспользовались тысячу раз представлявшейся нам возможностью для объяснения в любви. Мы были рыцарями без страха и упрека. Ни словом не перемолвись по этому поводу, мы появлялись у ее калитки, заросшей кустами сирени, почти в одно время и, будто удивившись совпадению, одновременно входили в заветный садик, откуда уже за полквартала доносились запахи белых лилий и табака.
– Ну, я пошел, – говорил обычно кто-нибудь из нас часов около 10 вечера, когда Ленина мама, пышнотелая художница-полька, подавляя зевоту, спрашивала дочь, будить ли ее завтра, или она сама встанет.
Потом Лена провожала нас до калитки и хлопала с размаху по заранее подставленным нашим ладоням. Иногда ей не нравился звук, и тогда она требовала «перебить». Натянуто смеясь, каждый из нас старался хоть на долю секунды дольше задержать в руке ее крепкую сухую ладонь, жестковатую от весел.
Отец ее был генералом инженерной службы, профессором, человеком добрым, всецело поглощенным наукой. Он купил дачу в Анапе, и каждое лето они всей семьей приезжали сюда.
Командовала в семье его жена Алиция Станиславовна, человек общительный, нервный и экспансивный. Она не разделяла спортивных причуд своей упрямой дочери и любила только наши вечера, когда все собирались на широкой веранде за столом, покрытым вязаной скатертью. Алиция Станиславовна поила нас чаем из самовара, раскладывала пасьянс или писала маслом портреты. Садовник, он же сосед-рыбак Гриша Близнюк, получался у нее синим и узким демоном с фиолетовыми глазами искусителя. Конечности Гриши казались нам на полотне склеенными из детского деревянного конструктора, а синяя роба с блестящими при свете заходящего солнца складками – плащом тореадора.
Но мы, разумеется, молчали, взволнованно глотая слюну, когда нам милостиво разрешалось взглянуть на этюдник, обычно занавешенный цыганской шалью в углу веранды. Сам Гриша, удостоенный высокой чести быть запечатленным на полотне, отнесся к своему изображению без должного пиетета. Он почесал в затылке, взлохматил свою спутанную черно-седую шевелюру и сплюнул аккуратно за перила веранды. Гриша ничего не сказал, но ушел своей валкой походочкой быстрее обычного, и мы все сделали вывод, что он обиделся.
Алиция Станиславовна плакала, шмыгая носом в комнате, за пестрой занавеской, а Лена, пожав плечами, что означало примерно «мне бы ваши заботы», предложила что-то из ряда вон выходящее – кажется, уговорить Гришу взять нас на ночной лов волокушей.
ПИСЬМО ЛЕНЫ
Все это живо встало перед моими глазами, когда я разорвал первый из голубоватых конвертов со штемпелем «Куйбышев».
«Милый Борис!» Сердце колотилось. Я осмотрелся по сторонам, боясь читать дальше. Я сидел в пыльном сквере. Высокие и сухие тополя шумели, как паруса фрегата, на котором в детстве мы с Сашей видели себя недосягаемо далеко от берегов отчизны дальней. Какие-то люди шли по своим делам, пригибаясь под сильными порывами сухого пыльного ветра. «Не знаю, не разминется ли снова с тобой мое письмо…» Мы расстались с ней, когда я получил повестку в военкомат: мое заявление сработало, меня брали в училище. Помню, как я побежал к Саше с этой повесткой – ведь мы вместе подали заявления. Он жил, как и я, у моря, недалеко от маяка, на так называемом «высоком берегу»… «Кажется, мы не виделись уже сто лет…» Да, я бежал к нему, а думал о ней. Я догадывался, что Саша не получил такой повестки. Он старательно обманывал врачей, напрягал глаза, горячо объяснялся с ними, когда ему терпеливо втолковывали, что зрение летчика должно быть безукоризненным… «Я помню твои глаза, когда мы прощались… Милый, милый, ты не мог меня обмануть. Теперь мне жаль, что я была насмешлива и жестока с тобой. Но если б ты знал, чего это мне стоило!» Так поздно узнать это… На минуту мне стало все безразлично. Я опустил руку с письмом на колено, за которым резко обрывалась нога, далеко не доходя до земли. Боль в душе была так остра, обида на себя так велика, что мне уже не хотелось ничего знать. Постепенно я заставил себя спросить: в чем же была эта обида? Никто ни в чем не виноват, если бы не война… «Саша потом приходил уже без тебя. Он стал мне еще более дорог, потому… потому, что я сделала выбор давно, а теперь мне было жаль его. Ты понимаешь? Он был рядом, я знала, что теперь мы будем говорить только о тебе и он не сможет говорить ни о чем ином. И так и было. Он стал тихим и понял все. А мне не пришлось ничего объяснять». Я вспомнил последние минуты: как я все-таки впервые, один повернул к ее дому, зная, что Саши там не может быть в это время, кусая губы от стыда и уговаривая себя, что ведь он наверняка остается, а я последний раз вижу ее. У калитки я задержался и на мгновение поколебался: входить ли? Но она уже увидела меня. Лена была в белом платье. Она подняла руку и, слегка склонив голову набок, как она делала, когда хотела скрыть смущение, пошла к калитке. Подойдя, она посмотрела на меня пристально и нахмурившись. Она догадалась, что я пришел прощаться. Она знала о том, что мы с Сашей просились добровольцами.
Когда Лена открывала калитку, щеки ее пылали. Она как обычно сказала свое: «Входите, сеньор, графиня в саду…» – но глаза ее тревожно блестели. Впервые я видел ее волнение, которое она не могла скрыть. Я сделал шаг, но она, продолжая тревожно и вопросительно смотреть исподлобья, не отошла в сторону. Тогда она ждала, что я обниму ее, так как она уже знала, зачем я пришел так рано и почему я один.
Она стояла рядом и смотрела испуганно и растерянно, щеки ее горели, а руки были опущены. Секунду длилось это состояние, может быть еще меньше.
Но раздался голос Алиции Станиславовны, звавшей Лену, и она совладала с собой и повела меня по дорожке, сильнее обычного размахивая рукой и обивая кончиками пальцев листья с кустов отцветшей сирени.
«Писем от тебя нет. Не знаю, что и думать. Временами я просто не нахожу себе места. Теперь я знаю, что не могу без тебя. И мне совсем не стыдно писать это. Борис, где ты? Саша писал, что ты воюешь на Кавказе и что номер твоей полевой почты изменился, но с тех пор замолчал и он. Что это может значить? Последние два письма, на всякий случай, я посылаю по старому адресу. В одном из них, адресованном командиру части, я спрашиваю, где искать тебя. Прости. Но сердце подсказывает мне: что-то случилось…» Когда я уходил, она крепко пожала руку и толкнула меня в плечо, чтобы я уходил, улыбаясь смущенно. Тогда я думал, что она каменная. Но, повернувшись и сделав шаг, я вдруг почувствовал, как быстро она подалась вперед и ощутил поцелуй на шее… Я остолбенел, и, когда обернулся, она уже убегала по дорожке. Я шел домой, боясь пошевелить шеей, неестественно вытянув ее, и часто спотыкался… «Почему замолчали вы оба? Одновременно. Я работаю в госпитале. Каждый день хожу на почту. Больше ничего не могу написать. Где ты?..»
Второе письмо было адресовано командиру части. В нем Лена писала о том, что переписка со мной неожиданно прервалась, и просила сообщить ей, что со мной. Башьян сделал на письме следующую приписку: «Ты – скотина. Что мне отвечать? Не могу же я отмолчаться. Срочно пиши. Твой Левон».
Я задумался. Ветер переменился и дул с моря. Желтые крупные листья с платанов приподымались на дорожке и шевелились. Кроме меня, никого в сквере не было. В море ходили белесые гребешки. В стороне порта серое небо было перечеркнуто множеством кранов, мачт. Это походило на паутину. Оттуда доносился стук, скрежет, гудки и свистки. Маленький толстобокий бот, переваливаясь, шел вдоль берега.
Она играла на рояле. Рояль был маленький, поцарапанный, но «настоящий Шредер», как любила повторять Алиция Станиславовна. Тогда я не очень любил музыку. Мне почему-то всегда хотелось спать, когда долго играли на рояле. Но мне нравилось смотреть на Лену, когда она играла, потому что она не отрывала глаз от нот и я не рисковал встретить ее насмешливые серые глаза, которые всегда смотрели прямо в душу. Пальцы у нее были сильные, ногти коротко острижены, чтобы не стучать по клавишам, как объяснила мне Лена. Выражение лица хмурое, губы сжаты, как будто она боялась проговориться во время игры. Саша, который сам играл на рояле и даже, как потом оказалось, сочинял музыку, смотрел не на Лену, а куда-то в себя. У него появлялся румянец, и Алиция Станиславовна, которая любила его больше, чем меня, потому что он был «тонкая художественная натура», глядя на Сашино лицо, качала головой и вздыхала: «А все-таки, Саша, я бы на твоем месте проверила легкие».
Окно в сад было открыто, но в комнате всегда стоял застоявшийся запах духов. На стене, против рояля, висела темная старая картина, изображавшая купальщицу, пробующую пальцем белой удлиненной ноги воду темно-зеленого цвета. Гриша, который приносил рыбу, всегда недовольно сопел, косясь на купальщицу. Гриша осуждал ее и за то, что «бесстыжая», и не одобрял зеленую воду, покрытую кувшинками. «Болото, а не вода. Я бы сроду в такой не стал купаться», – заявлял он твердо. Музыку Гриша любил, но почему-то стеснялся этого, как слабости, недостойной мужчины.
Впрочем, он любил не только музыку, но все, что делала Лена. Он буквально расплывался, видя ее, сносил ее шутки, выполнял любую ее просьбу. Держался с ней он всегда одинаково – хмыкая и усмехаясь, будто снисходительно прощая ей слабости. Мы все любили его неуклюжесть, честность, прямоту, а больше всего – литые мускулы и смелость. Не раз ходили мы в открытое море на рыбачьей плоскодонке, пропахшей смолой и рыбой. И каждый раз удивлялись, какой он ловкий, сноровистый, бесстрашный. Когда мы плавали в Малой бухте, где купались не курортники, а настоящие ребята, среди острых скал и бурунов, под отвесным берегом, нависавшим карнизом, Гриша превращался из сорокалетнего отца семейства в молодого дельфина-озорника: он хохотал, нырял, «топил» нас и хриплым голосом пел «Кукарачу»…
Николай Николаевич, отец Лены, платил Грише как садовнику. Семья у Гриши была большая: теща с голосом боцмана, жена с четырьмя ребятишками, мал мала меньше, и слепой старик отец, пропахший дымом, – лучший коптильщик рыбы.
Гриша чувствовал доброту Николая Николаевича и не оставался в долгу. Он весь год следил за дачей. Вскапывал Ивановым землю под цветы и белил стволы деревьев, чтоб не плодились гусеницы. Делалось это ранней весной, когда Ивановы были еще в своем Куйбышеве. Зимой он иногда проветривал комнаты или подтапливал, чтобы не завелась сырость. То, бывало, забор починит, то погреб выкопает, то крышу переберет, чтоб не потекла, а уж о свежей рыбке и говорить нечего – летом ни один улов не пройдет без того, чтоб у Ивановых не шипела на сковородке пухленькая кефаль или розовобокая барабулька.
Алиция Станиславовна не очень-то разделяла всеобщие восторги: ее шокировала Гришина невоспитанность, да и щедрость рыбака казалась ей сомнительной. Со вздохом, вежливо и осторожно, но напоминала она о том, что расходы по содержанию садовника, как ни считай, а превышают все Гришины щедроты. Лена гневно сдвигала брови, и Алиция Станиславовна тут же испуганно спешила переменить тему разговора. Николай Николаевич, седой, высокий, в золоченом пенсне, только улыбался и молчал. Он совсем не интересовался домом, бытом, передоверив все, кроме заботы о Грише, своей супруге.
Тут же он был неумолим. Эта странность мужа беспокоила Алицию Станиславовну. Она как-то поделилась со мной предположением, что в Николае Николаевиче заговорило происхождение – знаменитый ученый вырос в бедности и оставался предельно прост и нетребователен ко всему, что касалось жизненных удобств.
Лену он любил, пожалуй, даже болезненно. Но это ни в чем внешне не проявлялось. Он почти не говорил с ней и только поглядывал изредка из-под блеснувшего пенсне – быстро и тревожно. Когда она заболела в детстве скарлатиной, он, рассказывают, не спал ни одной ночи, сам выходил дочь. Но когда у нее все шло хорошо, отец будто и не замечал ее. Она любила его так же молчаливо, сурово и верно. Никто не мог утешить его в несчастье, как она, никто не мог так умело и незаметно поднять его настроение после частых сцен экспансивной и мнительной супруги.
Николай Николаевич до ночи засиживался в своем кабинете, целиком уходя в работу. Алиция Станиславовна с годами примирилась с тем, что ее «не понимают». С каким-то необузданным, экзальтированным чувством ревниво оберегала она свою дочь от «вредных влияний», которые виделись ей даже в ночных кошмарах. Их олицетворяли куйбышевские подруги, случайные попутчики в поезде, Гриша-рыбак, даже отец, этот несносный «эгоист и жестокий, жестокий человек», абсолютно лишенный «чувства прекрасного».
Когда Лена играла, Алиция Станиславовна прикладывала шелковый платочек к глазам и вздыхала. Она была из какого-то шляхетского рода и гордилась этим. Она любила рассказывать, что на родине «оставила» – слово это подчеркивалось с видом смирившейся гордыни – фамильный замок с картинами, изображавшими все поколения ее рода, рыцарями в доспехах, стоящими в нишах большого зала, и криком сов в дубовой роще… Но, во-первых, оставил всю эту музыку еще ее дед, а потом, есть о чем жалеть! Она жаловалась, что Лена резка и своевольна, что она лишена художественной среды и рада, что хоть здесь судьба подарила ей и дочери нас, вполне интеллигентных «юных друзей», которые не могут дурно влиять на ее дочь.








