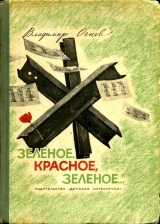
Текст книги "Зелёное, красное, зелёное... (Повесть)"
Автор книги: Владимир Огнев
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
МОЙ ДВОР
Я вспомнил свой двор, когда он казался мне материком, когда деревья были огромными, а тень от ветвей ласковой защитой, когда трава, мягкая, сочная, пахнущая свежестью, щекотала лицо, а солнечные зайчики перебегали по ней как живые…
Выбита трава была только по дорожкам. Одна вела вокруг дома к колодцу, который стоял на границе участков. Колодец был новый, его чистили и сделали свежий сруб, крышу. Старым оставался барабан – блестящий и гладкий от тысячи ладоней. Когда с рокотом опускалось ведро, разматывая веревку, барабан подскакивал оттого, что один бок его был чуть толще другого, вот тут и надо было его прижимать ладонью. Она становилась постепенно горячей. А когда вода, поблескивая в ведре, подымалась до уровня сруба, надо было, продолжая вертеть правой рукой барабан, перехватить левой тонкую, режущую детскую ладонь дужку и, приподняв ведро, осторожно, чтоб не слишком расплескать воду, поставить на край сруба, одновременно начав разматывать барабан. Два оборота – как сейчас помню. Поверхность воды покачивается в ведре все медленнее и целиком, будто ее покрыли черной крышкой. Мне нравилось отпить холодной воды через край ведра, хоть это и не разрешалось. Потом я нес ведро, перегибаясь в обратную сторону и размашисто меняя руку.
Дорожка, твердая, казавшаяся босым ногам каменной, вилась среди травы к сараю, манящему летом прохладой и темнотой. Окон в нем не было, свет падал туда большим прямоугольником в широкие двери, одновременно служившие и воротами. Обычно ближе к двери и стояли мангалы, хозяйственные столики – наши и тети Лизы, которая жила с нами, но готовила отдельно на свою «ораву».
А орава была: ее муж, дядя Миша – бухгалтер и домашний философ с большим носом, головастый Сергей и совсем сопливая Саша, которая все время болела и просила скороговорочкой: «Либи-хиби», что означало «рыбы, хлеба». Они приехали с Украины.
С ними приехал и мой дедушка, седой, высокий, голубоглазый, сухой старик с коричневым от загара телом, похожим на поджаренную хлебную корочку. Он ходил дома в чистой сорочке из домотканого полотна, в черных штанах, которые подвязывались красной бечевочкой. От него всегда исходил какой-то свежий, чистый запах, как будто пахло бельем на морозе. Борода, белая, большая, была жесткой и всегда пахла табаком, но не резким, а каким-то слабым, будто он не курил, а вдыхал свежее сено.
Вход в дом с улицы – парадный – был почему-то заложен кирпичом и забелен, а входили мы со двора, попадая сперва в застекленную террасу вдоль всей стены, а оттуда вели три двери: в мою комнату, прямо – к тете Лизе, а чуть левее, рядом с тетей Лизой, была дверь к нашим остальным двум смежным комнатам.
Выйдя на тропку, ведущую назад к сараю, можно было свернуть чуть левее, и ты попадал в сад, еще дальше она вела в виноградник, мимо грядок небольшого огородика и упиралась в зеленую дощатую будку у самого забора. В будке была крутая крыша, а под нею – вырезанное сердечком отверстие. Летом, когда я просыпался от хриплого крика и хлопанья крыльев соседского петуха, первое, что я видел, протирая глаза, – это то, как мама в красно-белом сарафане шла по дорожке с ведром и веником к зеленому сооружению с сердечком. Потом там плескалась вода на пол и слышалось шуршание веника, гремело ведро, и из зеленой будки текли ручейки воды. На траве с час примерно оставались капельки, а пыль на дорожке сворачивалась в круглые пилюльки, которые постепенно лопались и превращались в подобие рыбьей чешуи, – солнце брало свои права.
Мама тихо напевала украинскую песенку о какой-то Ганке-молодице и шла плескаться к сараю, а я снова засыпал, пока в мои ноздри не проникал запах дымка от мангала. Утром он неторопливо подымался кольцами фиолетового цвета и дрожал днем, когда солнце было злее. Я спал на раскладушке под деревом, и утренние лучи касались лица около семи.
Итак, тропка нагревалась солнцем, и ноги ощущали тепло земли. Как я любил это ощущение приятной щекотки! На мне были черные или синие трусики, и ничего больше. Кожу все время обдувал ветерок. В детстве она входила в прямые отношения с природой: когда было холодно, она ощущала холод и искала тепла, когда было жарко, она чувствовала приятное прикосновение солнца, а сквозь закрытые ресницы расходились зеленые и красные круги, похожие на павлиньи перья. Когда кожа нагревалась, она пахла чем-то с детства приятным, что потом взрослые назовут «тело пахло солнцем», но это никак не будет выражать того волнующего запаха. Ведь так по-особенному может пахнуть только кожа, которая, перед тем как нагреться солнцем, здорово промерзла. Но взрослые часто забывают то, что они знали в детстве!
Но теперь я далеко не уйду с дорожки, которая уже нагрелась под солнцем… Потому что теперь и начинается самое интересное. Пока меня не позовут за стол, пахнущий влажным деревом, только что вымытый, на котором лежит листик акации, нежный и тонкий, как светло-зеленый лоскуток шелка; пока тугой зеленый лук, сверкая капельками холодной воды, и красный редис, и запотевшая бутылка молока из подвала, и громадная маслянисто-черная сковорода с яичницей и салом, извергающая пар и шум, подобно остановившемуся паровозу, – пока все это, раздражающее глаз и обоняние, великолепие южного стола, ломящегося от крупных ломтей хлеба, горки помидоров и намытого винограда, просвечивающего солнцем, пока все это еще не появится на столе, я пробегу по прохладной тропке и достану из заветного тайника, вырытого в кустах крыжовника у забора… железную коробку из-под монпансье.
В ней лежат семь рот отборных солдат, вырезанных из картона и терпеливо раскрашенных по всем правилам военной науки. Из-под куста выезжают также тяжелые танки. Они тяжелы и в буквальном смысле, так как вылеплены из глины. Цвет их натуральный – почти белый, но они раскрашены, и так как краска на глине не держится, танки похожи на настоящие – пятна и весь их облезлый вид напоминают хитрую маскировку. В башне торчит пушка – жестяная трубка от головки ученической ручки. Башня, конечно, вертится, так как насажена на стержень. Солдаты рассажены на броне. Танки замаскированы зеленью. А далеко на юге (возле забора, где густо растут лопухи) змейкой вырыты окопы противника. Там уже третью ночь мокнут от росы и корчатся от холода и солнца пять рот плохо обмундированных турок – краска с них облезла, головы покорно клонятся… Я представляю их живыми, и ненависть переполняет мое маленькое сердце, мне совсем не жаль их (мама моей сочинской подружки Манушак, говорила, что они вырезали всю семью их, она одна осталась, ей было тогда совсем немножко месяцев, ее не заметили в люльке). Главное, тихо выйти на рубеж атаки; я, ползая на трех конечностях, одной, а именно правой рукой, передвигаю танки, сдержанно рыча, и сам пугаюсь, что турки меня услышат. Танки остановились. Совесть не позволяет мне двигать их молча. Теперь я посылаю диверсантов. Три добровольца, выбранные моими пальцами из глубины коробки, радостно идут на задание. Они делают подкоп, и на флангах турок, ничего почему-то не подозревающих, появляются две спичечных коробки с тянущимися из них нитками, смоченными в керосине. Фитили подожжены, и пламя поползло к коробкам, наполненным предварительно соскобленной со спичек серой. Взрыв! Еще взрыв! Пламя, дым, и я двигаю танки на растерявшихся турок. Я утюжу вражеские окопы, и стенки их рушатся, погребая солдат в ярких фесках… И тут мне кажется, что я вижу их лица, перекошенные от страха, с широко раскрытыми глазами, с поднятыми руками. Я останавливаю атаку. Теперь давить турок нельзя. Они – пленные. Я даже огорчился, что все кончилось так быстро. Но не могу же я нарушить освященные веками войн правила благородства по отношению к пленным. Я окружаю их зелеными фигурками красноармейцев, и турки унылой толпой бредут по дороге. Я чувствую пыль, поднятую их стоптанными сапогами, даже чихаю, но иллюзия разрушается. Мама говорит мне: «Будь здоров. Где ты там?..» Она пришла звать меня на завтрак. «Ты умывался? Покажи зубы… Нет? Мигом!» И я покидаю дымящееся поле боя. Я умываюсь в саду холодной водой, и солнце с ветром играет в такую чехарду с листьями, что сквозь намыленные веки я все равно ощущаю зеленую круговерть света.
После завтрака я вывожу флот. Река – это тропинка, вьющаяся среди травы. Трава – джунгли. Корабли тоже из глины. На них матросы в веселых бело-синих рубахах. Они высаживаются в бухте – между развалинами древнего храма (половинка битого кирпича) – и долго продираются сквозь джунгли. Я слышу свист их длинных кортиков, которыми они рубят лианы, слышу их тяжелое дыхание. У одного матроса началась лихорадка, лицо его пожелтело, оно покрыто каплями пота. «Оставьте меня… Идите вперед!» Капитан садится на сваленный бурей баобаб и разворачивает карту: «Тысяча чертей! Мы заблудились». Все сбились в кучу и молчат. На ветвях кричат обезьяны…
Далеко завела меня тропинка!
ПЕЩЕРА
Вот мы и у цели. Мы вышли по вершине горы к глубокой лагуне. Мы смотрим на ослепительное море сверху. Теперь придется спуститься вниз к воде по крутой тропинке. Осторожно начинаем спуск. Собственно, осторожность нужна мне. Саша и Жора ловки, как обезьяны. К тому же они босиком. Под протезом осыпалась земля, я пошатнулся и метров пять съезжал на ногах. Потом ухватился за камыш. Зеленый молодой камыш на время скрыл море. Продравшись сквозь его заросли, мы увидели черный вход в пещеру. Ребята переглянулись.
– Не бойтесь… У меня спички.
Мы вошли в пещеру. Потолок ее был влажен и низок. Спичку задуло. Я снова зажег ее и увидел глаза Саши – они были распахнуты, как окна, они ждали чуда… Шаги мои раздавались гулко, пол пещеры был каменным. По стенам двигались тени, наклоняясь над нами. Пещера стала шире, под нашими ногами то справа, то посредине, то слева бежал широкий ручей.
– Холоднючая, – сказал Жора о воде.
– Тише… Вы слышали? – спросил Саша.
Лицо его было серьезно. Я прислушался, но ничего не услышал. Только капала вода с потолка да чуть слышно шелестел ручей.
– Кто-то кашлянул, – сказал Саша.
– Врешь, – испуганно предположил Жора.
– Я слышал кашель, – упрямо повторил Саша.
– Твое же эхо, – успокоил ребят я.
В это время погасла спичка. Жора охнул и ухватился за меня. Я нащупал Сашину спину и ощутил, как колотится его сердце. Я даже не предполагал, что стук его можно почувствовать через спину.
– Сейчас я зажгу спичку. Тут никого не может быть.
Когда неяркий свет осветил пещеру, ребята засмеялись.
Теперь им было немножко стыдно.
– Дальше я не смогу пройти – низко. Кто возьмет спичку и пройдет вперед? Через сто шагов будет поворот налево, надо дойти согнувшись до развилки пещеры и пойти по правому ходу. Шагов около двадцати. Там будет тупик. Под плитой лежит старый портфель, в нем карта, компас и финский нож. Ну, кто?
Пауза была недолгой.
– Я, – сказал Саша.
– Я бы тоже мог, но не хочется, – сказал Жора.
Я показал Саше, как держать спичку – головкой вверх, передал коробок мальчику и хлопнул его легонько. Он пошел, словно по инерции толчка, и скоро свет стал неразличим.
Прошло минуты две, и Жора не выдержал.
– Можно закричать? – шепотом спросил он.
– Валяй, – разрешил я.
– Са-ашк!
Жоркин крик прозвучал как-то жалко и быстро погас. Ответа не последовало.
И я вспомнил другой крик в пещере. Это было под Аджи-Мушкаем, в каменоломнях, в Крыму. В войну.
Как он кричал! Я никогда ни до, ни после того не слышал такого крика. Так люди не кричат. Так даже звери не кричат… Немцы пытали его трое суток, и, когда его привезли полуживого в госпиталь, все пережитое снова встало перед ним, и, наверное, теперь, после того, что он знал, что это такое, было еще страшнее. Его звали Христо, он был грек, учитель в Керчи, жил там с детства и знал ход в пещеру, которая соединялась с каменоломнями. Мы отбили его во время контратаки ночью. И тот самый сотник Бойко, о котором я уже говорил, вынес его к катеру на руках. «Христос ты, не Христо, – сказал старик, покачав головой. – Неужели это люди?..» – говорил он о немцах. Мы положили его на палубу и покрыли шинелью – страшно было смотреть, так его изуродовали.
– Сашка! – закричал Жора радостно.
Да, это был он. Шлепанье ног по воде, и Саша появился из темноты. Я высоко поднял руку с зажженной спичкой.
– Ни-ни-ничего… – Саша говорил, заикаясь от холода. Он обхватил руками плечи. – И совсем не страшно. Ничегошеньки нет.
Конечно, а что же могло быть в пещере моего детства?
Неужели сам я верил в карту, компас и финский нож? Нет, конечно. Я верил в Сашу. Знал, что он дойдет до конца.
Когда мы выходили из пещеры, Жора снова закричал, уже не спрашивая меня, радостно и громко, как молодой петушок. Солнце било в глаза ярким полукружием из-под свода пещеры.
Потом мы лежали в тени от скалы на узкой кромке берега, и волны лизали ребячьи пятки. Я снял гимнастерку и сидел, глядя на белые бурунчики у скал. Ребята молчали. Головы их, стриженные «под нулевку», были в песке. Саша лениво чертил что-то пальцем по гравию, и вода просачивалась под пальцем, наполняла бороздки и блестела. Когда-то так лежали здесь мы.
Мои воспоминания прервал Жора:
– Дядя Боря, мы пошли домой.
Я пожал их смуглые ладошки и провел рукой по ежикам – рыжему и черному.
Они карабкались вверх, весело переговариваясь.
Море изменило окраску. Теперь по сиреневому тону прошлась светло-зеленая кисть – дважды: на горизонте и в стороне маяка, далеко справа, за мысом.
Когда ребята скрылись за выступом пещеры, помахав мне на прощание, я разделся совсем, отстегнул протез и положил его рядом. На черной лаковой поверхности протеза отражались облака. И казалось, что протез запотевает, как холодное стекло.
СОКРОВИЩА «ЭЛЬПИДИФОРА»
Вернувшись из пещеры, я долго плутал среди развалин. Анапу я не узнавал. Вся главная часть города оказалась разрушенной до основания. Огнем войны были сметены зеленые заросли Пушкинской улицы, Пушкинского сквера, вырублена аллея акаций, ведущая к парку «Курзал» (он занимал всю оконечность полуострова «Плоский Стол», что по-турецки и означает «анапа»), разметен, изгажен Высокий берег, до маяка застроенный когда-то красивыми старинными особняками в восточном стиле. А где они, специфично греческая Кубанская улица и район Греческого переулка с неповторимыми запахами кофе, с лавчонками, где продавали пряности, золотую копчушку и кишмиш, с бесконечными подвальчиками, где в полутьме чуть брезжили цветные фонарики и дышала прохлада, насквозь пропитанная кисловатыми запахами рислинга и каберне, подвальчики, где в былые годы сталкивали стаканы греческие матросы, и французы, и итальянцы, и турки, и болгары?..
В порту тогда стояли пароходы с разными флагами, с розами на трубах и желтыми полосками, а мы шныряли между тугими буртами пеньковых канатов, ящиками с финиками, бочками с розовым маслом, впитывая разноязыкий говор, запахи дальних стран, получая веселые подзатыльники и редкие монеты в обмен на золотые грозди шашлы и зеленовато-матового чауша… Вся пристань шумела, лязгала, скрипела лебедками, хохотала и размахивала загорелыми руками.
У меня до сих пор в ушах стоит ее солнечный, крепкий, просоленный гул!
Вдоль мола ходили ялики, и матросы ругались нещадно, когда наши стриженые головы неожиданно выныривали из зеленой волны рядом с их тяжелыми веслами.
Мы заплывали и к пароходам, стоящим на рейде, оттуда было далековато до пристани, где волны были как качели большого замаха, а вода холодная и темно-синяя. Наш ялик «Альбатрос» шел за нами и страховал, что оказалось однажды весьма не лишним: у Саши свело ногу возле самого «грека» – парохода под греческим флагом – и мы едва успели вытащить его, так как под киль всегда тянет, это знает любой, кто плавал возле парохода.
Саша вообще притягивал к себе опасность. Однажды морской кот пропорол ему живот и грудь так сильно, что на всю жизнь остался шов от пупа до левого соска. Он молча доплыл до лодки, истекая кровью, и потерял сознание на обратном пути, когда мы с одним знакомым – греком Герой, – испуганно налегая на весла, торопились к берегу. Гера был худой, пучеглазый и большеносый врун вроде Мюнхаузена. Имя у него полное было Геракл, но, кроме имени, ничего общего с его легендарным предком.
Гера этот втянул нас и в авантюру с «Эльпидифором». Так назывался военный корабль, затопленный неподалеку от Анапы во время гражданской войны. Гера имел достоверные сведения, что на нем белые пытались увезти богатство в Турцию, что там погребены не только шкатулка с бриллиантами, но и редкое оружие, например: кортик адмирала Корнилова с золоченой рукояткой, черкесские серебряные кинжалы, – и прочее богатство, среди которого находятся и бочки с турецкими монетами.
Однажды на рассвете, пока рыбаки не вышли в море, мы проплыли вдоль скалистых берегов Высокого берега в сторону острова Утриш и бросили якорь возле бурунов, образуемых мачтами затонувшего «Эльпидифора».
Берег в километре, а может, и ближе. Гера набрал воздуха, его ребра еще больше обтянуло. Прижимая камень к плоскому животу, он нырнул. Сначала мы видели пузырьки на том месте, где раздавалась вода под хилым Гериным телом, потом и пузырьки пропали, а маленький Геракл все не показывался. Мы перепугались. Секунды стучали в наши сердца, ужас подкрадывался к животу, я спросил: «Как ты думаешь, он уже достиг палубы?» Саша, бледный и дрожащий от холода и страха за Геру, покачал отрицательно головой. Оба мы понимали, что времени прошло достаточно для того, чтобы исследовать все каюты «Эльпидифора», а не только достичь палубы. Мы гнали от себя страшную мысль, но с каждой секундой она становилась реальнее: Гера погиб.
Тогда Саша, промычав что-то совсем невнятное, схватил второй камень и, судорожно хлебнув воздуха, прыгнул в воду. Меня обдало брызгами. Я ничего не успел сказать. Лодку качало. Я уставился на то место, куда провалились Гера и Саша. Вода была прозрачной и спокойной, и я некоторое время видел, как туманная тень Саши прошла по касательной к темному очертанию борта, проступавшему по мере того, как всходило солнце, и стала подыматься вверх.
Он вынырнул и, тяжело задышав, саженками подплыл к лодке. «Сволочь, – чуть не плача сказал он, – я его убью…» Саша не мог прийти в себя и задыхался. Я помог ему взобраться в лодку. Он кинулся к корме, оттолкнув меня, и тут только я увидел, что Гера держится за борт сзади меня, стыдливо отводя выпуклые свои коричневые глаза. Саша замахнулся, но Гера нырнул и отплыл в сторону. Ну и смеялся же я! Но Саша весь трясся от гнева, и я насилу уговорил его простить Геру.
Тот порядочно замерз в утреннем море и уже только стучал зубами, когда мы его выловили. Потом мы ели бутерброды и толкались, чтобы согреться. Гера божился, что у него выскользнул камень. На вопросы наши о том, что же он все-таки видел, Гера бормотал что-то невнятное насчет песка, который попал ему в глаз.
Саша серьезно сказал, что корпус бронированный, заклепки ржавые, краска облезла всюду, что лежит «Эльпидифор» на боку, что каюта досягаема, так как иллюминаторы разбиты. Он видел рыбок, вплывающих внутрь. Но больше ничего не может добавить, так как больше смотрел по сторонам, ища тело Геры.
Наступила моя очередь. Я снял майку, взял камень, последний, самый тяжелый, и, медленно набрав воздуха, соскользнул вниз. Сначала погружение шло нормально и довольно быстро. Я увидел, как каюта поплыла вверх, и тут почувствовал, что грудь сдавило; я выпустил камень и поднялся к ряду чернеющих иллюминаторов, ухватился за край одного из них: внутри было полутемно и мне показалось, что я вижу край стола. В висках болело, но я успел просунуть вторую руку внутрь и нащупал что-то мягкое, струящееся, оттуда метнулась стайка рыб, и вдруг это «что-то» двинулось ко мне… Я почувствовал ужас: мне показалось, что я держу за волосы женскую голову! Я заработал ногами, ударился виском о край борта, почувствовал боль, ожегшую щеку и локоть, и чуть не потерял сознание, сердце разрывалось. Воздуха, воздуха!..
Как я вынырнул, не помню – все плыло, разноцветные пятна мелькали передо мной, только инстинкт поддерживал меня на воде. Я здорово нахлебался воды, не сразу услышал крики товарищей: оказывается, я плыл от лодки.
Придя в себя, я сказал, что не буду больше пытаться проникнуть в тайны «Эльпидифора», пусть все пропадет пропадом. Потом меня рвало.
Но мы все же вернулись еще раз на это место, запасясь камнями. Нырял Саша. Он взял с собой и длинную палку. Ему удалось пошарить внутри каюты, но палка сломалась. Никакой женской головы он не видел. «Наверное, это были водоросли», – сказал он.
Гера, много болтавший и оживленно комментировавший наши соображения, нырять отказался. Он притих и сказал, скромно отводя глаза, что вес его слишком легкий и его «дно не держит». «Ну, молчи тогда, – сказал Саша, – молчи и не смей никому рассказывать».
Больше прыгать не удалось – потянул западный теплый ветер, солнце скрылось, вода потемнела. Мы повернули домой, пообещав друг другу завтра, в обстановке полной секретности, встретиться в условленном месте, взяв на этот раз спецприспособление – железную палку с крючком и сетку для камня, чтобы не держать его в руках, а привязывать к поясу.
Нас удивило, что едва мы вышли на курс, обогнув мыс, как увидели лодок десять, державшихся поодаль друг от друга, но шедших в одном направлении, к «Эльпидифору». Мы разом посмотрели на Геру. Он сплюнул и стал внимательно рассматривать свой живот, будто видел его впервые.
Когда мы вытащили «Альбатрос» на берег, я спросил Геру: «Ты клянешься хранить тайну?» – «Как риба», – хрипло сказал Гера и почему-то провел рукой по горлу, наверное желая этим жестом подчеркнуть, что готов умереть под ножом. Саша вздохнул.
Попрощавшись с Герой, Саша сказал мне: «Помяни мое слово, он уже нас предал; эти лодки направлялись за сокровищами…»
Саша оказался прав. На следующее утро у Геры «болел живот», и мы поплыли сами с Сашей, но вскоре повернули обратно: за мысом нам открылась жестокая правда насчет Геракловой клятвы.
Армада лодок окружила бедные остатки «Эльпидифора». Добровольцы ныряли десятками, и вся вода на большом пространстве кипела и пенилась под телами энтузиастов легкой добычи.
Долго еще во всех кабачках стоял стон и слезы хохота. Старые рыбаки смеялись над «розыгрышем», который устроили якобы мы с Сашей «этим фрайерам». Так, обманутые Герой, мы неожиданно для себя попали в герои дня.
Ах, городок, городок, ты никогда уже не будешь таким, каким мы тебя знали когда-то! Ты будешь, вероятно, и лучше, просторней, многоэтажней, удобнее для жизни и отдыха приезжающих, но для нас ты никогда уже не повторишься, как не повторимся и мы!
Никогда не услышу я голос старого зазывалы-турка, сонно, но цепко смотревшего сквозь клубы ароматного дыма своей трубки, сидя на венском стуле на тротуаре, напротив лавчонки. Нас, детей, и не надо было зазывать! Как пахли ванильные трубочки, пирожные, только что политые кремом, еще теплые и пышные в его «кофейном зале», то есть под цветным навесом, прямо на тротуаре! А кофе! Кто умел его варить так, как в Анапе? Никто!
А Геронтидис, который продавал мороженое из больших узких запотелых бидонов, обложенных льдом, мороженое всех оттенков – от розового кисловато-свежего фруктового, до сливочного, шоколадного и зеленого фисташкового! Геронтидис стоял у Крепостных ворот в белом смокинге, распоротом в могучих плечах, но в любую погоду – с бабочкой. Рукава смокинга едва доставали до локтей его волосатых рук; белые, в полоску кремового цвета, брюки-клеш, безукоризненные усики и пробор; а когда покупатель внушал ему особое уважение, Геронтидис надевал даже белые перчатки с дыркой, из которой кокетливо торчал мизинец, и не торопясь говорил: «Соблюдайте свой интерес, дамочка, берите большую порцию. Гарантирую натуральный букэт…»
А давильные аппараты «английской марки», на которых почему-то стоял ярлык Ростова-на-Дону, красного, зазывающего колера! Они возвышались на каждом углу Пушкинской. Вы подходите к толстой веселой продавщице, она жестом фокусника моет стакан под струйкой искусственного фонтанчика, крутит ручку, подставляя одновременно стакан с капельками влаги под белый фарфоровый сосочек. Миг – и зеленый сок с кусочками мякоти струится и пенится: виноградный сок давят на ваших глазах. Вы пьете его – холодный, он туго проскальзывает в горле…
В «Курзале» ежевечерне играл оркестр – моряки, смуглые, в белоснежных форменках, стайками вперевалочку вышагивали за смущенными девушками, которые обязательно держатся за руки, будто боятся, что кого-то из них вот-вот должны похитить. Девушки и говорят и смеются немножко громче, чем они говорили бы и смеялись в другой обстановке; моряки же более равнодушны, чем на самом деле, и немногословны – молодые еще. Парочки в «Курзале» тоже имеют свои места: зелеными террасами, буйно поросшими сиренью, спускается парк к берегу, чтобы вдруг остановиться крутым обрывом. Но и там, под обрывом, слышится приглушенный смех, светится в непроглядной южной ночи папироска. Скалы образуют бухточки и лагунки. Море здесь шепчет что-то, уговаривая берег, нашептаться не может…
Только иногда, словно нехотя, проползет луч прожектора по кромке берега, обнаружив нечеткие тени сидящих между скал, побежит по сонной воде Малой бухты и спрячется за мысом. И снова всезнающее море начинает шептать что-то вечное, настойчивое…
Каким большим показался мне этот день, первый послевоенный день в Анапе! Только к вечеру вернулся я к тете Лизе. Лампа горела на подоконнике, чтобы мне было виднее. Электричество погасло, и тетя стояла на стуле, пытаясь поправить пробки. Я вошел как раз тогда, когда она ввинтила пробку и свет залил комнату. Лампа еще продолжала гореть, и эти два света – сильный, веселый и тлеющий, чадящий– как бы соревновались. Побеждал сильный и веселый. Я дохнул сверху в стекло лампы, и она погасла.
Тетя, сидя за столом, ласково смотрела на меня. Мы поели мамалыги с молоком и легли: тетя на кровати с никелированными шариками, а я на раскладушке. Мы долго вспоминали общих знакомых, родственников, моего дедушку.
Потом тетя замолчала, и я услышал по ее дыханию, что она спит. Взошла луна. Где-то кричал кот. Потом кто-то шептал и смеялся под нашим окном на улице. Потом стало тихо. Я закрыл глаза и старался представить дедушку. Давно это было.








