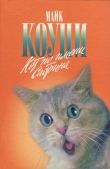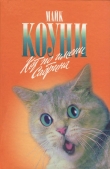Текст книги "Лесничиха (сборник)"
Автор книги: Владимир Битюков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
Старуха, посмеявшись невесело, ворчит:
– Каких только не бывает…
Известие это лишь на мгновение радует Якушева. «Чему я радуюсь?» – тут же обрывает он себя, снова и снова вспоминая, что Серега благодарил его за то «освобождение» от Сельэлектро. Искренне, истово благодарил… Только вот зачем ему надо было врать насчет своей служебной карьеры?..
Голова у Виктора кружится, он невольно встает:
– Пора…
Притихшей какой-то, смущенной толпой все выходят вслед за ним на улицу. Ситников неожиданно обнимает его, просит не торопиться.
– Надо, Иван Семеныч, надо. С утра завтра ответственная работа, – говорит Виктор, оглядывая свет в окнах и на столбах. И близко смотрит в глаза Семеныча, бабки Пионерки и всех остальных.
– Спасибо вам…
– За что же? – грустно отвечают.
– Может, отвезти тебя? Я Петюшке своему скажу, он отвезет, у него есть права, – тихо, снова обнимая его, говорит Ситников.
– Не надо, я пешком… Хочу пройтись, прогуляться. А машину… Пусть ее ваши к утру завтра подгонят, я буду идти потихоньку, идти и идти.
– Да ведь полсотни же верст! – поражается кто-то, но тут же получает напоминание: «Упрямый он, с характером». И никто уже Виктора не отговаривает.
Только Пионерка жалостно всхлипывает:
– Увидимся ли еще, сынок?
Он наклоняется, целует ее:
– Обязательно, бабушка, обязательно… До свидания!
Он переходит светлую полосу улицы и ступает в густую синеву между домами. Черное поле рядом с дорогой встречает его шуршащей тишиной. Виктор ориентируется по звездам, чтобы идти вот так, идти и выйти утром к Узенску, и чтобы можно было не спеша обдумать прошедший, такой сложный, день. И чтобы всё прояснилось.
Но уже сейчас, идя по выжженному, смутно освещенному звездами полю и вспоминая Серегу Седова, он видит его до ничтожности жалким и одновременно – вызывающим к себе жалость, словно тот выпил весь остаток своего коньяку, рванул напрямик через поля к областному центру и в тоске-задумчивости врезался в овраг или в русло сухой, невидимой даже вблизи, речки. И может, лежит теперь где-то, стиснутый искореженной сверкающей коробкой «Чайки», и вороны слетаются к нему… Не от хорошей жизни, видать, приезжал он в степь. На что же он рассчитывал?

ПОЧТА ИДЕТ

Скрип железного протеза сливается с визгом сухого, пронизанного утренним морозом снега. Деревня будто прислушивается к неровному Прониному шагу. Сам Проня – хилый, заморенный, с мелким, покрытым редкими волосенками лицом, а ногу соорудил тяжеловесную – впору таскать богатырю. Трубы, рессорное железо, болты, пружины, сапожная лапка – все пошло в дело. Идет Проня, подпрыгивает, откидывает ногу, переваливается через нее. Левая, живая нога – тонкая, слабая, обута в стоптанный валенок – такая скорбная по сравнению с железной…
Каждое утро Проня вылезал из утонувшей в землю развалюхи, озирался голодно по сторонам, расстегивал рваную телогрейку, как будто на улице жарче, чем дома, выпячивал грудку колесом и шел на работу. По пути, как всегда, заходил в мастерскую, выставлялся там перед совсем еще зелеными механизаторами, хвастал по-заячьи своей силой, рассказывал небыль о своих подвигах, потом брал у трактористов шприц-тавотницу и накачивал в протез добрую порцию солидола. И уж после этого, под хохот ребятни, двигался дальше, в совхозную конюшню, запрягать костлявую кобылу Дуньку: он работал почтальоном, а за почтой приходилось ездить в район.
Много тогда сменилось письмоносцев. Были и такие, что попросту сбегали. И осталась бы Куриловка без почтовика – кого заставишь разносить похоронки! Спасибо Проне, его простоте, безотказному характеру, а еще больше – болтливому языку. Когда сбежал последний, молчаливый, словно пришибленный, старичок почтарь, Проня ляпнул при всех в конторе, что сам бы он такого не позволил:
– Да это же дезертирство! Стрелял бы я таких!..
Все, кто был в конторе, грустно посмеялись: кто не знал, что Проня Цыплаков за всю свою жизнь не обидел и мухи! Но директор совхоза, человек сметливый, тотчас поймал его на слове:
– Вот и докажите, что вы не из таких. Что у вас хватит мужества разносить письма.
Проня – туда-сюда, заметался вроде, да народу, особенно женщин, в конторе было много – выпятил грудь, запетушился:
– А что! Не смогу?! Да я… – И пошел выхваляться.
Тут же, поддакивая и кивая, оформили его письмоносцем, хотя приходил он требовать должность молотобойца. В кузне управлялась за всех женщина – Пашка Зимина. Проню это очень заедало, он доказывал, что нельзя бабе поднимать кувалду: «Мужичье это дело!» – «Но ведь нет у нас мужчин», – отвечал директор. «Как нет?!» – изумлялся Проня. Но директор смотрел мимо него, думал о своем. Проня вздыхал и уходил: его не считали за мужчину…
И вот совсем для себя неожиданно Проня стал почтальоном.
Целый месяц бродил он от избы к избе, толкал ногой калитки и ворота, сиплым, перехваченным волнением и потому каким-то не своим голосом предупреждал:
– Почта идет! – И лишь после этого отворял дверь.
Когда выходил, придерживая на боку кирзовую сумку, следом несся, раздирая душу, бабий крик. Проня приносил людям горе. Но это обычно по вечерам. Днем он чаще разносил радость – солдатские, сложенные треугольником, письма. Не спеша, улыбаясь, отдавал их, топтался у порога, слушал, кто чего пишет, просил попить и двигался дальше, далеко обходя избы, в которые он постучит потом.
В сумерках, когда на дне сумки оставался лишь тонкий четырехугольный конверт (бывало, что и два, бывало, что и три), Проня тащился по задам, ежась, как вор, и в то же время подстегивая себя голосом:
– Огни проходил, медные трубы!
Громко, точно забивал гвоздь, стучался в дверь, всовывал в трясущиеся руки конверт и спешно уходил. И все равно его догоняло, сбивало с ног чужое пронзительное горе…
Проня сызмальства был круглый сирота, никого не имел из кровных родственников, и теперь поговаривали, что хорошо, мол, ему, не по ком плакать. Он и вправду сроду не плакал. Даже по себе. Когда-то, еще мальцом-заморышем, он был то ли подкинут, то ли сам приполз откуда-то из неизвестности, и сельский шумный сход решал его судьбу. Проня – так впоследствии назвали его – с трудом подымал свою мятую, с морщинками у глаз головенку (цыплячья шея почти не держала) и улыбался людям. Улыбался беззубо, как маленький дряхлый старичок.
Решили приютить, кормить его всем миром. Да только когда слишком много родителей, дите обычно растет без пригляду. Жил Проня в Куриловке свободно, ночевал то у одних, то у других, летом – так и вовсе под открытым небом, лазил, куда ему не следовало лазить, и по слабости тела срывался, падал, еще больше калечился.
Лет за восемь до войны попал в силосорезку. Затянуло его в горловину машины: какую-то гайку пытался подкрутить на ходу. Еле вытащили Проню Цыплакова, пришлось разбирать борта силосорезки. И снова не плакал, хотя всего искорежило.
Нога – это после, перед самой войной. Свалился Проня, будучи прицепщиком, с жесткой рамы плуга, попал под лемех. Вышел из больницы полным инвалидом. Прыгает на одной ноге, о батог опирается, а на лице все та же улыбка, только волосы поседели – в тридцать-то лет. Да еще появилась привычка выхваляться: «Я да я…» Героем себя ставил.
Началась война, и те, перед кем он выставлялся – молодые здоровые парни, – ушли на фронт. Многие сложили головы в первых же боях, сложили как герои. Замолчать бы Проне, призадуматься – уж больно жалкая была его фигура. Ан нет. Еще пуще, с отчаянным упорством доказывал он свою значительность.
Женщины только усмехались, когда он хорохорился в холодном клубе перед совсем еще сопливыми пацанами:
– Я тут один управлюсь по мужицкому делу! Меня бабы-девки знают!
Бедный Проня…
– А может, ты про куриц говоришь? – бесстыдно выкрикивали ребята и вспоминали, как сразу после вольницы исполнял он должность завптицефермой (тридцать кур и три петуха).
Проня делал серьезное лицо, молчал значительно. Как ни холодно было в клубе, как ни пустынно, а все, кто ходил сюда по вечерам, прячась от тоски, катались со смеху.
Потом он надолго перестал ходить в клуб: задумал протез. Сперва чертил на бумажке, затем мастерил – голова у него насчет механизмов работала. Хотел доказать, что мог бы заведовать и мехмастерской, а не только захудалым курятником. Но одно дело – щупать кур, там особой грамотности не требовалось. Другое – совхозная механика: трактора, комбайны, прицепной инвентарь, электросварка, то, другое, третье. С Прониным трехклассным образованием разрешалось ее только сторожить.
Как бы там ни было, своей богатырской железной ногой Проня лишний раз пытался утвердить себя на земле. Уж больно желал, чтобы его замечали…
А может, заодно он хотел показать опустившим руки, убитым горем женщинам: «Вот я какой – обрубок, а держусь! Звон от меня идет по земле!.. Чего же вы, такие здоровые, а духом упали и жить не желаете?!»
Стояло белое утро: сильный мороз, но тихо, безветренно – в Сибири это чаще. Были бы ветра – и вымерла бы жизнь. Проня вышел из своей избенки как обычно – постоял, поежился, будто не решаясь сделать первый шаг, потом широко распахнул ватник, вскинул голову и с силой выбросил правую ногу. Загадал: куда нога, туда и он. Нога – в мастерскую. «Ого! – подумал Цыплаков, криво – для себя – усмехаясь. – Железка-то требует ремонту».
И точно: где-то между ступней (сапожная лапка) и первым звеном, а может быть, выше, под коленной осью, дребезжала поломанно пластина…
Проня вышагивает серединой улицы, серединой же – он всегда так ходит – идет навстречу директор совхоза. Видать, из конторы. Егор Андреевич встает раньше всех – высокий, интеллигентный, родом из Москвы, в сибирских пимах и в малахае. Идет, задыхается, тяжело ему: легочник. Ездил бы, как раньше, верхом на коне – мигом бы обскакал производственные точки; но нет: принципиальный, наперекор болезни – кто кого! – ходит пешком. Таких людей Проня уважает. Еще издали срывает с головы шапчонку:
– Здравия желаю, Егор Андреевич!
– Здравствуйте, товарищ Цыплаков. – Директор крепко жмет ему руку, близко наклоняется. – Что с вами? – спрашивает тихо. – Что-то вы заскучали в последние дни, ссутулились. Уж не собираетесь ли убегать?
– Кто, я-а?! – изумляется Проня. И действительно, чувствует сутулость. Выпрямляется так, что косточка какая-то хрустит в груди, улыбается снисходительно:
– Что вы, Егор Андреич!..
– Вот и улыбка тоже… – вздыхает директор и шагает дальше, сделавшись хмурым.
Проня отворачивается. Идет к мастерской: надо срочно отремонтировать ногу, потом запрячь Дуньку и ехать за почтой. Дел по горло, а дни теперь такие короткие…
Он входит в недавно навешенные, новые, но уже чумазые ворота мастерской, быстро привыкает к полумраку, оглядывает «цех». У разобранного – одни колючие колеса – трактора копошатся два бывших детдомовца – Колька и Митька, пацаны лопоухие. В стороне, у заваленного железным хламом верстака, склонился в поисках нужной детали заведующий мастерской старик Привалов. Седая борода на щеках, если смотреть сзади, делает голову его круглой. А вообще-то он старик сухолицый, худой.
Вечно голодные и злые пацаны при виде Прони бросают работу. «Сейчас будет цирк!» – светится в их круглых глазах. Привалов недовольно оборачивается и тоже перестает двигать руками: хоть и старый, а зрелища любит и он.
Проня громко со всеми здоровается, перескакивает через разбитый мельничный жернов – только искры сыплются, как от наждачного круга. Громыхает по лемехам и дискам, останавливается.
– А где Ольга? – спрашивает.
Трактористы хором отвечают, что Ольга заболела, грыжа у нее какая-то образовалась. Проня выжидающе смотрит на Привалова. Неужто старик не догадается пригласить его на место слесаря Оли Окоемовой? Хотя бы так пригласить, в виде шутки…
Привалов молчит, попыхивает цигаркой. Сын его только вчера прислал письмо, и теперь старик недели две не будет заискивать перед почтальоном. А то всё: «Нет ли письмеца, Пронюшка?»
Проня вышагивает дальше, в другой «цех», где и кузня и электросварка. Где хозяйничает Пашка Зимина. У Пашки на фронте муж, веселый и сильный кузнец Володя. Давно не пишет писем, хотя бы строчку какую прислал, хоть бы слово одно. Пашка совсем извелась за последние дни, осунулась. Работала, стучала молотком без всякого интереса…
В черном, слабо освещенном закутке пахнет угаром, железной окалиной, кисловато-терпким, освежающим: дымом недавно погасшей дуги электросварки. Брошенный на пол держак с огарком электрода касается «земли» – железного прута, аппарат в углу натужно тарахтит. Нервно подвывает вентилятор, нагнетая в поддувало печи воздух. Только шум, а работы никакой.
Пашка сидит на наковальне, уронив устало руки, смотрит куда-то в пустоту. Пашка в толстой брезентовой робе, местами прожженной и облохмаченной, в кирзовых стертых сапогах, в суконных – от жару – рукавицах. Мужикастая с виду. Но это теперь. Проня помнит, как до войны, когда Володя-кузнец еще только-только протирал глаза, он, Проня, уже видел ее всю как есть, без всего – купалась она за деревней в чистой речке – и поразился женской красоте. По-хорошему поразился, на всю жизнь. С тех пор часто видел Пашу во сне, одетую в лучшее легкое платье, розовую после воды, с голубыми, будто тоже омытыми, глазами…
Проня отодвигает прилипший держак, аппарат перестает тарахтеть. Становится тихо, только мерно гудит вентилятор, из углей выпархивают искры. За спиной у Прони суетятся, приплясывают от нетерпения ребята. Привалов глядит из проема двери, как святой в черной раме. Недвижим.
Проня подавляет громким кашлем волнение в груди. За войну он хоть и перестал видеть Пашу во сне, однако наяву нет-нет да и вспомнит. При ней он отчаянно чудит,
– Пашка! – громко окликает он ее, сидящую. – Эй, кузнец-молодец! Электросварщик!
Она поднимает глаза на Проню – такая жалкая, потому что большая. Силы в руках, во всем теле много, а душа будто увяла. Последнее письмо Володя написал три месяца назад, как раз перед боем…
Паша вдруг мертвенно бледнеет. Покрытое копотью лицо, будто из белого камня. Губы шепчут чуть слышно:
– Что-нибудь… пришло?
Забыла, что до обеда Проня не разносит почту. Одна дорога до райцентра и назад – считай полдня. Недаром до обеда Цыплакова никто не боится – Проня и Проня, чуть ли не юродивый. Но после полудня, а еще больше к вечеру бабы бледнели, едва он заворачивал в их сторону. Скрип железной ноги напоминал им давно забытую с детства, какую-то страшную сказку о смерти.
– Пишет, пишет… – не вдумываясь в свои слова, бормочет Проня.
Паша подымается с наковальни, ищет что-то на полу, берет поковку, кладет ее в жар, но все это вяло, машинально. Отвечает с большим запозданием, улыбаясь через силу:
– Больно долго…
Не голос, а стон. Его слышит только Проня. Ребятишки сзади изнывают от ожидания. Чтобы не прогнал суровый Привалов, начинают копаться в груде железа, будто выискивают болт или гайку.
Наглядевшись на Пашу, как она двигается сутуло, как улыбается с болью, Проня вдруг страшно захотел водки, самой что ни на есть горькой отравы, хоть был непьющий. Когда-то попробовал на спор выдуть, не закусывая, целых пол-литра, выпил, не поморщился, показал себя, а минут через десять побрел в кусты помирать. Еле отходили.
– Еще попляшешь ты у меня, Паша милая! – неожиданно топает «железкой» Проня, встряхиваясь как драный петушок. – Бабы пляшут! Я им вот так… – повел над головой ладонью, – трехуголочку, а они вприсядку вкруг меня, вприсядку!
Позади хохочут пацаны:
– Вприсядку! Это бабы-то?
– А я стою, смеюся, держу высоко! – продолжает врать Проня. – И тебе, Паша, подержу, вот погоди! А потом… – он захлебывается радостью, – и сам пройдуся по кругу. И-их! – приседает, отбрасывает ногу. Протез жалобно клацкает, дребезжит.
Паша раскраснелась – то ли от жару (она стоит у огня), то ли представив себе этот радостный день.
Проня быстро ощупывает ногу, точно она живая, морщится как от боли. В глазах колышется мутная влага.
– Как же я буду плясать-то?.. – бормочет. – Ремонт нужен.
И громко, с прежней бесшабашностью оборачивается к Зиминой:
– Тут подпорка отломилась. Привари, Паша! Привари!
Задирает штанину, засучивает выше колена. Железная нога страшна своей обнаженностью. Один из трактористов замолкает, другой еще пуще заливается хохотом:
– Это ногу-то! Варить?..
Привалов осуждающе покачивает головой, однако заинтересованно молчит. Паша, все еще розовая, будто действительно только что сплясала за письмо, хватает с подоконника щиток, другой рукой подтягивает провод, опрокидывает какую-то коробку, ищет фабричный электрод.
Руки у нее трясутся, когда она вставляет электрод в держак.
Проня между тем уперся протезом в «землю», командует:
– Вари, не жалей!
Чего «жалеть» – это понимает только Паша.
Ослепительная, бешеная пляска белого света, дым, пары железа – и неподвижно стоящий (двигаться нельзя) Проня. Протез заземлен не очень надежно, и через тело, через сердце Прони проходит электрический ток. Бьет сладко и больно. Живая нога вздрагивает в поджилках, пританцовывает.
– Гляди не отрежь напрочь! – смеется, заглушая шум и хохот ребят, Проня. Уж очень долго Паша держит дугу.
Яркий свет внезапно пропадает. Ослепленными глазами Проня таращится на Пашу. Она отстранила от лица щиток и теперь проясняется из темноты и дыма. Лицо снова бледнеет, становится усталым.
– Всё. На сто лет хватит, – отвечает Паша.
Поднялась, не распрямляясь до конца, пошла вытаскивать нагретую болванку.
– Дай-кось я ухну! – предлагает благодарный Проня, подпрыгивая на «подлеченной» ноге. Хватается за рукоять кувалды.
– Уйди-и… – стоном, еле слышно просит Паша. Здесь она все делает одна.
«Уйди от нее!» – тревожно рукой подает знак Привалов. Пацанов уже не видно, их словно и не было.
Проня глядит Паше в глаза. Они стиснуты веками, страдают. Прониной выходки, чтоб развеселить их, хватило лишь на несколько минут.
Паша косится в его сторону, будто камнем бьет. И хоть не говорит вслух, а взглядом выражает суровое, уже слышанное Проней от других: «Хорошо тебе, не по ком плакать…»
Проня зачем-то срывает с головы шапку, снова надевает.
– Ну ладно, я пошел, – улыбается он перекошенным ртом. Протягивает руки к огню, зябко трет ладони, ёжится. – Спасибо те, Паша…
– Не за что.
Он не помнит, как вышел из мастерской. Белое утро в глазах стало рябое. Темные пятна плывут, падают под ноги. Проня спотыкается, хватается за воздух, того и гляди упадет.
– Уйду! – шепчет он отчаянно. Хотя еще не знает, куда ему уходить. Если разобраться, уходить-то ему некуда…
В конюшне тихо. Все лошади давно разобраны, еще с потемок выполняют тяжелую работу. Одна старая облезлая кобыла Дунька стоит, как забытая, в дальнем углу. На ее спине пригрелись воробьи.
Собрав в каморке конюха все, что осталось из сбруи (а что остается? – рванье, старье), Проня подошел к разбитым, связанным проволокой розвальням. Дунька приблизилась сама, покорно подставила голову. Он накинул ей на шею просторный, с веревочными гужами хомут, молча, без обычных прибауток завел в оглобли. Когда запряг и огляделся, обнаружил, что невдалеке возле конторы стоит полуторка, а около нее – кучка народу. Как раз бы выкинуть какой-нибудь номер: люди смотрели в его сторону; но и теперь он ничего не сделал, понуро сел в сани, чтобы ехать за почтой.
Из-за угла конюшни, будто специально его дожидалась, выбежала соседка Паши Зиминой – всегда неприметная Уля Котомкина.
Вечно в заботах, худая, замученная – слишком много нарожала до войны – Уля заискивающе здоровается с Проней:
– Здравствуй, Прохор Иваныч!
По отчеству отметила, что совсем необычно. По отчеству обращается с ним только директор Егор Андреевич Королев.
«Пишет, пишет», – хотел ответить Проня, но Уля опередила его.
– Ты погоди-кось, Прохор Иваныч!
Она смотрела на него жалобно и в то же время с открытой надеждой. Он вспомнил, что совсем недавно приносил ей письмо от мужа. Чего ей еще?
– Тут я все разузнала, – зачастила Котомкина, таинственно кивая в сторону конторы. – Тут машина уходит в город!
Городом она называла райцентр – большое старинное село. Проня молчал, сидя в санях, как в плоском гнезде, смотрел на Улю, склонив набок голову.
– Не пойму, – ответил угрюмо.
– Да как не понять! – обрадовалась Уля. И темное лицо ее просветлело. – Сено мне надо из логу вывезти, а лошади нету. Всех разобрали. А ночью тоже нельзя, говорят: отдых им нужен. И верно. Отдых всем нужен, особо скотине.
– Ее, что ль, хочешь? – кивнул он на Дуньку.
– Во-во, Почтальоншу… то есть Дуню, – почтительно поправилась Котомкина. И зашептала ласково, по-матерински: – А ты, Проня, залезай в машину. Там тепло-тепло! Слетаешь за почтой, а я тем часом сено и вывезу. Я помаленьку буду, по беремечку. Понимаю тоже – лошадь не сильная.
Проня молча вылез из саней, передал женщине вожжи.
– Это как же ты так? – удивилась Уля. – Хотя бы слово сказал!
– Ладно, чего там… – буркнул Проня, торопясь к конторе.
И вот он сидит в кузове машины, уцепившись за дребезжащий борт. Попутчики-сельчане, все больше бабы, теснятся у кабины, у газогенератора: там теплей. Цыплакову очень холодно, но он по привычке это не показывает. Распахнутый ворот телогрейки то и дело открывает на его груди голубую зябкую наколку: «Есть в жизни щастье!».
…Наколку Проня сделал давно, еще до того, как попал под лемех. Встретил его как-то один на один детина по прозвищу Кипятуля. Шел он враскачку, подметал пыль широченными клешами, стягивал к плечам распоротую до пупа рубаху и орал на всю улицу:
Иех! Когда мать меня рожала —
Вся милиция дрожала!..
Проня почувствовал трепет в поджилках, однако с дороги не свернул и глаз не отвел, хотя уже мысленно простился с жизнью: это шел его единственный (в ту пору) враг, только что вернувшийся из заключения. Когда Кипятуля, этот лодырь и вор, упер из конторы тяжелый, как трактор, несгораемый сейф, то был пойман совхозными ребятами. Как медведя, обложили Кипятулю маленькие, но цепкие, сильные своей многочисленностью пацаны. Грабитель запомнил лишь одного, самого заморенного – Проню Цыплакова и пригрозил, что раздавит его, как только вернется на свободу… И вот они встретились. Проня весь сжался; и когда получил первый, исподтишка, но страшный тычок кулаком – не закричал, не заплакал. Никто его никогда не бил, жалели, один Кипятуля ненавидел и каждый день втихаря пересчитывал ребра. Цыплаков не жаловался никому, терпел, мало того – наперекор подлейшей по своему смыслу надписи на широкой груди Кипятули «Нет в жизни щастья», нацарапал на бумажке «Есть!..», приложил трафаретку к своей грудке и ржавым ученическим пером сделал глубокую наколку. С той поры и появилась у него привычка ходить с распахнутой, какая б ни была погода, грудью. Часто-часто, пока бандюга снова не попал в тюрьму, надпись Пронина взбухала синяками, становилась неразборчивой.
– Нет! – угрюмо, с тупой яростью бил Проню Кипятуля.
– Есть! – упрямо отвечал, вставая с земли, Проня. – Есть! – И улыбался таинственной улыбкой…
…Проня смотрит на мелькающие поля и перелески, на дальние неподвижные сопки. Ветер хлещет по щекам наотмашь, с каждой минутой все сильней. «Эх и газует!» – думает Проня о шофере. Машина, однако, движется все медленней, дорогу косо перебегает поземка – она задерживается на ухабах, вздувается сугробами.
– Может, вернемся? – кричит, высовываясь из кабины, шофер Ленька Огневых. Спрашивает, видать, совета у старших.
Бабы дружно и крикливо протестуют, поднимают Леньку на смех: испугался, мол, легкого ветру.
– А у каждого в городе дела, срочность! – надрывается, придерживая корзину с мороженым молоком, толстая, закутанная в тулуп жена агронома. Она наморозила молоко в глубоких мисках и теперь едет продавать кругляши: услыхала про хорошую на базаре цену.
– Мне-то что! – бодро ответствует Ленька. – Я поеду! – Это должно было означать: засядем – вам же и откапывать машину…
– Как, однако, меняется погода, – только и сказал за всю дорогу Проня.
Щеки и нос у него побелели – бабы давно ему об том кричали. Сказав, он принимается растирать лицо, чувствует, что немного обморозил. Ему хочется сказать что-нибудь еще, чтобы потереть и культю (железо обжигает ее нестерпимо), но Проня стесняется: больно короткая культя…
В сумке с письмами на фронт лежали в особом отделении две печеные картошины – Пронин обед. В «городе» прежде всего тянуло побежать в чайную, попросить кипятку, согреться, а уж потом идти на почту сдавать-принимать корреспонденцию – слово это Проня выговаривал с трудом. Однако машина – не кобыла Дунька, машине нельзя ждать, когда Проня Цыплаков насытится чаем.
А тут еще Ленька Огневых заныл, подпевая метели:
– Спешите по своим делам! Глядите, что творится!
На задах, за «городскими» избами, хлестались, сшибаясь и падая оземь, снежные тучи. У базарной площади было потише, и, может быть, поэтому агрономша стала возражать:
– Лучше переждем, чем ехать в таку прорву! Чего там торопиться! Чего нам делать дома!..
Проня терпеливо слушал спорящих, но, так и не дождавшись, когда они договорятся, махнул рукой и пошел, преодолевая ветер, по своему делу.
Через полчаса, а может и раньше, он вышел из почты и чуть не задохнулся от густой снежной пыли. Вокруг все металось, выло. Проню крутнуло, смахнуло с крыльца, он успел ухватиться за забор. Штакетина оторвалась и осталась у него в руке.
Проня шел теперь, подпираясь штакетиной: все равно никто не видит, а у машины ее можно выкинуть.
Почти на ощупь, натыкаясь на залепленные снегом стены домов, отыскал он место, где слезал с машины. Полуторка куда-то запропастилась. Проня без толку прождал ее около часу, обошел площадь, весь базар – там за длинным прилавком стояла одна агрономша. Кутаясь в тулуп, она громко проклинала покупателей:
– С голоду будут подыхать, а на воздух не вылезут! Паразиты…
– Когда поедем-то? – спросил ее Проня.
– Когда всё продам! – был резкий ответ.
Цыплаков не обиделся. Он сроду не серчал, а теперь, когда в его сумке лежали газеты и письма, и письма все простые, треугольнички, и ни одного официального с фронта – он даже улыбался.
– Ты это к чему? – насторожилась торговка. – Может, мне весточку? А?.. Пронюшка!
– Пока не смотрел. Дома погляжу, дома! – честно сказал Проня.
Сегодня ему очень хотелось перед тем, как разнести почту, зайти в свою пустую избу, затопить печку, сесть у огня и не спеша перебрать письма. Глянуть, кому выпало счастье…
– Погляди щас, – настаивала агрономша. – Не поедем мы нынче, вон какой буран! Заночуем в совхозной экспедиции.
– Да вы смеетесь! – ахнул Проня. – Не, нельзя мне тут. Ни в коем случае!
Ветер сорвал его с места, понес в сторону совхоза.
– Во! – сквозь белую замять орал Цыплаков, перекрикивал бурю. – Сам ветер меня в зад пихает! Спеши, мол, Проня!..
– Дурень, – отзывалась агрономша. – Замерзнешь! Занесет тебя!
– Чирей те на язык! – беззлобно отбрехивался он, шагая по уходящей в поле улице.
Выйдя на пустынную дорогу, Проня разглядел, что полем идти легче, меньше заносов. А еще лучше – прямиком. Если вдоль дороги восемь верст, то впрямую – не больше пяти.
Ветер стал какой-то ненормальный: то в бок толкнет, то ударит в лицо, то снова пихнет в бок, только в другой. Круговерть такая, что страшно подумать. Ватник и тот приходится застегивать. Шапку и ту надо завязывать. Чтоб не слетела…
Становится тесно и колко от холода. В голову упорно лезет мысль, что ветер бьет со всех сторон лишь потому, что сам он, Проня, сбился с пути.
– Железка, что ль, длиннее? – вслух рассуждает он. – Иль шибко далеко ее бросаю?
Глянул назад, на свои быстро заносимые следы, определил:
«Не, наоборот. Живая дальше ходит, вон как сигает!.. Значит, кручусь я все время в правую сторону. Как юла!»
Остановился. Стоит – согнувшийся, маленький, будто придавленный бураном. Перед глазами мелькают, исхлестывая небо и землю, белые змеи. Ветер и теперь со всех сторон, не ветер – вихрь несусветный…
«Шел бы дорогой, по столбам, – чудится Проне голос агрономши. – Дурень ты, дурень…»
– Плевать! Допрыгаем, – перекрикивает Проня непогоду. Рисуется сам перед собой. – Песню бы какую запеть! И-ех!..
Но ни одна песня не приходит на память. Правая нога глубоко, по самый пах, втыкается в снег. Трудно вытаскивать. Натертая культя чует едкую сырость – раскровянилась, что ли, а может, снег попал в тряпичную обертку. Ремни вокруг бедра и поясницы слабеют, будто Проня усыхает с каждой минутой.
– Это все мелочь! – смеется хрипло Проня, делая порывистый шаг вперед. – Огни проходил, медные трубы! А это – что…
Давно бы пора быть оврагу перед Куриловкой. Проня готовился сорваться с любого обрыва, но каждый следующий шаг нащупывал болезненную твердость.
Время от времени совсем неожиданно вырастали кряжистые сосны. Откуда они, из каких мест? Проня, сколько ни напрягал память, не мог признать эти сосны знакомыми.
Потом стал натыкаться на кусты, падал, попадая «железкой» в перепутанные под снегом тугие, словно капкан, ветки. Лежать было сладко, как на перине. Проня ни разу не спал на перинах, он только видел их в избах у других.
Так же резко, как и падал, вскакивал, пугаясь, что может задремать. Вслух доказывал:
– Почта, срочность… Надо донести… – Остановился. – Вот только пообедаю. Для силы!
Проня достает из сумки картошину, грызет ее, твердую как камень. Подумав, съедает и вторую.
– Теперь я как лев! – покрикивает он, продираясь сквозь густой кустарник.
Снова упал. И снова поднялся, скрипя ремнями и железом. Сплюнул подступившую – затошнило что-то – слюну. Снег у ног окровавился.
– Ну и картоха! Никак последний зуб обломал! – через силу все еще чудит Проня.
И вдруг ему захотелось заплакать. Просто так заплакать, как плачут все. Понял и поверил, что дальше – ну сто шагов он сделает, ну сто пятьдесят. А потом – всё. Упадет и не встанет, не захочет вставать…
Голая, как будто он снова начинает свой путь, равнина.
– Тыщу, тыщу шагов! – шепчет он, задыхаясь. И начинает считать, боясь сбиться со счету.
Огромная тоска сжимает сердце. Как жалко себя! Любой дошел бы, а ему не суметь. Сквозь мягкую нежность – он снова в снегу – доносится желанный (давно припоминал!) мотив. И слова – чистые, яркие, точно цветы:
Живет моя-a отра-а-да
В высо-оком терему-у,
А в те-ерем тот высо-окий
Нет хо-оду никому…
Среди разноцветных полевых, а может, горных – все в гору, в гору – цветов стоит, озаренная закатом, Паша, совсем еще юная и тонкая. Дорога к ней крутая-крутая, не сделать и шагу. А Паша легкая-легкая, того и гляди улетит. И вот она вздымает руки. В руках, вдруг напрягшихся до хруста, чернеет пудовая кувалда.
– Погоди! Не бей! – силится крикнуть Проня. – Я письмо тебе несу!.. – Больно долго… – доносится стон.