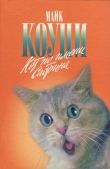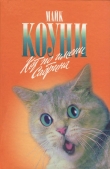Текст книги "Лесничиха (сборник)"
Автор книги: Владимир Битюков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
– Могу соврать, как нацарапано в паспорте. Хошь?
– Нет. Я с тобой как человек с человеком.
– Тогда хрен его знает. Может, в поезде, в дороге, а может, даже и тут, в Алексеевке… Не помню. Пришел в сознательность аж только в детколонии.
– А если и на самом деле здесь? – спросил Витька с еще большей осторожностью, уставясь в его тусклые глаза.
– Все может быть. – Сема лихо вскинул голову. – Вот как подзаложу за воротник, любое место кажется своим. Готов все обнимать и целовать!
– А в трезвом виде – все чужое? В трезвости – на все можно плевать?
– Ты это о чем?
Витька сдвинул брови:
– Я все о той пожилой женщине, у которой ты требовал пол-литра. Забыл? Ты еще вбил кол напротив ее ворот. Может, она твоя мать!
– Да ты что? – вздрогнул Подгороднев. – Ты что…
– А ты вот сходи узнай ее биографию! – сурово продолжал Якушев. – Одинокая, больная, в войну растеряла детей. Может, один из них – ты? Сходи узнай. Сема.
– Слушай, начальник. Такие шутки лучше брось!
– Вот так, Сема, – тихо сказал Витька. – Давай и в трезвости любить все кругом. А то – кто знает… – Вздохнул, обошел Подгороднева и, пересиливая ветер, зашагал по улице.
Теперь он твердо знал, куда идти. Туда, откуда ушел Подгороднев. Он встанет рядом с Васькиными и будет работать несмотря ни на что. И метаться больше не будет, Хватит.
Краем глаза посмотрел назад. Сема шел следом. Его телогрейка, распахнутая ветром, казалась крыльями большой серой птицы. И весь облик Семы был какой-то птичий – беркутиный, пронзительный.
Серега Седов всю неделю звонил, вызывал к телефону, а Витька не шел, чтобы не взорваться при свидетелях. И тогда Серега приехал сам.
„Катафалка“ глянула в окно белыми холодными глазами и забибикала призывно. В избе было тихо, тепло, пол свежевымыт. Пионерка отправилась в клуб, и Витька грустил в полумраке один, если не считать Кудесника. Сидел, не торопился выходить, ждал чего-то, упивался местью. А когда, не выдержав, оделся и выбежал на вызов, „катафалка“ неслась уже по улице, уменьшаясь белым, с траурной каймой, пятном.
Якушев стоял на дороге, тревожно представляя, как Серега подъезжает к клубу, открывает дверь, осматривается, видит Сопию и подходит к ней улыбаясь, может быть, даже с живыми цветами.
Кто-то шумно и жарко дыхнул в затылок. Витька оглянулся и отпрянул в сторону: перед ним, выскаливая пасть, стоял на дыбках Любимчик. Мерин напоролся на удила и храпел, разбрызгивая пену.
На санках, натягивая вожжи, полулежал председатель колхоза.
– Ты что, уснул?! – взгаркнул, отходя от испуга, Ситников. – Ты что, Львович? Аль задумался?
Вылез из санок, подошел, заглянул в глаза.
– Эх, да как ты убиваешься! – поразился он. – И все из-за этих проклятых дубков? – И предложил решительно – Брось, Львович! Нынче банька. Айда! Попаримся, освежимся морально и физически, а там, глядишь, и поговорим, обсудим положение. Ум хорошо, а два еще лучше…
„Сегодня суббота, – вспомнил Витька. – Сегодня в клубе Сопии не будет“. И вроде стало на душе спокойней. Послушал: не возвращается ли Серега? „Катафалки“ не было слышно.
– Банька – она лечит человека, – продолжал Ситников с улыбкой. – Вот так попаришься вдосыть, обхлещешься веничком, выпьешь холодненькой бражки – и будто внове родился: легко так станет, хорошо.
Якушев вздохнул.
– Вам можно говорить, Иван Семеныч. У вас дела идут как полагается. А вот меня, – он снизил голос до сбивчивого шепота, – кое-кто начинает презирать. Будто я тряпка и ничего не умею, будто для колхоза я чужак.
– Это у тебя от настроения, – предположил Ситников. И опять заулыбался – еще шире, чем прежде: – Веселей гляди! Дела твои только начинаются!.. Вот искупаемся, напялим свежие рубахи, за стол усядемся и – поговорим. Твои дела для меня не чужие. Кровные.
– Мне ваши – тоже…
– Вот и обсудим вдвоем, как друзья. Садись!
Витька сел в санки с одной стороны, Ситников ухнул с другой, и Любимчик за минуту доставил их к председателевой избе. Иван Семеныч обмотал вокруг лучка вожжи, разгреб солому, вынул ружье и, строго приказав-Любимчику: „Домой!“, спокойно направился к воротам. Мерин радостно фыркнул и, громыхая порожним» санками, затрусил по направлению к конюшне.
У ворот председатель задержался, оглядел улицу, приглушенно крикнул:
– Бобик! Бобик!.. – Подождал немного, послушал, засмеялся: – Вот штиляга! Опять застрял у какой-нибудь сучки.
Вошли в избу – серую снаружи, приземистую, старую. Внутри она оказалась высокой, чистой и уютной. Из прикрытой горницы слышалось детское повизгивание, смешки. Кто-то ныл протяжно:
– Ма-амка, да чего они меня за пя-атку…
– Спите, ироды! – Отворилась дверь, и на кухню вышла председательша – вялая, распаренная, с мокрыми длинными волосами.
– Как она, банька, Мотя? – весело спросил Иван Семеныч.
– Остыла, пока тебя черти носят…
Ситников довольно улыбался, кивая в сторону Матрены: мол, это она так, любя… Председательша вынесла ему свежие подштанники, рубаху, достала из печурки мыло и мочалку, из запечья – исхлестанный веник и снова ушла в горницу.
– И мне надо сменку, – вспомнил Витька. – Я сейчас, Иван Семеныч, мигом!
Председатель объяснил, что баня на задах, взял под мышку банное хозяйство и ушел, а Витька побежал к себе за сменкой и вернулся скоро, торопясь. Отыскал землянку с тонкой, похожей на кол, трубой и, согнувшись в три погибели, влез в холодный, сырой предбанник.
Темнота была полная, хоть выколи глаз. Люди будто смеялись над собой: ни удобств никаких, ни свету, будто это мелочь, ерунда, о которой не стоит беспокоиться. Якушев содрал с себя одежду, сложил ее в кучу и, радуясь предстоящему теплу, дернул разбухшую дверь.
Густой, настоянный веником жар сбил с ног, пригнул к прохладе пола, и Витька вполз в черную от копоти каменку. В седом тумане маячила белая глыба.
– Ктой-то? Ай!.. – завизжала она женским голосом, словно села на живую мышь. И ринулась в угол, к полку, закрываясь широким тазом. Из тумана таращились круглые бабьи глаза. – Ай! Карау-ул!..
Витька бросился к выходу, царапнул руками одежду и валенки и, в чем мать родила, помчался по снегу в пространство. Сердце колотилось где-то возле горла. Впереди была еще одна землянка, как две капли похожая на первую. Ориентируясь на ходу, он влетел в эту новую баню, предварительно постучав в дверь, как в кабинет к высокому начальству. «Заходи!» – привычно гаркнул председатель.
– Ты чего такой? – разглядел он Витьку сквозь густые сизые облака.
Иван Семеныч лежал на полке, в самом пекле, между каменной горой и потолком, и блаженно обхлестывался веником.
– Да так, ничего, – буркнул Витька, обливаясь горячей водой.
– Плесни-ка на камушки, – попросил Ситников.
Якушев плеснул. Камни будто взорвались острым пронзительным паром. Иван Семеныч сладко крякнул, хлестнул себя по багровым шрамам.
– Хорошо-о… Поддай-кось еще!
Якушев мылся на полу, плескался в камни…
Одевались молча, не спеша, насквозь пронизанные теплом и благодатью. Витька долго не мог разобраться в белье, ощупывал и не признавал. Трусы были огромной величины. Он подошел к тускло светящемуся выходу и, к ужасу своему, вдруг обнаружил, что это не трусы, а панталоны желтого, в полоску, цвета. Быстро ощупав остальное, учуял платье, толстые чулки… Валенки оказались своими. Он сунул ноги в знакомый уют и уныло согнулся на скамейке.
– Ты чего?
Витька рассказал о происшествии. Председатель опустился на карачки и зашелся частым кряхтением. Потом не выдержал, выбежал наружу и огласил зады здоровым мужицким хохотом.
– Что делать, Иван Семеныч? – простонал из предбанника Якушев.
Ситников немного отдышался, собрал под руку женскую одежду и пошел к соседней бане. Выручать. Витька, чтобы не простыть, сидел в каменке, с нетерпением дожидаясь исхода.
Минуты шли гнетуще медленно, и наконец Иван Семеныч прогудел:
– Вылазь…
По пути к избе он успокаивал:
– Все будет между нами троими, не бойся.
Тихонько, на цыпочках, вошли в избу. Ситников прихватил из сеней молочную флягу, которая тут же, на глазах стала покрываться испариной. Откинул защелку. Из горловины, вырывая крышку, выметнулась буйная хмельная пена. И потом она долго потрескивала лопающимися пузырьками. В тишине казалось, что где-то далеко идет мелкий ровный дождь.
Брага была вкусная, душистая, не хуже городского пива. Витька высадил большую кружку и сидел за столом разомлевший, с довольной улыбкой.
– Завтра ты, Львович, отдыхай, – посоветовал Иван Семеныч, тоже улыбаясь, медленно потягивая брагу. – На охоту сходи, на зайцев… Набирайся бодрости, а в понедельник звони к себе в контору. – Плутоватое лицо его сделалось скорбным. – Да, звони, говори все, как есть. Чего уж тут… Пусть знают… Насчет того, что я тебя подвел. – Похлопал ресничками, – Авось, твои поднажмут на завод, и еще успеешь до Нового года…
Витька преданно смотрел ему в глаза:
– Спасибо, Иван Семеныч…
Ситников снял с гвоздя и протянул ружье с обглоданным, искусанным прикладом.
– Могу завтра подвезти к Большому лиману. Мне так и так надо будет в ту сторону.
– В ту сторону? – обрадовался Витька, сжимая ружье. Оно приятно холодило руки, делало их тяжелее и крепче. – Загляните, пожалуйста, к Кадыру, поговорите с ним по-человечески! Как со мной. Пусть старик вернется в колхоз!.. А я… спасибо… Я пешком, чего там.
– Сходи пешком, – кивнул Иван Семеныч. – Вижу настоящего охотника.
Он подошел к вешалке и выгреб из кармана полушубка с десяток патронов. Среди них и парочку с «жаканами».
– Это на всякий случай. А вдруг – волк, – сказал председатель.
У Якушева знобко колыхнулось сердце. Он еще ни разу не стрелял из охотничьих ружей – все больше из детских, духовых, ненастоящих, сбивающих маленькими глупыми пульками близкие – достать рукой – мишеньки. А тут вот сразу тяжелая двустволка, десять патронов, и среди них – заряженные здоровенными пулями…
Успокоенный, сильный, приятно хмельной, Витька шел по улице к бабкиной избе. Ночной ветер оглаживал лицо, насвистывал в стволы ружья, как будто за плечом стоял невидимый судья по волейболу и давал судейские свистки. И припомнилось: техникум, спортивная площадка и куча зрителей, среди которых он, Витька Якушев. Он стоял впереди и кричал громче всех, размахивал руками, а у сетки метался взопревший Серега и с силой посылал удары. Еще, еще один! Се-ре-га!..
И закрутились, как в кино, воспоминания: Овражная улица, домишко, мать родная, пьяница-отчим, потом – техникум, Серега-друг, потом – Заволжск, контора Сельэлектростроя, и вот – эти дни, вторая неделя. Завтра еще один день холостой, а послезавтра – начнется, начнется, начнется…
Позади знакомо громыхнуло, высветило блеклыми лучами дорогу, залило Витьку будто известкой и резко накрыло теменью. Из кабинки вылез Серега Седов, подошел, обхватил, как клещами, руку:
– Я тебя ищу. Поговорить надо. – Отвел Витьку подальше от машины, словно боясь, что их подслушают, строго глянул в глаза: – Почему отказываешься от пасынков? – И торжественным шепотом: – Бурмашина пришла! Я уже завтра ставлю опоры.
– Причину знаешь, – зло ответил Витька, уставясь в его обветренное лицо. Оно казалось отчужденно-новым. Незнакомо бегали глаза. И весь он будто похудел и посутулел. Но шапка по-прежнему сидела набекрень, чернея четкой вмятиной от звездочки.
– С ружьишком ходишь, а дела забросил. Та-ак… – соображал Серега. – Это какая же причина?
– Не притворяйся. В понедельник я звоню в Заволжск и все рассказываю.
– Что «все»? – Седов насторожился.
– Всю правду. Что приехал на объект, а строить нельзя, пасынков нету. Что на твою помощь понадеялся, а ты…
– Ну-ну, – подталкивал Седов. – Что я?
– Что ты выбрал самый лучший дуб, а мне оставил одно барахло! – бросил прямо в лицо ему Витька. – Чего смотришь?
– Хорошо. – Серега усмехнулся. – Еще заяви, что ты дурак. Что в мастера ты не годишься и что твое дело – подшивать бумажки… – Вот что, Витя, – он вновь понизил голос. – Тебе, я вижу, не нравится работать, так и скажи. А мне тут раздолье: сам себе хозяин, отличный оклад, полевые, премии, квартирные…
– Квартирные! – подскочил Витька и зашептал в лицо, стараясь уязвить: – Ты что же, боялся лишиться квартирных, когда скрывал, что Таловка – твой дом родной?!
Серега хрипло засмеялся:
– Угадал… Ну прямо точка в точку.
– Тогда зачем же скрывал? И это от меня! – простонал Якушев. – Говори, Серега!
Седов закурил, пригляделся к часам. Крикнул, обернувшись в темноту:
– Погодите, я скоро! – Затянулся, раздаваясь вширь, и шумно выдохнул: – Ты, Витя, врешь. Я это не скрывал. Я просто об этом не распространялся. А зачем? Во-первых, там не дом мой, а место рождения. Разница. Ну, жил немного, а потом мы переехали в Заволжск. Тебе известно. Во-вторых, – он сдвинул брови и голос его посуровел, – нас не в гости прислали. На объекты. Вкалывать. На полную железку!..
– Не надо, Серега, – попросил Витька. – Для чего ты притворяешься бесчувственным? У тебя ведь тоже сердце есть, я знаю. Лучше скажи прямо, что Таловка – твоя родина и что ты хотел для нее, как для матери… Сказал бы сразу, Серега! Я сам с великой радостью предложил бы тебе свою долю хорошего дуба! Не в орлянку же нам с тобой бросаться…
– Говорю тебе прямо: я не выбирал, – раздельно, будто диктуя, сказал Седов. – Это чтобы я тебя подвел? Нет. Своих я никогда не продаю, запомни…
Витька все смотрел на Серегу, будто выискивал на его лице прежние, дорогие признаки. Не находил. Все было действительно чужое, как будто Серега подменил лицо. Особенно глаза. Они блестели под светлыми бровями маслено и лживо.
– Ну чего уставил зенки? Честно говорю. Я только глянул на тот дуб – и назад. А нагружали колхозники. И как они там брали – знать не знаю.
Витька смотрел на него, напрягаясь, чтобы не моргнуть.
– Может, и выбирали, – с неохотой выдавил Седов. – По праву первых…
– Нет! – вскричал Витька. И стал объяснять: – Они бы втихаря не выбирали! Они бы по-хорошему, по-человечески договорились, кому достанется нормальный дуб! В орлянку, что ли, бросили б, и то… – Помолчал и добавил грустно: – Нет, Серега, не ври. У тебя не выходит. Глаза выдают. Глаза выдают, – понятно?
Седов отвернулся, засосал папиросу.
– Ладно, – Витька вздохнул. – Пускай… За то, что ты поступил со мной так ради своих, я тебя прощаю. Чего уж тут… Только вот что… разреши сказать начальнику всю правду. Ну, про то, что пасынков там была половина, а остальное – дерьмо. Что пасынки взял ты… с моего согласия, и я вот остался без работы.
– Нет, – с непонятным спокойствием ответил Серега. – Это будет неправда. А правда такая: ты не хочешь работать. Колхозники сами набиваются на тот дуб, просят, а ты… Ты думал – что? – Он приблизился так, что было видно, как дрожат его чуть вспухшие от усталости веки. – Ты думал, на объекте санаторий? Тут жизнь – суровая, без жалости! И она, как в цирке, говорит: слабовольных прошу удалиться… Ну, беги тогда, просись снова в контору. Не хочешь?.. Тогда действуй, пока тебя не выгнали. Забирай свою долю и вяжи. Пасынки нормальные. Для сельской местности сойдут.
– Те, что остались, – гнилье.
– Гнилье-е? – протянул Серега. И угрожающе зашептал: – Да ты что об этом трезвонишь на каждом перекрестке?! Сельэлектро позоришь! Своих! – И предложил, усмехаясь: – А ты возьми шило и проткни, как тебя учили в техникуме. Покажи мне степень загнивания.
– Внутренняя гниль…
– О такой не знаю. Не проходил. И тебе об этом не известно. А может, пасынки от этого прочней! Вспомни сопромат. Сопротивление трубки на изгиб.
– Вот как! – хмыкнул Витька. – Между прочим, у тебя по сопромату была тройка… Да и у меня. Самый тяжелый предмет… А мы лучше – вот что! – давай отволокем дубок в Заволжск на экспертизу!
Серега засмеялся:
– Ну и предложи-ил… Тут каждая минута на счету, а он – волокиту устраивать… Бери что лежит, не хлопай ушами. И не настраивай против себя колхозников. Докажешь, что ты сильный и способный мастер – и дорога для тебя открыта. Столбовая!
Помолчал немного и продолжил:
– Не будь только трусом-перестраховщиком. Внутренняя прелость – это прелесть, можно сказать. – И снова засмеялся.
Витька тронул его за руку:
– Тогда давай проверим так. Вот скажи мне, как другу, Серега, скажи: взял бы ты для Таловки, для родины своей, такой дуб или не взял бы?
Седов хмуро смотрел в сторону. Молчал.
– Вот видишь, Серега. – Витька вздохнул с каким-то облегчением. – У тебя тут родина, а у меня что? Тыл врага?!
– Сравнил… – Седов кинул под ноги окурок, пристукнул сапогом так, что выметнулись искры.
Стояла тишина. В отдалении чуть слышно бормотал, будто всхлипывал, дряхлый грузовик. А еще дальше, может на том конце села, смутно угадывалась девичья песня.
Седов угрюмо глянул вдоль улицы, с неподдельной завистью заметил:
– А у тебя тут такие условия! Линия вон стоит, ломать ее можно и процентовать, как вынужденный демонтаж.
Витька вдруг представил, как легко сломать старые, «по всем правилам» подгнившие столбы. Упереть рогачами повыше да поднажать – за час можно управиться. А потом составить акт и запроцентовать как демонтаж низковольтной линии. Демонтаж равнозначен половине монтажа, и колхоз перечислит конторе немалые деньги… Спрашивается – за что, за какую такую работу? Тут что-то не так. Очень легко. А раз легко, значит, и нечестно…
– Ты, Серега, лучше уезжай. Тебе завтра рано подыматься.
– Вот ты, оказывается, какой друг, – тихо и грустно промолвил Седов. И еще тише, как бы для себя – А я еще за него ручался головой… – И, резко отвернувшись, пошел к поджидавшей его «катафалке».
– Зачем тебе нужно, чтобы я был гадом?! – давно вертелся на языке этот вопрос.
Седов не ответил.
Грузовик включил фары, ослепил Витьку и шумно проскочил мимо. В кабинке – Витька успел разглядеть – сидела Сопия…
Воскресенье просыпалось медленно, тягуче, как до смерти заработавшийся человек. Витька лежал на раскладушке, дожидаясь утра, чтобы уйти куда-нибудь подальше в степь, развеяться. После разговора с Серегой он никак не мог уснуть, чувствовал себя хуже, чем до бани…
Едва дождавшись рассвета, он оделся, взял ружье и осторожно, чтобы не разбудить старуху, вышел из избы.
Пройдя по безлюдной сумрачной улице, он свернул в степь и побрел по какому-то уже припорошенному, может быть старому, заячьему следу. Попадались и другие следы, более свежие, но он решил не сходить с этого первого, так и двигался, время от времени погружаясь в глубокие, все еще ночные, раздумья.
Всякий раз, когда он выходил из забытья, степь становилась все светлей и раздольней. И вот она распахнулась во все стороны, сверкающая, чистая.
Строчки следов смутно темнели то там, то тут; изредка совсем неожиданно выскакивали из своих только что выкопанных лёжек зайцы. И, загораясь охотничьим азартом, Витька пристально оглядывал снежные волны, чтобы приметить затаившегося беляка. Чувствовал: вот-вот кончится след, и, значит, где-то тут, близко, прячется «его» заяц.
Впереди, метрах в пятидесяти, снег был тронут легкой желтизной и несколько взбугрен. Витька осторожно взвел курки. И вот ему показалось: шелохнулось и приподнялось чуткое заячье ухо, высунулся из-за снежного комка, глянул черный, выпуклый – скорее любопытный, чем испуганный, – заячий глаз.
«Стреляй!» – приказал себе Якушев. И снова услыхал, вернее, вспомнил тот, короткий, неизвестно с какой стороны, вскрик, похожий на человеческое «Помогите!..»
Но вспомнился и Серега, его полупрезрительный взгляд. Руки у Якушева враз окрепли, ружье перестало трепетать, однако душа продолжала спорить: как же можно убивать неподвижного зайца?!.
– Эй! – гаркнул Витька на ушастого, и тот, с шумом выметнувшись из укрытия, помчался, подпрыгивая, в степь.
Витька весело бабахнул ему вдогонку, потом еще раз, из второго ствола, но это уже было что-то вроде салюта. Заяц уходил живым и невредимым, петляя вдали, запутывая след для новой лежки.
Назад к Алексеевке Витька шел возбужденный, почти довольный собой – редко с ним так бывало. Что бы ни сказал Серега про его «охоту», какие бы слова ни применил – это для него теперь не имело значения. Он верил себе, своим поступкам. И только войдя в село с ружьем за спиной, но с голыми руками, почувствовал некоторое стеснение. Пацанята, завидев его, кричали пуще прежнего:
– Заячий охотник! – Однако это уже не казалось ему обидным.
Он увидел ехавшего на санках председателя и пошел ему навстречу. Иван Семеныч смотрел улыбаясь. Его Бобик – крупный серый пес – заметался вокруг Витьки, обнюхивая грубо, будто кусая.
Ситников остановил лошадь.
– Что так рано, Львович?
– Наохотился досыта. – Хотел Витька соврать, что убил огромного зайца, вот только не нашел его в камышах, – но не соврал. Признался во всем.
– Правильно, – вдруг одобрил Ситников. И, улыбнувшись, тоже признался: – Я и сам не любитель убивать. Ружьишко больше так – чтобы волки боялись.
Витька горячо поблагодарил, передал ему ружье, патроны и стреляные гильзы и бодрым шагом двинул к себе на квартиру.
На следующий день был заказан разговор с Заволжском. Сказали «посидеть», и Якушев стоял у телефона, чтобы тут же схватить трубку и, не теряя ни секунды, поведать начальнику о своих делах.
Народу в это утро было больше обычного. Люди приносили в председательский закуток запахи солярки, шерсти, молока, занимали все свободное пространство от двери до окна, сидели и на корточках на полу, усиленно окуриваясь дымом. Нагустили так, что дальше некуда. Посмеивались, перекидывались шутками.
Рукастый завхоз подчеркнуто громко стал обсуждать дела в соседней Таловке. Серега для него был чуть не героем.
А один щуплый мужичонка, вроде бы тот, что долбил когда-то проруби, перехватил у него тему и стал рассказывать, крича на всю контору:
– Еду вчерась к шуряку, гляжу: еще только на задах копаются! Три столба поставили, сам видел! Потом выпили мы с шуряком, поговорили, еду назад – батюшки-светы! – аж на три линии, ко всем бригадам навтыкали огромных крестов! Кра-асиво!
«Выпил, небось, много», – хотел съязвить Витька, но сдержался. Мужики, наверно, только и ждут, как бы сцепиться с ним, полаяться. На фоне Серегиных дел его дела были очень уж мелкими…
Зазвонил телефон, Витька вздрогнул. Незаметно вынул из кармана приготовленную загодя шпаргалку и, упрятав ее в ладонь, закричал что есть духу:
– Алё, алё! Викентий Поликарпыч!
И не стало жаркого закутка, ни людей, которые умолкли, ни председателя, который на цыпочках подкрался с тылу и пристально вслушивался в разговор. Не было никого, только Витька да его начальник, связанные трехсоткилометровым проводом. Горячие Витькины слова превращались в электрические токи и в тысячную долю секунды достигали Заволжска. Обратно токи проходили хуже. Слова начальника были еле слышимы.
– Ты потише, – бормотал начальник.
– А вы, пожалуйста, погромче! – кричал Витька. – Помогите, говорю, насчет пасынков!.. А? Тут такое у меня положение… – И, забыв про шпаргалку, стал говорить издалека, чтобы потом логично перейти к истории с дубом.
Но логики не получилось. Начальник за нехваткой времени заторопил:
– Ты конкретней. Как у тебя с планом?
Якушев печально рассказал: за десять рабочих дней план выполнен процента только на три.
– Но желание у заказчика огромное! – кричал он, косясь на председателя. – И почти всё у него теперь есть, кроме этих проклятых пасынков!
Викентий Поликарпыч будто отключился, и телефонистки на станциях забеспокоились: «Говорите? Говорите?»
– Говорим! – рявкнул Витька, и они притихли.
Он видел думающего начальника, обросшего от вечных забот и неприятностей, беспрерывно курящего сигарету, воткнутую в желтый мундштучок.
Наконец послышался хруст, будто там, на том конце провода, глодали что-то твердое, как кость.
– Поразил ты меня, Якушев, поразил. Как же так? У Седова дуб хороший, у тебя плохой. В одном месте лежали, в одной куче!
Якушев молчал.
– Тебе Седов помогает?
– А то как же, – нахмурился Витька. – Советами. Только я его не слушаю, потому что у меня тоже есть голова. – Помедлил и добавил тихо: – И сердце…
– Седов способный, сильный, умный мастер. Ты к нему прислушивайся. Как у него дела?.. Уже ставит опоры?! Вот видишь! – Викентий Поликарпыч громко, так, что было слышно за триста километров, вздохнул: – Что же мне с тобой делать, Якушев?
– Помогите…
– Ты вот что, – от окрепшего, решительного голоса начальника зазвенела мембрана, – срочно поезжай в Узенск, в райисполком. Там дадут тебе бумажку на завод ЖБИ. Слышишь?.. У них там заготовлены пасынки для собственных нужд. Но с их договором придется подождать: людей нет, людей. Вот где они у меня сидят! Так что забирай, что там успели наготовить, и давай, давай, нажимай!..
Разговор был окончен. Витька весело крутнулся на ноге и, столкнувшись с Ситниковым, чуть не упал. Семеныч ловко подхватил его рукой и радостно крикнул в коридор:
– Машину!
И сразу загудела колхозная контора, захлопали двери, кто-то крикнул дальше, по цепочке. Прошла минута-две, и к окну, по-звериному фыркая мотором, подлетел грузовой автомобиль.
– Дуйте! – оживленно сказал председатель завхозу. – Куйте железо, пока горячо! Сегодня же вывезем, а завтра с утра начнем делать столбы. Начнем, Львович? – Он заглянул в Витькины глаза.
– Начнем! – засмеялся Якушев счастливо…
И опять была дорога, такая, как и неделю тому назад. Но в другую сторону. И ехали стремительней, как пожарники.
Уже скрылась за спиной Кадырова изба, а до Узенска было еще километров сорок. Вокруг расстилалась пестрая равнина с черными пятнами вылезших из-под снега пластов пахоты. Машина с треском припечатывала рытвины. Снеговая мутная каша выплескивалась из-под колес, как от взрыва подложенных мин. Скорей бы, скорей!
В одном месте на полном ходу ухнули в большую водоямину. От удара соскочила шляпа и, взметнувшись, полетела в степь. Витька только проводил ее глазами, отвернулся и поднял воротник. В райцентре магазинов много…
Окраины Узенска состояли большей частью из саманных домишек. Зато в центре, вокруг площади возвышались дома из красного, обитого еще в гражданскую войну, кирпича. Сердцевина Узенска называлась «городом», и народ здесь ходил толпами.
По узкому тротуару не спеша прогуливалась молодежь. Около будки с вывеской «Шашлычная» стояли кучкой молодые люди с открытыми ветру головами. Один из модных лохматых парней, видно, принял Витьку за своего и радостно окликнул:
– Альбер!
Витька оскорбился и нахмурился.
Около райисполкома остановились. Из кабины выбрался завхоз, посмотрел на Витьку с теплотой:
– Может, прямо на завод?
– Бумажку надо, – напомнил Витька.
– Волокита, – отмахнулся завхоз и, втягивая голову, двинулся к зданию напротив, в «Гастроном».
Витька тоже пошел, из любопытства.
Завхоз любовно покосил глазами на высокую, стройную, нарядную, в синей пластмассовой косыночке бутылку, прошептал очарованно:
– Сильнее зверя нету. Куда твоя бумажка! – Это оказался «КВ» – «Коньяк выдержанный». – Конский возбудитель! – хохотнул рукастый, доставая деньги. – Добавляй…
Купил, спрятал бутылку за пазуху и побежал к машине. Потом обернулся, словно чего позабыл, удивленно спросил про шляпу. Не дослушав объяснений, предложил свое место в кабине.
– Спасибо… Мне не холодно, – улыбнулся Витька. – Вот получим пасынки, я тогда новую шляпу куплю. И ботинки…
Завод железобетонных изделий оказался заводишком с громыхающей мешалкой на высоком шатком постаменте. Машина осторожно пробралась сквозь горы песка, щебенки, арматурного железа и остановилась возле длинного сарая.
– Ты посиди, я сам договорюсь, – шепнул завхоз, заговорщицки подмигивая. И скрылся в широких темных воротах.
Время шло. Витька с интересом наблюдал, как два здоровых, в робах, мужика подогнали под бункер вагонетку, дождались затишья наверху и отвернули забрызганные лица. И тотчас с ворчливым бормотанием ухнула вниз тяжелая серо-зеленая лава и, поколыхавшись в вагонетке, запенилась цементным молочком.
Еще не увезли приготовленный замес, а уже по наклонному подъему со скрипом-скрежетом взобрался ковш и опрокинул в мешалку новую порцию щебня, песка и цемента. И снова загромыхало наверху, и опять задрожали стояки нервной прерывистой трясучкой.
Якушев спрыгнул с машины и осторожно заглянул в сарай. В полусумрачной пустоте летали воробьи, словно здесь был склад зерна. Но, кроме бетонных балок, перемычек и плит, уложенных в аккуратные штабеля, тут ничего не хранилось. В другом конце сарая Витька разглядел высокий штабель пасынков и направился к ним с замиранием сердца. Вдоль пути с одной стороны валялись грязные доски, рифленка, катанка, а с другой – спокойно вызревала в опалубках, похожих на длинные кормушки для скота, темно-серая мокрая масса. Она твердела, срасталась с арматурой, светлела, превращалась в железобетон. Наступит день, и пасынки созреют. И если кто захочет их испытать, ударит, скажем, чем-нибудь железным, они ответят звоном и искрой. И не согнуть их, не переломить. Железные невидимые жилы будут стоном стонать под бетонной рубашкой, но не порвутся, не подведут…
В цехе было тихо и безлюдно. Народ куда-то подевался, побросав молотки и лопаты. Даже не работала мешалка, словно отключилось электричество. Витька подошел к готовым пасынкам, потрогал их гладкие бока. Оглядел торцы. Чуть скошенные для прочности и красоты, они сливались в отвесную узорчатую стену.
Каждый пасынок был обложен соломой, словно хрупкая ценная вещь. Витька подсчитал и обрадовался: двести штук! Даже больше, чем надо! Полюбовался красивой укладкой и пошел к другому выходу с маленькой бытовкой около ворот.
Как раз в это время из бытовки вышли те два измазанных мужика и еще два – чуть почище. За ними семенил молоденький бойкий паренек, жующий что-то на ходу, и, наконец, завхоз. Все были уже навеселе.
– Голова – что пушок, а в ногах будто гири! – восхищенно объяснялись первые.
Вторая парочка приплясывала и норовила запеть. А паренек, в такой же робе, только очень чистой, и при галстуке, оживленно размахивал рукой. Он подбежал к Витьке и развязно, как со старым знакомым, поздоровался:
– Привет, корешок! – Пояснил завхозу: – Люблю сельхозэлектровцев. Наши. Строители! – Повернулся к Витьке, обдал его духом коньяка: – И колхозы люблю, особенно эту… Александровку!
Витька заикнулся насчет пасынков, и паренек, который, видно, был тут главный, не дал ему договорить:
– Бери! – Казалось, поднеси ему еще, и он подарит собственную душу.
Всей группой подошли к укладке. Завхоз тоже залюбовался пасынками, а Витька, вспомнив вдруг про технологию стройматериалов, решил повыпытать некоторые сведения.
– Из какой они марки цемента? – спросил он у парнишки.
– Делаем на совесть. Из портланда аж пятьсот!
Завхоз с уважением прислушивался к разговору, ласково поглаживая пасынки. Лицо его пылало, улыбалось. Так и было написано от щеки до щеки: «С бутылкой – оно проще и надежней. Давно проверенная в жизни вещь…»