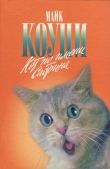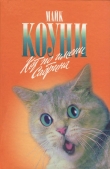Текст книги "Лесничиха (сборник)"
Автор книги: Владимир Битюков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
– Значит, используешь ее для своих личных нужд? – зло спрашивает Якушев, имея в виду степь.
Серега же, видно, думает о машине и потому отвечает наставительно:
– Мне – можно. Как большому начальнику. – И восклицает досадливо: – Эх, зря шофера Ваньку не взял, а то бы прямо вы лопнули от зависти!
– Разве тебе кто-нибудь завидует? – вот-вот сорвется в яростный крик Якушев. – Нет, гражданин, зря ты так думаешь.
– Не-ет, всю жизнь теперь будешь терзаться! – хохочет, слегка отступая, Седов. Еще раз взглядывает на часы и, как видно, заканчивает: – Одним словом, спасибо тебе за то давнее столкновение и за то, что вот так, просто, без всяких формальностей вы избавили меня от своего «эбщества». За то, что не «исправили» меня, не «воспитали» – иначе кем бы я стал?.. Ладно, Витя. У меня тут в заначке бутылка многозвездного коньяку – давай выпьем за сегодняшнюю встречу! Хоть и жарко, конечно, сейчас пить, но ради такого редкого случая…
– С тобой я пить не буду, и не потому, что жарко.
– Это отчего же? – напрягается Седов, невольно стискивая свой правый кулак. – А-а! – смеется. – Боишься на гаишников нарваться? – Пренебрежительно отмахивается: – Какие тут, Витя, инспектора! Вон, – кивает на стоявших в сторонке и о чем-то спорящих ребятишек, – инспектора какие у нас тут! Да если тебя и развезет – сворачивай на поле и дуй напрямик! Как по бетонке какой аэродромной промчишься. Один во всем мире…
– Нет, пить я с тобой не буду, – твердо, удивляясь, откуда такая твердость, повторяет Якушев.
– Да-а… – испытующе смотрит на него Седов. – Ну ладно. Бывай. – Резко отвернувшись, он подшагивает к своему автомобилю и грузно заваливается на сиденье.
Снимается с места, как вспархивает, «Чайка» и, мягко приседая, спускается на мост. И вот она уже на том берегу, убегает от серой, своими же колесами поднятой, пыли. Вся в световых бликах, как пылающая головня, ей, наверно, тесно на этой дороге, и она останавливается, точно в раздумье; стоит минуту, другую и вдруг резко сворачивает на огромное поле. И мчит, как бескрылый самолет, по направлению к областному городу…
Якушев угрюмо отворачивается, захлопывает капот своей машины. Не сразу, но все-таки заводит мотор и, прощально махнув рукой ребятишкам, трогается в путь. Он почти не замечает перед собой неровностей дороги – глаза расплывчаты, точно в слезах. И на душе тоскливая опустошенность – да, это действительно был удар. В самое сердце попал Серега Седов, хотя ничего необычного, казалось бы, он о себе не поведал. К чему стремился, того и достиг. Только вот как же он сумел обмануть всех, неужто не видать было его волчьей натуры?.. «Это он тут, передо мной так изгалялся, – кивает, соглашаясь со своими мыслями, Якушев, – Тут… А там, перед всеми – добропорядочный, энергичный, растущий товарищ…»
– Ну, гад, – вышептывает Виктор, терзаясь. – Зря не узнал я хотя бы номер твоего «почтового ящика»!..
Неприятней всего слова Седова, что ты сам помог ему сделаться таким, каким он предстал сегодня. Удар тот дурацкий по лицу, изгнание Седова из рядов сельэлектровцев – разве это помогло ему как человеку? Выпустили волка…
Для Виктора все померкло вокруг, так он растерян. Даже линия-отпайка на Т-образных опорах – точно ряд огромных могильных крестов, и вся степь – огромное мертвое поле.
Баранка в руках колотится, вырываясь; на одной из колдобин газик взвиливает в сторону. Виктор невольно вспоминает родных и их спрятанные в багажничек кабины яблоки. Яблоки… И снова ему делается горько: эта встреча с Седовым все перепутала, даже вот забыл угостить ребятишек…
Но возвращаться уже поздно. Впереди проявляется из мглы узенский, самый большой в заволжской степи, элеватор. Бегут минуты, и у подножия степного небоскреба начинают различаться серые и бурые постройки и дома, но прежде всего и четче – старинный вокзал из красного камня.
Грунтовая дорога подходит к железной и бежит с ней рядом, чтобы вдали, за вокзалом, снова остаться одной: железный путь в Узенске обрывается (дальше он лишь намечен перспективными планами). Сразу перед вокзалом – переезд. От переезда к элеватору и дальше, к «городу», берет начало асфальтовая полоса. В прошлом году в эту пору она была сплошь завалена высокими, как горы, буртами зерна – элеватор не вмещал весь урожай. А сегодня асфальт уныл и пустынен. И стены элеватора отзываются пустотой, когда рядом лязгает буферами прибывший из-за Волги товарный поезд.
Надо сворачивать на переезд, но Виктор проскакивает мимо. Вокзал, пакгаузы, дальше – кирпичный завод, легкие вагончики изыскателей, и дорога снова остается одинокой. Совсем одинокой…
Сухие прошлогодние камыши, вернее, их остатки, дымятся в лиманах – сами ли вспыхнули или кто их поджег?.. Это та старая дорога, по которой когда-то в звонкую оттепель ехал Витька на первый свой объект. До Алексеевки километров пятьдесят, совсем немного по степным масштабам, а все никак не мог выбраться проведать ее. Теперь же он решил (вернее, что-то его заставляет) обязательно заехать в Алексеевку, а там – и в Таловку, на Серегину родину, и уже потом вернуться в Узенск, на свой прорабский участок, в один из вагончиков, где ночуют усталые, «с поля», монтеры и где для него отгорожен угол с койкой и столиком, заваленным проектами, сметами и ценниками.
Потребность что-то срочно узнать, в чем-то разобраться гонит его по этой дороге. Машина громыхает и подпрыгивает, а он, вцепившись в баранку, смотрит в недвижную замутненную даль. Круг по совхозной земле (Алексеевка и Таловка когда-то объединились в один колхоз, а потом преобразовались в совхоз «Таловский») нужен ему сегодня как воздух…
Пашня и вековая целина почти одинакового цвета. Лишь тонкие прутики прошлогодней полыни, да истлевшие шары перекати-поля, да еще дымящиеся камыши в лиманах связывают степь с призраками жизни. Птиц и тех не видать: откочевали куда-то.
Впереди – охватило сердце болью и радостью – темнеют развалины Кадыровой избы. Да, так и есть – останки, следы, затоптанные, исхлестанные временем. Значит, уехал старый казах, вернулся к людям…
Развилок. Якушев сворачивает направо и вскоре видит вдали, вернее, угадывает размытую маревом и пыльной мглой Алексеевку. Потом видит: столбы, много столбов, которые хоть и не такие красивые, как когда-то, – расшатанные, серые, но все-таки те самые столбы…
Он впитывает зрением и сердцем врастающие в землю столбы, дома, хозяйственные постройки, и через несколько минут въезжает на знакомую своим простором площадь. Останавливается, смотрит по сторонам.
Одно лишь пространство и знакомо. Да еще ряды низковольтных столбов. Да кое-какие избы, особенно саманные «землянки». Да работающая почти вхолостую закопченная электростанция. Где она, прежняя Алексеевка?..
Вокруг белеют сборные дома – особенность новых совхозных поселков. И эти дома, и тоже светлая и легкая контора на месте бывшей правленческой избы, и слишком раскидистая застройка – все говорит о совхозном отделении, которых Виктор повидал немало. А он ехал к старой Алексеевке, к ее людям, которые знали его и до сих пор, наверно, еще помнят…
Но вон вроде бабки Пионерки землянка. Смотрит подслеповатыми окошками. Жива ли старуха? Ведь прошло столько лет…
Из конторы выходит на крыльцо какой-то здоровенный мужик, закуривает. Уж не завхоз ли рукастый?..
Малолюдно на улице. Только ребятишки выбегают, обжигая пятки о раскаленную пыль, и снова отступают в тень задворок. Впрочем, вон и взрослый народ – за углом большого магазина. С ведрами и баками возле автоцистерны стоит толпа женщин. «За водой», – определяет Якушев. Обычная картина в этом году. Даже в Узенске, мало того – даже в ближайших к Волге селениях замерли колонки, повысохли колодцы; люди, скот и редкие деревья зависят теперь от привозной воды.
Неподалеку посреди улицы стоит старый колодец. Но и подходить не надо, чтобы почувствовать – сухой. Сколько раз в это лето Виктор заглядывал в колодцы, и всегда оттуда вместо прохлады отзывалось какой-то пыльной затхлостью.
Мужик с крыльца конторы смотрит в сторону Виктора, даже ладонь приставил к бровям, хотя сам стоит в тени под козырьком крыши. Якушев трогает с места, подъезжает к конторе. И точно: он узнаёт в мужике бывшего колхозного завхоза. Почти седой, но по-прежнему крепкий «рукастый» настороженно и как бы через силу кивает ему в ответ на приветствие. Не узнаёт, наверно, хотя Виктор вылез из машины и стоит, неловко улыбаясь.
– Пить, что ль, хотите? Вода вон, в баке, – кивает мужик в распахнутую дверь.
Наполнив кружку мутноватой водой, Якушев послушно пьет, хотя чувствует, что не напьется: теплая вода. Спрашивает зачем-то:
– У себя управляющий?
– Гдей-то в разъездах, – неопределенно машет рукой мужик.
Виктор помнит, как часто ругался с этим рукастым, и все-таки не выдерживает, называет себя. И вдобавок, улыбаясь, показывает на ближайший к дороге столб, на железобетонный, обитый пьяными машинами и телегами пасынок.
– А-а! – громко восклицает, узнавая, мужик и выплевывает окурок. И щерится, лучась щетиной щек: – Мучитель вы были и приверед. А теперь вас и не узнать: начальник и начальник. – Интересуется: – Опять, что ль, к нам?
– Скоро опять, – обещает прораб, хотя не уверен: совхоз не торопится заключать договор на вторую очередь электрификации. И угрожает шутливо: – Вот как свяжем Алексеевку и Таловку в единую линию, да как подсоединим к государственной энергосистеме – и наступит у вас новая эра!
– Вы и тогда эту «еру» обещали, – кривится горько рукастый.
– А что, разве не улучшилась жизнь? – с некоторым вызовом спрашивает Якушев, глядя в его мутноватые глаза.
– Лично мне, – с хмельной, какой-то злой откровенностью отвечает завхоз, – ваше электро только помеха. Лишняя путаница в жизни – провода эти. Столбы, линии… – Вздыхает. – В простоте оно было лучше, потому как сам я простой и мог себя показать. И показывал, да.
Он задумывается, потом встряхивается всем телом, отчего в кармане его грязных штанов взвякивает что-то, может, связка ключей. Так оно и есть:
– А теперь, как кроме кладовщиком, я не достоин, – усмехается. – Был завхозом при лампе керосиновой, а при электре стал просто Пашка-ключник. – Он сипло смеется.
«Кем бы ты был при лучине?» – так и хочется его поддеть. Но вслух Виктор сочувствует:
– Да-а… – Помолчав, спрашивает осторожно: – А как другие? Ситников как – жив-здоров? А бабка Пионерка? А…
О ком ни спрашивает, все, слава богу, живы-здоровы.
– Ну вот и хорошо, – улыбается Виктор, чувствуя, как начинает оттаивать у него на душе. – Вот и хорошо. Может, электричество в этом помогает.
– Вы погодите радоваться, – останавливает его кладовщик. – Парнишку у нас тут года три тому… током убило. Это как по-вашему? – Ошеломляет.
Виктор долго молчит, потом, как во сне, выдавливает из себя:
– Это, может, как раз и подтверждает, что электричество – вещь очень серьезная… – И озирается тоскливо. Зачем он приехал сюда, что искать, когда и так все понятно: жизнь страшно сложна…
Растерянно и безучастно смотрит он на дома и саманные избенки, на высоковольтную линию, бегущую мимо кургана к Годырям, и не знает, что делать дальше. Спрашивает зачем-то:
– Кто у вас управляющий? Знаю я его?
– Должны, – не сомневается рукастый. – Когдай-то он у вас на электрика колхозного подучивался. За вами все бегал, а вы ему все на ходу: так-то, мол, и так. Генка его звали. Теперь – Геннадий Степаныч, на другое не отзывается. – Мужик зло покряхтывает, а может, и смеется.
– Заехать, что ли, к Пионерке? – после нового напряженного молчания говорит Виктор. – Как она живет?
– Поскрипывает, – отмахивается «ключник».
Якушев садится в машину и подъезжает к глядящим будто бы из-под земли окошкам избенки. На мгновение ему почудилось: к одному такому оконцу прильнуло старое-старое лицо. «Зачем я иду?» – думает Виктор, а сам уже находит в темных сенцах и приоткрывает дверь:
– Можно, что ли?
– А, входи, сынок, входи! – слабый, но по-своему бодрый голос отзывается из-за перегородки.
Маленькая, нестойкая старушонка, седая-седая и морщинистая, с глазами блеклыми, близоруко-улыбчивыми, выходит навстречу. Смотрит, явно не узнаёт, и улыбка ее – общая, для всякого гостя. Но вот что-то дрогнуло на ее лице, глаза омокнулись в глубину, и вот она – бабка Пионерка, смеющаяся и плачущая одновременно:
– Никак ты, сынок?.. Ну как же – помню, помню… Сколько постояльцев перебыло, а тебя все вижу. Свет ты еще сделал нам.
Над столом и отдельно над печью, как повесил Виктор в далеком прошлом светлые – специально для бабки выбирал – электрические патроны, как установил на стенах и даже на печи голубые выключатели, так до сих пор они красуются в избе. Правда, потрескались от времени.
Он протягивает к стене руку, щелкает выключателем – свет ярко вспыхивает.
– Помирать неохота, – смеется бабка беззубо.
– Как живете? – громко спрашивает Виктор, как будто она стала глуховатой.
– Я же говорю! – Пионерка делает шаг в сторону, шаркает опорками валенок, что, наверно, означает у нее озорной перепляс. – Садись, сынок, к столу. Как звать-то тебя – вот это только из памяти и выветрилось.
– Витькой всё кликали! – отвечает он тоже подчеркнуто бодро.
– С дороги небось дальней? Надолго ли? – спрашивает бабка, нашарив где-то на полке и ставя на стол блеклую, как и ее глаза, чекушечку водки. – Вот только с закуской у меня простовато.
Якушев объясняет, что заехал по пути. Что все собирался да все было некогда…
– Погодите, бабушка, я проведаю еще кое-кого и приду! – говорит он ей, суетливо хлопочущей у столика.
Выйдя на улицу, он снова осматривается. Солнце отодвинулось к небосклону, и дорога заметно оживилась. Однако оживляют ее пока что одни ребятишки.
Магазин стоит на месте прежнего, жалкого, в котором Витька когда-то покупал галоши к своим валенкам. Теперь магазин во много крат больше, с двумя отделами. Подумав, Виктор заходит сперва в «промтовары» и из всех платков, какие там были, выбирает самый нарядный и легкий. Пионерка в его воспоминаниях виделась все больше в хороводе, в ярком, взлетающем платке – вот почему захотелось подарить ей точно такой же.
В соседнем отделе он набирает то, чем богат и город, – рыбные консервы, мятные пряники, печенье, конфеты – ну и, разумеется, вино. Нагрузившись, выходит из магазина. Из продавщиц он никого не узнал и из покупателей тоже никого. Мало он все-таки жил в Алексеевке, мало и торопливо. Большинство лиц, может быть, «выветрилось» из памяти, как у бабки его имя. Только несколько человек он узнал бы без особого труда, и среди них – Виктор в этом уверен – бывшего председателя колхоза.
Окна избы Ситникова, тоже низкие, смотрят сквозь редкие, изнывающие от зноя цветы. Не понять, какие это цветы. Головки их прячутся от солнца, а оно будто бы пышит и снизу, с земли палисадника. Окна занавешены одеялами, и в доме, наверно, темно и сонно. Во дворе тоже тихо и беззвучно, – а когда-то было весело от играющей ребятни.
Громыхнул разбуженно мотоцикл, почихал с полминуты и снова умолк. Какой-то парень, лет двадцати пяти, белесый, в выгоревшей майке, держит его, как барана за рога, и, невидяще глянув на остановившегося Виктора, с силой нажимает ногой на рычаг. И опять короткое чихание.
Парень непременно Ситников-сын – курносый, с тесноватыми глазами. Приподняв мотоцикл, он с такой силой бьет им о землю, что тот подпрыгивает высоко, однако не заводится. Парень выкатывает его за ворота, видимо, чтобы завести с разгона, и чуть не сбивает стоявшего, как столб, прораба.
– Иван Семеныч дома? – спрашивает Якушев.
– А вы инженер из Сельэлектро? – останавливается, удивляя осведомленностью, парень. И лишь потом отвечает: – Вот еду искать его, куда-то запропал. – С силой вбуривает мотоцикл в дорожную пыль, пробегает, пригнувшись, выблескивая мускулами плеч, и садится на ожившую машину – прямой, торжествующий.
«Откуда он знает обо мне?» – все еще удивляется Якушев, провожая его взглядом. Впрочем, можно догадаться: на столбах, ниже электрических, подвешены телефонные провода – высота опор это позволяет, и кто-кто, а изба Ситниковых связью с конторой обеспечена.
А может, лучше всякого телефона – бабка Пионерка? Вон – семенит через дорогу с большой сковородкой в руках, как с мандолиной какой. Виктор догоняет старуху:
– Эх и скорая вы, бабушка!
– А как же… – улыбается она. – Звание свое должна поддерживать.
Она совсем слабая, и видно, как трудно ей поддерживать «звание», однако в этом и сила ее – в отчаянной бодрости. Тем, может, и жива.
Получив в подарок платок, она тут же повязалась им, повертелась у зеркала, походила по избе, потом бережно положила подарок в сундук. Якушев успел заметить, что таких ярких платков у нее чуть ли не половина сундука… За перегородкой у стены стоит всегда готовая принять постояльцев заправленная свежим постельным бельем раскладушка.
– А может, переночуешь, завтра поедешь? – спрашивает бабка. – Круг-то свой так и так не успеешь сделать, совхоз наш громадный.
– Нельзя, работа торопит. Вот подведем к вам линию, – обещает Виктор, – тогда поживу. Специально отпуск возьму, и с дочкой, с женой – к вам сюда. Отдохнуть.
– А что – у нас тут красиво, – кивает Пионерка. Вроде бы голо все вокруг, а глянуть получше-то – красота…
На столе разложены вино и закуска, но бабка не торопится садиться. И Виктор тоже чего-то ждет. Этот стол, хоть и маленький, но явно не для двоих, – кто-то еще должен сидеть за ним. Обязательно…
– Может, пока просто так перекусишь? С дороги ведь дальней.
– Пока подожду…
В окошко видно, как проходят люди. Оглядывают газик, кое-кто приостанавливается, но лишь на мгновение. Тихо в избе. Тикают ходики…
Но вот в сенцах что-то громыхнуло, и с шутливой угрозой: «А ну, где он тут?» – входит боком, держа в руке мокрый белый бидон, Ситников.
– Иван Семеныч!
– Ты погоди… – Ситников с виду все такой же плотный, только не рыжий, а совсем седой. Ставит на стол бидон и освобождает руку. Жмет Виктору ладонь, привлекает его к обрубку плеча: – Ну здорово, здорово, Львович,!
Сквозь серую, пропыленную рубаху Ивана Семеныча прощупываются шрамы и рубцы. И это останавливает Якушева, а то бы на радостях стиснул до боли и заодно показал бы приобретенное за годы здоровье. Но Ситникову и без того видна перемена:
– Гляди, Андревна, какой стал молодец! А ведь шкелет был, на чем душа держалась.
– Помните баню? – Виктор засмеялся.
Ситников, вспомнив, захохотал.
– Ну вот и хорошо… – Бабка погнала их обоих к столу: – Садитесь, садитесь, тут оно лучше, вспоминать-то.
Она наливает мужчинам «белой», себе – «красненькой, сладкой».
Виктор чокается со стариками, но отпивает от рюмки самую малость:
– Нельзя. За рулем…
– Тогда дай-ка, Андревна, вон тот черпачок! Налей-ка ему из этой посудины!.. Не бойся, не бойся – квас! – смеется Ситников, когда Виктор подносит ко рту холодный, покалывающий взрывчатыми пузырьками, напиток.
Такого кваса Виктор еще не пробовал. С наслаждением высаживает целый черпак. Отдышавшись, просит еще – повторить.
– Какой-то градус, а все-таки есть, – сомневается он: квас ли это? Но Ситников не станет обманывать. Знает, что такое сидеть за рулем…
И тут ему снова вспоминаются слова кладовщика, те, что потрясли его, уже потрясенного, своей неожиданностью.
– Тут у вас… – не знает он как выговорить. Но и молчать больше нельзя, невмоготу. – Говорят, несчастный случай у вас был тут… С электричеством связанный…
Ситников растерянно смотрит в глаза, улыбка застывает на его лице, делается жалкой. И весь он никнет, как-то зябко сжимается.
– Был. С моим внучонком. С Сергунькой…
В избе наступает тишина – какая-то страшная, оглушительная. Якушев сидит ни жив ни мертв.
– Три года тому, – продолжает Иван Семеныч глухо. – Уже большой был парнишка… Котенка пожалел. Забрался котенок на трансформатор со страху: собака загнала, а спрыгнуть еще больше боится: высоко. А он, Сергунька, не поглядел, что плакат висит страшный, полез, протянул руку – и… вот. – Ситников снова наливает водки. – Помянем… – шепчет он и, подержав возле рта рюмку, осушает ее одним глотком. Отодвинув тарелку, ставит локоть на стол и сидит понуро и неподвижно.
Виктор опускает на стол свою, тоже опорожненную, рюмку, боится дышать.
– Ты, Львович, все правильно делал, ты ни при чем, – наконец поднимает голову Ситников.
И старуха тоже начинает шевелиться:
– Вот-вот. Не думай ни о чем таком.
– Не надо… – просит Якушев, – не надо. Ведь это я проводил электричество. Электричество… Вроде смысл твоей жизни, а случись такое – и сам будто причастен. Где-то что-то не учел.
– Главное ты учел. Быть человеком. – Ситников пытается смотреть ободряюще. – А электричество – оно, конечно, опасное. Зато скольких спасло – вот что надо не забывать!.. Возьми нынешний год. Не было б электра – слабей мы были б. Другого чего – еще слабей. – И, обратившись к Пионерке, напоминает: – Помнишь, Андревна, двадцать первый год?
– Господи… – Старуха, давно позабыв креститься, невольно сотворяет на груди крест.
– А ведь нынешняя засуха – куда сильней той, – продолжает утверждать Ситников. – Узень – я хоть и пацаненком был, но помню – так не пересыхал. В колодце вот в этом, – он кивает за окно, – какая-никакая, а вода держалась. Но мёрли как! Голод. Страшный голод…
Из рассказов старых степняков Виктор может представить, как тянулись к Волге вереницы людей, как падали на ржавой глухой однопутке.
– Так что электро и все другое – спасение наше… – помолчав, тихо, но твердо повторяет Иван Семеныч.
– Я тогда сына потеряла. Первого, – подает голос Пионерка. – Давай-ка, Ваня, помянем еще тех…
Она снова наполняет рюмки. Старики придерживают их над столом, ждут Виктора. И он тоже приподнимает свою, хочет выпить до дна, но сам разговор, тема эта, заставляет его думать о дороге. И он только делает глоток.
– А второго-то сына – того ровно через двадцать годков. В сорок первом, – говорит через минуту старуха – маленькая, тонкая, будто подросток.
И опять Якушев пьет до самого дна. Войну он хоть и смутно, но помнит лично. Уже нет тоскливой осторожности, и потому, когда предлагают помянуть всех убитых в войну, он отчаянно пьет за родного отца, которого, однако, не может зримо представить.
Потом он склоняется к тарелке, постукивает вилкой о фарфор, а бабка с Ситниковым, так и не притронувшись к еде, закуривают папиросы.
В окно заглядывает чья-то озабоченная, вроде бы знакомая Виктору физиономия.
– Заходи, заходи! – кричит Пионерка, махая рукой. И Виктору: – Управляющий наш! Гена! Геннадий, то есть теперь, Степаныч.
Неужто это тот парнишка-десятиклассник, который бегал вместе с Витькой перед пуском объекта, стажируясь на колхозного электрика?.. В избу входит рослый, дочерна загорелый мужчина. И только резкие складки на лбу, приподнятые выгоревшие брови – выражение крайней озабоченности, делают его похожим на прежнего Генку.
– Ну, здорово! – до хруста жмет он руку Якушеву. – А мне еще на центральной сказали: из Сельэлектро опять прибыл тот инженер… Помнят тебя.
– Я только проведать. По пути, – говорит Виктор.
– Проведать… По пути… – разочаровывается управляющий. – А я-то думал – по делу, насчет новых работ.
– Насчет новых – это вы первые должны побеспокоиться, – с хмуроватой улыбкой возражает прораб. – А то получается, мы их вам навязываем. – Выждав паузу, спрашивает строго: – Почему не приезжаете заключать договор?
Геннадий грустно пожимает плечами, дескать: время-то какое, сам понимаешь. А может, хочет сказать: не по адресу обращаешься, с директором надо говорить.
– А мы что – посторонние? – вдруг вмешивается Ситников. И заявляет твердо: – Надо. Надо подключаться к государственной линии. Энергия будет куда дешевле, постоянней и… Что еще, Львович?
– Ну, например, лишние заботы отпадут: за высоковольтной стороной будет следить специальная эксплуатационная служба Сельэлектро… Ну, еще…
– Хватит и того, – останавливает Ситников. – Самое главное – еще крепче станем… – И неожиданно просит: – Заедешь, Львович, к директору – ты его знаешь, это бывший таловский председатель, – скажи: пусть не мешкает с договором. Как ни трудно в нынешнем году, а все ж легче, чем когда мы начинали. Намекни, что последним останется совхоз, это для Седова нож вострый.
У Виктора опять стоит перед глазами Серега Седов. Кто он директору – однофамилец, родня? Хочется спросить, но как-то неловко.
В избу заходят еще несколько мужиков, совсем незнакомые Якушеву. Они его, однако, помнят, здороваются так, словно вчера только виделись. Насквозь пропыленные, они внесли запах горячей степи, и хотя на улице уже вечер, здесь, в тесноте, продолжается день. Полеводы, они подсаживаются к столу и заводят разговор о делах своих, о полях, которые пожгло, о предстоящей вспашке зяби, о привозной соломе, которую надо сторожить от огня, о коровах и овцах, которым сейчас трудно…
Выпив «горькой», мужики выщипывают для «занюху» корочку хлеба и, шумно втянув воздух, выдыхают с неловкой виноватостью:
– Иждивенцы мы в нонешнем году. Не мы государству хлебушек, а оно нам. Непривычно как-то. И нехорошо…
Объяснив Виктору такое свое сложное состояние, они предпочитают о хлебе больше не упоминать, о полях своих тоже, – полностью переключаются на разговор о животноводстве. Управляющий Геннадий будто ждал этой минуты: чуть отодвигается от стола, чтобы было свободней, и просит у «собрания» слова. Он явно не привык еще к роли руководителя, немного рисуется, и Ситников – его предшественник, а теперь пенсионер – недовольно морщится, покряхтывает. К разговору, однако, поощряет:
– Говори, Геннадий. Где теперь будем пасти скот? Лиманы вон тоже пересохли. Послушаем.
Управляющий моложе всех в этой избе, но по тому, как его внимательно Слушают, видно: парень толковый. Днем он успел побывать где-то аж в низовье Узеня, в казахстанских болотистых лиманах, и вот теперь в избе бабки Пионерки вроде летучего совещания: не гнать ли гурты к этим болотам, и если гнать, то как уберечь скотину от коварных трясин?
Геннадий высказывает свои соображения, без карты, по памяти объясняя, где лучше пасти коров. Впрочем, карты и не помогли бы. В сплошных болотах нет ориентиров – ни речек, ни оврагов, ни жилья. Одни расплывчатые, с каждой весной новые, буро-зеленые камыши. А в памяти Геннадия и людей, которые его слушают, приметы, признаки всегда найдутся: кабанья тропа, вилюжина воды, а то и звук болотной мезги под сапогами.
– Вот оно еще – электричество-то, – с ревнивой усмешкой гудит в ухо Виктору Ситников, – Другого вместо меня не нашли, кроме как Генку-электрика. Я сам подсказал. Говорю: электро развивает мозги. И разве нет? Послушай, как тонко комбинирует. Будто шахматы двигает.
– Канал вот из Волги скоро подведут! – шумит в другое ухо бабка, прислушиваясь больше к Ситникову, чем к Генке-управляющему. – Тогда тоже еще легче будет! Узень хоть оживет, а то прямо невозможно. Высох весь. В хранилище только, в самой середке маленько осталось. Рыбы там прямо как в котле…
И опять видится Серега Седов и его черная «Чайка» в набитым рыбой багажником.
– Канал – большое дело, – подтверждает Семеныч. – Вместе с электром – огромная сила… Ты представляешь? Насосы по берегам! И не какие-нибудь дизеля, а электрические, чтоб воду не мазутить. И чистую, свежую – хоть на поля, хоть на фермы, хоть сюда в дома – всем хватит… А там, говорят, еще и другой замышляют канал – от Волги и аж до Урала-реки. Вот она, сила, против силы стихии! Против ее зла и безобразия! – восклицает он, грузно опуская на стол кулак.
Посуда звенит – сигнал повторить выпить, но бутылки пусты. Кто-то убирает их со стола, ставит еще, нераспечатанные.
Перед Якушевым близко то лицо бабки, то – Ивана Семеныча, то – управляющего и других людей. Всё близко не только расстоянием – родственностью, простотой. Крепкие, сильные люди окружают Виктора, даже бабка Пионерка уже не кажется ему особенно старой.
– И все же я с вами не согласен, Иван Семеныч, – хмельно и заискивающе-нежно склоняется он к Ситникову. – Не техника сама по себе, не электричество, не каналы делают жизнь, а прежде всего – люди. Такие, как вы. И как ваши товарищи.
– О себе не забывай, Львович, – хмуровато-смущенно ворчит Ситников. – А насчет нас… – расплывается в улыбке, – это ты верно. Тоже не дремали. – И советует с гордостью: – Поедешь на центральную, прежде загляни на Годыри – вот где понастроили! Дома все новые. А фермы!.. Современный животноводческий комплекс, – с удовольствием произносит он трудное слово.
– Я рад, – кивает Виктор. – Я это новое заметил еще знаете когда? Когда проезжал мимо развалин Кадыровой избы. Там, у развилка… Я рад, что старик вернулся к вам. Жив ли он?
– Кадыр? – переспрашивает бабка, в то время как Ситников снова мрачнеет и даже вроде бы отворачивается. – Уехал Кадыр, – вздыхает Пионерка. – Еще тогда уехал, как светло у нас стало. Но не к нам подался, а еще дальше куда-то. За Узень… И дочку свою забрал.
– Почему?! – вскрикивает Виктор.
– Не знаю, не знаю, – хмурится старуха, – дело это темное. Дружок, говорят, твой бывший натворил что-то. Да ты и сам небось понимаешь…
– Вон оно что… – Якушев долго молчит, уставясь в незанавешенное, темное, как глубокий колодец, окно. На улице загораются фонари; окно светлеет, но все равно кажется иссохшим колодцем. Аж глазам больно от этой сухоты, и они влажнеют.
– Да чего убиваться, Витя! – трогает кто-то его за плечо. – Выпьем давай лучше!
– Хватит. Ехать ведь. Работа…
– Нет, Львович, мы еще посидим с тобой, поговорим! – это наклоняется к нему Ситников.
– Потом, Иван Семеныч, потом. Специально скоро приеду сюда, наговоримся. Мне только вот что хотелось бы узнать… Неужели и правда он теперь начальник какой-то большой, руководитель?
– Это ты о дружке бывшем своем, о нашем то есть, землячке? – спрашивает старуха. И отчего-то досадливо машет рукой.
Мужики смущенно пересмеиваются. Кто-то вспоминает, как «Пузырь» – это он так о Сереге Седове – приглашал его выпить.
– А я не пожелал! – с немалой гордостью объявляет рассказчик. – Не захотел, хоть и дорогую посудину он ставил на стол! С кучей звезд!.. А я лучше с Витей – нашу, простую… Выпьем, Витя!
– Потом, потом… Почему же вы отказались с ним выпить? – спрашивает Якушев.
– А зачем он приезжал сюда, к нам в совхоз, в самую трудную пору? – вопросом на вопрос отвечает мужик. – Для чего? Себя показать? Машину свою? – И смеется зло – Пеной, видали его, торговал в Сарове, пивом, а ты – «начальник»! Плюнь тому в глаза, кто его так вежливо величает. Для латрыги какого, может, он и начальник, а для нас… Пузырь он, с тем и уехал.
– Действительно так? – поворачивается Виктор к Пионерке.