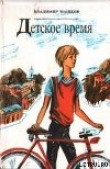Текст книги "ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ"
Автор книги: Владимир Краковский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 33 страниц)
«Дело не в затратах,– сказал директор.– Они там, в Комитете, и рады бы отвязаться таким способом, но никто не решается поставить на его чертежах свою резолюцию: «Изготовить». Как вы думаете, что скажут о работнике, который санкционировал изготовление вечного двигателя?»
«Улавливаю»,– ответил Верещагин на вопрос об аналогии.
«У нашего института безупречная репутация,– сказал директор.– Все проблемы, за которые мы беремся, мы решаем успешно и этим славимся. За все годы моего директорствования наш институт опростоволосился лишь однажды. Совсем, кстати, недавно. Я уверен, Верещагин, вы прекрасно меня понимаете. Нам нельзя иметь вторую осечку. Ее очень многие ждут. Зачем радовать недругов?»
«Господи! – сказал Верещагин.– Вы же не даете мне вставить слово! Не нужна вам моя идея, так и не надо. А вы все убеждаете меня и убеждаете».
35
Многие читатели, наверное, не поймут причин той легкости, с которой Верещагин отказался от реализации своей идеи, и потребуют разъяснений. Увы, автору нечего добавить к сказанному. Да, отказался Верещагин от реализации идеи, да, сделал это легко. Но почему – автор объяснить не может.
Автор вообще не знает, почему талантливые люди легко сдаются. Он, например, сам однажды написал замечательную повесть об удивительном мальчике по имени Головастик, а когда в издательстве сказали, что это – мура, то ответил: мура, так мура, и ушел, хотя прекрасно знал, что не мура, а исключительное произведение искусства, может быть, даже великое.
Почему талантливые люди так легко сдаются?
Секрет здесь, по-видимому, в том, что для талантливого человека внутренняя победа важнее внешней. Чем значительнее личность, тем богаче и огромней у нее тот мир, который внутри. А который снаружи, тот для всех людей одинаков. Поэтому у талантливых людей доля внутреннего мира в общем их мироощущении больше; и соответственно внутренняя победа, то есть создание самой идеи, для них более значительное событие, чем реализация этой идеи, то есть победа внешняя.
Вот и видим мы сплошь и рядом, что, одержав трудную победу в огромном значительном мире внутри себя, талантливые люди не очень лезут из кожи вон, чтоб добиться также еще и маленькой победы в ничтожном мире вокруг них.
Да и то сказать: сил к тому времени не остается уже, чтоб бушевать снаружи.
Возьмем, к примеру, Архимеда. Когда он открытие своего закона в ванне совершил, то, как известно, потом с полчаса бегал вокруг дома без исподнего и кричал: «Эврика!», то есть «Нашел!». А когда ему сообщили, что его закон отныне во всех школьных учебниках крупными буквами писаться будет, то никакого стриптиза вблизи жилья он не производил, не известен такой факт науке. Гораздо меньшей оказалась эта радость в сравнении с первой. Ну и, конечно, нельзя не учитывать утомление после первой пробежки.
Одним словом, для талантливых людей главнее всего – внутренняя победа. Вот почему так легко они и сдаются: не вставите мой закон в школьные учебники – ну и не надо; не хотите реализовать мою идею – ну и бог с вами.
Это для тех, чьи утлые души лишь капли в сравнении с океаном внешнего мира, это для них вся боль и счастье жизни во внешнем.
Наверное, теперь понятно, почему Верещагин с такой легкостью сказал директору: «Не нужна вам моя идея, так и не надо».
36
А директор продолжал говорить, Верещагин на него уже руками махал: мол, хватит, все, договорились, но тот не унимался. Видно, ему не столько Верещагина, сколько себя самого была нужда убедить.
«Созданная вами, дорогой Верещагин, модель кристаллического сообщества может существовать только на бумаге,– говорил директор.– Ибо ее первородный грех -вероятностность. Для каждой частицы, входящей в сообщество, возможны два равновероятных состояния. При одном она будет соблюдать законы сообщества, при другом – нет. Если бы ваш Кристалл состоял из одной единственной частицы, шансы на успех его создания были бы равны пятидесяти процентам. Но ведь речь идет о квадриллионах частиц, стабильность сообщества практически равна нулю, ибо если хоть одна частица окажется в противоположном состоянии, а окажутся, без сомнения, миллиарды, то все разлетится в пыль, вдрызг, в щепки – не исключено, что в том числе и наш институт. Как тогда будем жить: я – без института, вы – без идеи? Вы понимаете, что такое молодой ученый без идеи? На него никто не захочет смотреть всерьез! А сейчас вы человек с идеей. На вас смотрят и говорят: этот человек – с идеей».
«О боже! – вдруг громко вскричал директор.– Где мои молодые годы и мои идеи? О, вернуть бы!» – И выпил залпом одну за другой обе рюмки коньяку, но закусить ему было нечем, так как все конфеты Верещагин съел.
37
В пореловском институте керамических сплавов работали Мастера. И самым умелым из них был Вася. А самым неумелым – доктор наук Несгибайло.
Когда готовился очередной опыт, все шли к Васе. Вася работал механиком, электриком, а также стеклодувом. Он мог выдуть вакуумную колбу любой формы и размеров. Он мог отъюстировать спектрофотометр, починить цветной телевизор и японские часы фирмы «Сейко», в пять минут наладить вышедший из строя самописец, расщепить пластинку слюды толщиной в микрон. В автоклав, где не предусмотрено измерение температуры, он мог вмонтировать термопару, просверлив в корпусе дырку, и, несмотря на это, автоклав держал вакуум так, будто никакой дыры в нем не было.
К Васе устанавливалась очередь. Он был нужен всем. Он был завален работой. Его просили, умоляли. И Вася сам устанавливал сроки: кому через неделю, кому через месяц, кому через два. А если благоволил к просившему, мог в тот же день. И всегда исполнял работу так, что о нем говорили: «Золотые руки у этого Васи! Мастер!»
А доктор наук Несгибайло долгое время выклянчивал у начальства разрешение на опыт. Его спрашивали: хорошо, мы вам разрешим, но когда ждать результатов – через неделю? через месяц? а, может, завтра? Несгибайло отвечал: через полтора года. Ладно, ему разрешили. Через полтора года он сказал: ничего не получилось.
Он бы мог этого и не говорить, все сами прекрасно видели, что доктор наук Несгибайло позорно опростоволосился. Полтора года огромный автоклав без перерыва пожирал сотни киловатт энергии, чтоб поддерживать придуманную Несгибайло температуру и давление, а когда по прошествии указанного срока, при большом стечении народа, автоклав торжественно вскрыли, то со дна его наскребли горсть грязных камешков, никакой ценности не представлявших. Ни научной, ни практической. Доктор наук Несгибайло сник, и теперь в него мог плевать каждый. И хотя никто в него не плевал, он все равно ходил как оплеванный.
А Вася ходил гоголем и раздавал сроки: кому день, кому месяц. И всегда исполнял – веселый и уважаемый. Он должен был прожить сто лет. Вообще-то он мог бы жить вечно, потому что судьба ничем не огорчала его, не старила, но природа, к сожалению, распорядилась так, что умирают решительно все. Во всяком случае, хоть сто лет Вася должен был жить. А может, все-таки и вечно. В конце концов, смерть не такое уж сердитое правило, чтоб совсем не знать исключений.
А доктор наук Несгибайло спасался от инфаркта инъекциями камфары и валидолом под язык.
Верещагин пришел в институт вскоре после окончания неудачного несгибайловского эксперимента, и об этой свежей новости ему рассказали в первый же день. А через неделю, обедая в институтской столовой с молодыми коллегами, Верещагин кивнул в сторону соседнего столика и спросил: «Он?» – «Точно! – воскликнули молодые коллеги.– А как ты узнал?» – «По заплеванному виду»,– ответил Верещагин. «Ты у нас сердцеед!» – восхитились молодые коллеги. «Не сердцеед, а сердцевед»,– сказал доктор наук Несгибайло, проходя мимо. «Еще поправляет!» – возмутились молодые коллеги.
Верещагин вскочил из-за стола. Он вытащил из кармана трешку и побежал за Несгибайло, крича: «Подождите! Вы потеряли три рубля!» Ему вдруг захотелось познакомиться с этим человеком. Доктор наук Несгибайло остановился. Он посмотрел на Верещагина подозрительно, однако трешку выхватил и, что-то буркнув, пошел дальше. «Ты хотел с ним познакомиться? – спросили молодые коллеги, когда Верещагин вернулся.– Зачем? Он же неудачник».– «Удачливость – забвение божье»,– ответил Верещагин. На него посмотрели удивленно и не поняли. Мастера не любят странных речей. У них, как было сказано выше, золотые руки и голова из червонного нержавеющего металла.
38
Итак, пореловский период жизни Верещагина. Директор предложил, а Верещагин взял для начала тему, нельзя сказать, чтоб легкую, но частную и очень конкретную, а оттого и попроще. Он справедливо рассудил вслед за директором – милым, интеллигентным человеком, знающим уйму интересных случаев и умеющим рассказывать их к слову, отчего они приобретали глубокий поучительный и воспитательный смысл – вслед за милым, интеллигентным и мудрым этим директором Верещагин справедливо рассудил, что ему, сотруднику в коллективе новому, следует побыстрее проявить себя в каком-нибудь оперативном деле, чтоб сразу принести институту «ощутимую плановую пользу» – так выразился директор, и Верещагин согласился с ним: действительно, начать, пожалуй, лучше всего с этого, то есть, с завоевания предварительного авторитета, имея который можно будет позволить себе взяться и за решение важных, масштабных, фундаментальных и даже рискованных научных проблем, торопиться с которыми не следует, так как впопыхах и в спешке великие дела не делаются – в этом рассуждении директора, а за ним и Верещагина, содержалась главная ошибка: великие дела как раз именно в спешке всегда и делаются – в спешке и впопыхах, о чем директор мог и не знать, но Верещагину помнить следовало – ведь именно в спешке и впопыхах писал он свою знаменитую дипломную работу,– невыносимая зубная боль торопила его руку и гнала вперед его мысли.
Как бы там ни было, Верещагин согласился с директором, красивую папочку с дипломной работой, а также неказистые пухлые папки с ее черновиками он закинул подальше на антресоли милой однокомнатной квартирки, которую стараниями милого директора получил буквально через неделю после приезда в Порелово, и со взятой темой справился очень быстро, гораздо раньше положенного срока. И тут же – по личной просьбе директора – занялся подобной же, потому что «заказчик срочно ждет результатов, а быстрее вас – нет, я не льщу, отнюдь! – быстрее вас никто не сумеет сделать». Польщенный Верещагин поднатужился – работа была выполнена в срок несколько даже фантастический: узнав, что результат уже готов, директор так высоко поднял свои тяжелые брови, что только дурак не сумел бы догадаться, что этот видавший виды руководитель приятно изумлен, – с поднятыми бровями на радостном лице он выглядел как Михаил Алексеев, зафиксировавший рекордный вес. После этого случая, встречая Верещагина где-нибудь, например, в институтском коридоре, директор всегда поднимал свои брови – в знак приветствия, а также изумления тем фактом, что на свете существует такой быстрый на руку и энергичный молодой ученый.
Верещагин получал от всего этого большое удовольствие. У него, помимо высших творческих способностей, был еще и живой темперамент, тренированный ум, человеку с таким комплексом качеств решать частные проблемы – приятное развлечение. Частные проблемы обладают одним веселящим душу качеством: они заведомо разрешимы, поэтому вся работа принимает явно игровой характер; задача лишь в том, чтоб найти решение поизящней и полаконичней, а не вообще, как в настоящей творческой работе, где можно трудиться годами, куда-то идти и до последнего момента не знать, в том ли направлении, не в тупик ли идешь, и вообще – сдвинулся ли с места. От такой работы люди лишаются сна, становятся неуверенными, раздражительными, а в случае неудачи впадают в истерику и колют внутривенно камфару, как оплеванный недавно доктор наук Несгибайло. А Верещагину было легко. Он брался за порученные темы как за шахматные задачи-трехходовки, где просто выиграть не представляет никакой трудности, но надо – в три хода. «А хорошо бы и в два»,– думал Верещагин и выполнял задания раньше планируемых сроков, за что имел благодарности в приказе и довольно щедрые премиальные суммы. Он и двух лет не проработал, как вдруг заметил, что разбогател – немалых расходов потребовала мебель и разные прочие вещи для домашнего уюта, но прибывали новые деньги, и вот Верещагин раскошелился, приобрел в комиссионном магазине замечательный японский магнитофон фирмы «Сони», ценой в рояль, так как очень любил музыку, а играть не научился – сначала война, а потом некогда было, взрывами, дурак, занимался.
Замечательная квартирка у Верещагина была – в коврах и с музыкой, с просторной кухней, балконом, ванной и с видом на железобетонный столб линии высокого напряжения из окна.
39
Шли годы: два, три, четыре. Дождливыми осенними ночами железобетонный столб напротив окна начинал угрожающе шипеть, по его проводам бегали зеленые огоньки, это электричество пыталось вырваться из них на волю: насыщенной влагой, воздух становился слегка электропроводным и пробуждал надежду.
В остальные времена года столб вел себя тихо. Верещагин любил его и часто любовался его железобетонной устремленностью ввысь – в те редкие минуты, когда мог любоваться. Свободного времени оставалось мало. Работа и развлечения занимали весь день и даже немного ночи. Верещагин ходил с приятелями в кино, ресторан и местный театр, где познакомился с двумя девушками. Одна из них сидела в зале, другая – выступала на сцене, то есть он познакомился со зрительницей и с актрисой; разумеется, в разное время. Эти события не играют важной роли в нашем повествовании и упомянуты лишь затем, чтоб было ясно, почему у Верещагина оставалось мало времени любоваться столбом.
Однажды вечером, распахнув, несмотря на ненастье, окно, он стал слушать шипение, смотреть на огоньки и вдруг захотел, чтоб сгусток электричества вырвался из высокого провода и молнией ударил ему в грудь. «Тогда было бы все как надо»,– подумал он, хотя, казалось бы, и так все шло как надо, жаловаться ему не приходилось: успешная работа, уважение начальства, друзья, две девушки – из партера и со сцены… К чему еще сгусток электричества в грудь?
«Я пожелал глупость»,– сказал себе Верещагин, вдруг испугавшись немедленного исполнения этого мимолетного глупого желания. Он закрыл окно, включил японский магнитофон, из которого тотчас же вырвалась чудесная музыка, стал слушать и подпевать, но не в этом дело.
А в том, что он все-таки пожелал себе сгустка электричества в грудь. Всякие последующие оправдания: дескать, я пожелал глупость, ничего не стоят, пожелать глупость нельзя, желания наши глупыми быть не могут: рожденные прежде добра, зла и смысла, они их запоздалому суду не подлежат. Глупым может быть размышление или поступок, то есть глупость можно подумать или сделать. А пожелать глупость – нельзя.
И безнравственными желания не бывают. Даже мысли – с большой натяжкой мы можем делить их на хорошие и плохие. Вот поступки – те да.
Никому еще желания и мысли других людей не причиняли вреда, зато от поступков ближних своих мы страдаем с рождения и до смерти.
Над желаниями нашими – лишь божий суд; мысли свои мы судим внутри себя; только поступки подвластны суду людскому. Вот что я хочу сказать.
И еще я хочу сказать: желания наши – звери лесные, должно любить и охранять их, как братьев меньших. Пусть рыщут свободно, неволя и клетка убивают в них жизнь. Даже когда воруют они ягнят наших, не можем сказать мы, что безнравственно поступают они.
Мысли наши – ровня нам. Их судим мы, и ими судимы. Не возвышаемся мы над ними, но и не ниже их.
Поступки же, те – боги. Возвышаются они над нами. «Дай-ка сотворю поступок»,– думаем мы, и поступок смеется нашему бахвальству: не мы творим его, а он нас.
Свершенный нами, он творит нас. Как Бог поступает он.
И ропщем мы на поступок как на Бога. «Что делаешь ты с нами?» – так ропщем мы.
Я знаю, как возник мир. Я сейчас вам расскажу, как он возник.
Вначале был хаос, и восемь Желаний носились над бездной.
Но вот они встретились и слились попарно – то ли в битве, то ли в объятиях, тогда еще не различалось одно от другого.
И родилось четыре Мысли. Теперь они носились над бездной, хаос имя которой.
Но пришло время и им слиться попарно в битве-объятиях. Два Слова родилось от них.
Когда же два Слова познали друг друга, родился Поступок, вспыхнул свет и начало быть то, что должно быть, а хаос исчез. Потому что хаос – это название мира до того, как в нем совершился первый Поступок.
Но не в этом дело. А в том, что Верещагин пожелал сгустка электричества в свою грудь.
40
В чем вред волка?
Если б, напав на стадо баранов, он убил одного, чтоб съесть, кто осудил бы его? Но ведь этот серый мерзавец поступает иначе. Не останови его, он будет резать бедных животных весь день, без отдыха, он перережет нею скотину и уйдет, не воспользовавшись и малой частью плодов своего труда. Он убивает не ради еды, ради наслаждения убивать убивает он.
А как ведет себя ученый, из тех, кого мы зовем великими? Великий ученый ведет себя вот как: он создает частную теорию относительности для того, чтоб тут же засесть за общую, а создав и ее, запирается в кабинете, чтоб до конца дней своих разрабатывать единую теорию поля. Разве это нормально? Бросить все свои силы, чтоб что-то открыть, а открыв, снова бросаться? Добившись чего-то, не воспользоваться добытым, а снова добиваться? Противоестественно это. Великий ученый ведет себя в мире природных тайн как волк в бараньем стаде. Но почему же в него не стреляют? Почему не называют серым мерзавцем? Почему возносят на пьедестал, почему всех нас в детстве бьют под коленки, чтоб мы падали ниц перед великими убийцами тайн? Почему?
Потому что болезненная ненасытность так называемых великих ученых кое-кому выгодна. Шакалы, питающиеся падалью, рукоплещут волку: «Браво! Как много ты наубивал! Бей еще – ты уйдешь, мы поживимся падалью, плодами твоего труда». То же самое кричат ученому обыватели: «Убей для нас побольше тайн, мы пожрем их трупы! Мы построим из созданных тобою материалов дворцы, мы превратим в электрический свет твои формулы, мы насладимся музыкой небесных сфер, которую ты приблизил к нашим низменным ушам. Сиди! Потей! – а мы будем есть и пить в дворцах из твоих материалов; твори! чахни! – а мы будем веселиться при свете, созданном тобой, под музыку, созданную тобой, с женщинами, принадлежащими тебе». Да, именно: с принадлежащими ему,– вы не понимаете, почему именно ему? – да потому, что женщины должны принадлежать лучшим, умнейшим, сильнейшим. Спросите их – женщин,– кому бы они хотели принадлежать. О, они охотно бросили бы своих дураков, они радостно протянули бы руки к умнейшим, сильнейшим, но дурак – не дурак, он спроваживает этих умнейших и сильнейших в лаборатории, за письменные столы, он запирает их на ключ, он кричит в замочную скважину: «Ты великий, ты гениальный, я преклоняюсь перед тобой, вкалывай, это твой долг!» Лестью, обманным преклонением он уродует души лучших людей земли, превращая их в профессиональных убийц тайн. А сам – к бабам, к пиршественному столу… Зачем нас Бог спустил на Землю? Чтоб каждый – слышите: каждый! – открыл по тайне, по одной, но – каждый! Но дурак не хочет этим заниматься, потому что не такой уж он дурак, его тянет весело пожить, и вот он кружит славой, мнимой властью головы лучших людей, и они уже не могут остановиться. «Открой за меня! – кричат ему.– И за меня! И за меня! Мы назовем тебя за это гением, только не останавливайся! Не оглядывайся!» А сами – на танцульки, к столу, в постель. Им бифштексы и девушки, а великому – слово: гений. Слово! Ах, как околпачены умные! Здорово одурачили их дураки!
Но не вечно же быть такому. Умные на то и умные, чтоб в конце концов разгадать хитрость дураков. Близок час! Ах, как удивится, ах, как огорчится, ах, как растеряется дурак, когда увидит: в танцевальный зал входят великие… «Эйнштейн пришел! – воскликнет самая красивая и оттолкнет своего дурака.– Долгожданный Альберт,– скажет она,– разрешите пригласить вас на белый танец шейк… Ну, хотя бы на танго… Ах, не бойтесь наступить мне на ногу, мне совсем не больно, господин Теория-Относительности, мне это даже приятно, мсье Общая-Теория-Поля…»
«Дудки! – скажет Эйнштейн и больно-пребольно наступит ей на ногу.– Общей теорией поля я больше не занимаюсь. Свою долю тайн я уже открыл. Теперь открытиями пусть занимается вот этот,– и он ткнет пальцем в сторону того дурака, которого самая красивая оттолкнула.– А мы с вами потанцуем, попьем лимонада и пойдем, сами понимаете куда».
…Все эти рассуждения, между прочим, принадлежат не мне, это сам Верещагин высказался однажды в таком духе – во время перекура, в коридоре института, в кругу молодых коллег-приятелей на пятый, примерно, или шестой год проживания в Порелово. Юношеской фантастичностью он уже переболел, а небесный огонь призвания еще не поджег его души, это происходит лишь в зрелые годы. Оказавшись в пустом промежутке, он вдруг увидел, что жизнь весела и прекрасна, ну и захотелось ему объяснить приятелям, что поворачиваться к ней спиной – просто глупо.
«И где это ты насобачился так образно мыслить?» – спросили приятели. В принципе они были согласны с Верещагиным. Юношеская увлеченность у них тоже прошла, небесный же огонь страшен им не был – слишком сырыми создал Бог их души.
41
Ехал как-то однажды Верещагин с работы и разговорился в троллейбусе с двумя девушками – коренастыми, смешливыми, прыщавыми, восемнадцатилетними. Вместе сошли – выяснилось, что по дороге. У своего дома Верещагин сказал: «Хотите, приглашу в гости?», забавным ему показалось привести таких к себе. «А у вас магнитола есть?» – спросили обе разом.
Во, какие нынче девушки. Коренастые, прыщавые, а без магнитолы не хотят.
«У меня «Сони» есть»,– ответил Верещагин. «Так бы сразу и сказали, что женатый»,– возмутились девушки.
Даже в наше время некоторые представители молодого поколения имеют низкий культурный уровень, затрудняющий взаимопонимание.
42
И еще про троллейбус. Как-то увидел Верещагин на остановке троллейбус и помчался к нему во весь дух. Троллейбус вот-вот тронется, Верещагин не чает уже успеть, но успевает, слава богу. В последний момент вскакивает.
И тут вдруг начинает себя странно вести. Вместо того чтобы, отдуваясь, плюхнуться на сиденье, он продолжает бежать вперед – уже внутри троллейбуса, под общий, конечно, смех пассажиров. Недолго, разумеется, бежал: до кабины водителя, там вынужден был остановиться.
Смешное это поведение Верещагина объясняется тем, что он разогнался. Не только физически, но и душою. Когда человек долго бежит, он уже думает больше не о цели бега, а о самом беге. От этого много бед на земле происходит. И все лучшее – тоже от этого.
Кто долго бежал, тому жизнь начинает казаться бессмысленной, если уже не надо бежать.
Он уже едет с комфортом, но вдруг вскинется, встрепенется – порывается бежать. Однако недолго это состояние длится.
Так что только на мгновение пожелал Верещагин сгустка электричества в грудь.
43
«Магнитола – это дерьмо,– говорит Верещагин.– У меня японский кассетный магнитофон фирмы «Сони» на семьдесят два часа непрерывного звучания с диапазоном воспроизводимых частот от восемнадцати до двадцати трех тысяч герц при коэффициенте нелинейных искажений ноль целых две десятых процента».
Рот приоткрывается. Губы влажнеют. Обожающий взгляд прорывается к Верещагину сквозь прыщи.
Только в наш технический век интеллектуальное развитие достигло таких высот, что один человек способен полюбить другого за обладание приборчиком с коэффициентом нелинейных искажений в ноль целых две десятых процента.
44
А как же с идеей, родившейся под зубную боль? Ее Верещагин закопал. Глубоко, как когда-то на пляже красивую девочку.
45
Верещагин замечал, что становится обыкновенным человеком, но возникающей обыкновенностью не огорчался, быть обыкновенным гораздо приятней, чем необыкновенным, это знают все, кто когда-либо – хоть год, хоть час – был необыкновенным и натерпелся от своей необыкновенности. Я не осуждаю Верещагина, я сам время от времени становлюсь обыкновенным человеком, этот процесс приятен, но порочен – иногда Верещагина охватывал страх, который он не связывал со своим изменением, но который, однако, вытекал из него…
То был страх смерти. Три раза он охватывал Верещагина.
46
Один мой знакомый тоже: поехал в командировку – маленький городишко, прелесть, пальчики оближешь: речка с хрустальными водами, на пляже девушки с такой кожей, какую нынче только в провинции и встретишь, а главное, фантастическая дешевизна: фрукты, овощи на базаре по смехотворно низким, совершенно не столичным ценам.
И вот пошла у моего знакомого от всего этого голова кругом: рай, да и только. Размягчился он, рассиропился – целые дни на пляже просиживает, смехотворно дешевыми яблочками похрустывает, с матовокожими девушками в карты играет. Преферансу некоторых обучил.
Девушки на его шутки чистыми голосами смеются, в преферанс ему проигрывают, в хрустальные воды за руку, резвясь, тянут… Только время от времени удивленно спрашивают: чего это вы так вдруг побледнели?
А мой знакомый бледнел оттого, что нет-нет да и вспоминал: дела. Их-то он забросил! Не с той же целью его сюда прислали, чтоб на пляже среди девушек, яблочек и карт нежиться! Он мне потом признавался: веришь ли, райской, говорит, жизни вкусил. Но как вспомню, говорит, бывало: дни идут, все меньше их остается, а начальник у меня сам знаешь какой строгий – вернусь, спросит: ну как, сделал дело, за которым посылали?
А посылали его, чтоб он на местной фабричонке вагон мешков выбил – какие-то особо высококачественные мешки, их только в том городишке на фабричонке делали, они заводу, на котором мой знакомый работал, нужны были – чтоб какую-то продукцию в них упаковывать – позарез.
Итак, значит, три раза охватывал Верещагина страх смерти.
47
Однажды Верещагин, закончив работу, стоял в институтской проходной, ожидая приятелей – куда-то там собирались пойти. А на проходной дежурила знакомая вахтерша-старушка, и Верещагин с нею разговорился. Была у старушки в тот день щека заклеена пластырем. Верещагин, естественно, полюбопытствовал, что за беда, не правнучонок ли повредил.
А вот и не правнучонок вовсе, объяснила старушка, а росла у нее на щеке какая-то штучка, фурункул не фурункул, а что-то в этом роде: не то бородавка, не то воспалительный процесс. С молодости рос этот процесс, бабушка к нему сначала без внимания, а в старости забеспокоилась: больно велик стал, с вишню, правнуков пугает, особенно младшенькую, ее целовать, а она в слезы – черненький такой фурункул, с вишню воспалительный процесс, страшненькая, одним словом, бородавочка, вот бабушка и пошла к врачам с просьбой, чтоб отрезали. А те – руками замахали, в один голос: не прикоснемся, опасная это вещь, пусть уж существует, недолго, мол, осталось.
Так бы и проходила бабушка с этой черной неприятностью остаток своих дней, если б приятельница не надоумила: сходи, мол, к Андрею Афанасьевичу, замечательная личность, чудотворец, светило; может, он что сделает. И, представьте, сделал, отчекрыжил бородавку, правда, не сразу. Сначала травы приложил, а может, и не травы, а химическое вещество. А когда отрезал – эти же травы, а может, другие, точно неизвестно. На первое время, говорит, пластырем закроем, а под пластырь порошка желтого насыпал. Дня через три, говорит, снимем и будешь ты, бабка, совсем как настоящая красавица, за генерала, говорит, в отставке замуж выйдешь, любой возьмет. Веселый он, Андрей Афанасьевич, балагур,– послушать, так кажется – пустобрех, но это только изовнешне, дело свое он знает замечательно, и не знахарь вовсе какой-нибудь, не дед-чудотворец, а доктор, институт кончал, в больнице всю жизнь проработал, теперь на пенсии, но к нему все равно обращаются, он не отказывает, для народа живет. Денег почти не берет, за первый приход, когда осмотрел,– рубль взял, когда отрезал – еще три рубля, так он же на спирт больше потратил, щеку перед операцией протирая, да на травы и лекарства, я ему говорю, что это вы, Андрей Афанасьевич, за так трудитесь, какая вам выгода от трудов ваших. А он смеется, большая, говорит, выгода. Вот я, говорит, тебя на улице встречу без фурункула и полюбуюсь: красивая, мол, женщина. Я, говорит, все ж мужчина, мне такое приятно. Я, говорит, собственноручно вокруг себя красоту создаю. Такой шутник, но дело знает. Когда резал – губы комочком, глаза холодные. А после смеялся: я тебя, бабка, на примете держать буду. Может, еще у генерала отобью, если повезет. Веселый человек, добрый…
Тут подошли приятели, забрали Верещагина куда собирались, домой вернулся он поздно, в хорошем расположении духа, закурил, полюбовался из окна железобетонным столбом при лунном освещении и стал раздеваться, чтоб лечь спать.
И вдруг заметил на животе темную точечку. То есть, он всегда знал, что она у него есть, с самого рождения, давно перестал обращать внимание, но тут вдруг присмотрелся внимательно и увидел, как сильно она выросла за последнее время. Теперь это был уже довольно внушительных размеров бугорок – холмик, курганчик – коричневатый, растрескавшийся, похожий на березовый гриб чагу. Верещагин взял лупу, которую когда-то зачем-то купил, и рассмотрел родинку уже вооруженным глазом – при увеличении она напоминала лунную поверхность, какой ее в то время рисовали фантасты.
Случайный разговор на проходной дал плоды: Верещагин не на шутку встревожился, а когда почувствовал, что она, эта родинка, кроме того что увеличена, еще и побаливает, то вообще испытал панический страх – одним словом, на следующее утро он бежал в институт, думая не о предстоящей работе, а о том, чтоб побыстрей увидеть старушку вахтершу и спросить у нее адрес этого Андрея Афанасьевича, но оказалось, что старушка сегодня не дежурит, выходной у нее, только через два дня появилась, Верещагин к этому времени уже сна лишился, такой вдруг страх смерти его обуял. Первый.
«Ну, как же,– сказала старушка,– помню адресок, вот вам бумажка, вы на ней запишите» – и рукой по гладкой щеке провела, адресок Верещагину продиктовала.
48
«Вы ко мне по делу? – спросил старик чудодей. Он был толст, мясист и очень стар.– По какому?» – «Я за консультацией,– ответил Верещагин. Он примчался в тот же день, сразу как получил адрес. Ушел из института, работу бросил.– Можете уделить мне пять минут?» – «Конечно,– ответил старик.– Но только если вы не из газеты. Вы не из газеты?» – «Нет»,– ответил Верещагин, измучившийся и немногословный, как нечаянный убийца на допросе. «Тогда присаживайтесь,– сказал старик.– Лучше на этот стул. А я сяду в это кресло. Вчера ко мне приходили из газеты, но я отказался разговаривать. Я мягкий человек, но иногда могу быть ух каким грубым. Могу даже выгнать, да, да! Зачем мне их очерк? Пусть даже они поместят в газете мою фотографию – что это даст? Все равно ни одна девушка не пришлет мне любовного письма. А если пришлет,– представьте такой случай,– что я буду с ним делать? Ко мне приезжал сын, знаете, что он сказал? «Папа,– сказал он.– Должен тебе признаться, женщины меня уже не волнуют». Это моего сына уже не волнуют, а меня, как вы думаете? Причем средний приезжал, это среднего уже не волнуют. О старшем и говорить не приходится. Так что мне их очерк не нужен. Человек ищет славы, когда хочет успеха у противоположного пола… Я уже двадцать лет не практикую. Конечно, пациенты есть, каждый день кто-нибудь приходит, но в больнице уже не работаю. Да, я излечиваю каждого, кого берусь лечить,– это обо мне верно говорят. Неизлечимых болезней нет. Все болезни делятся на две категории: которые сами проходят и которые надо лечить.