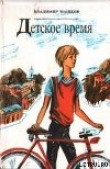Текст книги "ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ"
Автор книги: Владимир Краковский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 33 страниц)
«Я буду там работать? – спросил Верещагин.– В Порелово? – Пореловский научно-исследовательский институт керамических сплавов был одним из тех провинциальных научных центров, о которых знают специалисты всего мира. О работе в Порелово Верещагин не пробовал и мечтать.– Спасибо! – сказал он, ликуя. Красильников сидел на медвежьей шкуре усталый, с потухшим взглядом.– Мне не хочется от вас уезжать»,– сказал Верещагин, стыдясь своей радости.
«Врете,– ответил Красильников.– В вашем возрасте всегда хочется уезжать».
«Вру,– сознался Верещагин.– С вами трудно разговаривать, потому что вы все чувствуете. Но ничего, через десять лет я тоже буду все чувствовать».
«Через десять не будете,– сказал Красильников.– Вы все будете чувствовать через двадцать пять лет».
«Я привезу вам подходящую пуговицу,– пообещал Верещагин.– Самосветящийся глаз».
И они расстались.
25
В Порелово жили мастера. Они ходили по улицам этого красивого городка уверенной походкой, и каждый что-то умел. Мастер – это человек, который что-нибудь хорошо умеет.
Вообще все люди человечества делятся на два сорта: вот на этих самых мастеров и на других, которых я даже не знаю как назвать.
Так и назовем их пока: другие.
Об этом, пожалуй, стоит поговорить сейчас, потому что потом может не представиться случая.
Я хочу, чтоб читатель, прочитав эту книгу, перестал быть невеждой и знал, на какие два сорта делятся все люди.
Если я не разъясню это сейчас, то потом, захваченный судьбой Верещагина, могу забыть или не найти места для подобных разъяснений, и читатель на всю жизнь останется недоумком, который не знает, на какие два сорта делится все люди вокруг нас.
Значит, так: все люди вокруг делятся на мастеров и на других, которым я не умею придумать имени.
Мастера – это те, которые что-то умеют хорошо делать: я уже это говорил.
А другие – не умеют.
Мастер всегда хорошо знает, чего хочет.
А другой – не знает.
У мастера золотые руки, и голова у него тоже из золота. Он вообще – сплошной золотой слиток.
А у другого голова набита разными перепутавшимися спиралевидными туманностями. И руки у него трясутся. То от нетерпения, то от растерянности.
Мастер входит в лес, вскидывает ружье и посылает пулю точно в сердце зверя.
А другой говорит: «Это не тот зверь, который мне нужен» – и так долго шляется между деревьями без результата, что когда, наконец, встречает нужного ему зверя, то от волнения часто промахивается.
Я же говорил: у него трясутся руки.
Мастер, встретив на пути горный поток, строит через него добротный мост и проходит над бурлящими водами чеканным шагом.
А другой, разбежавшись, прыгает прямо в поток – на камень, который случайно подкатили к этому месту бурлящие горные воды, а с этого камня на следующий, и, если ему повезет, добирается до противоположного берега бледный, с трясущимися от страха ногами. И ноги у него тоже трясутся, оказывается. Когда мастера спрашивают: «Как ты перебрался?», он отвечает четко и ясно: «Построил мост»; мало того, показывает чертежи этого замечательного моста, которому сносу нет и по которому теперь каждый дурак может спокойно перейти. Когда же спрашивают другого: «Как перебрался ты?», он отвечает, удивленно пожимая плечами: «Сам не знаю как».
Конечно, с мостом лучше, тут двух мнений быть не может. Но, к сожалению, не у каждой горной реки лежит на берегу соответствующий для моста строительный материал. Я хочу сказать, что поскольку построить мост не всегда представляется возможным, то эти другие нам, человечеству, к сожалению, нужны иногда. А то бы мы их уже турнули из нашего замечательного человечества.
Потому что ненадежные они люди, очень нестабильны результаты их труда. То они непонятно как доберутся до противоположного берега, то посреди потока с коротким воплем погружаются в пучину вод,– поминай как звали. У них все зависит от того, подбросит ли бурной волной к нужному месту в нужный момент подходящий камень, и еще от того, возникнет ли в их душе в нужный момент необходимое для головоломного прыжка вдохновение.
Случай и вдохновение – вот что нужно для успеха этим другим. Они вообще во всем надеются на Господа Бога, тогда как мастера на самих себя.
Без помощи Господа Бога, который творит случай и вдохновение – все остальное сущее в мире от него не зависит,– без этого Господа Бога другие – нуль. Они не сами по себе, от них как бы тянется невидимый провод с невидимой вилкой на конце, и, если эту невидимую вилку не воткнуть в невидимую розетку, через которую Господь Бог подает свой невидимый божественный ток, они, лишенные удачи и вдохновения, как прожектор, поставленный посреди пустыни, безглаз и нем, так и они – ни на что не способны, пользы от них как от козла молока.
Света от неподключенного прожектора меньше, чем от спички.
А мастер?.. О, мастер! Он в божественном токе не нуждается. Он как фонарик. Внутри у него своя батарейка.
Все ли ясно о мастерах и других? Мне лично сказанного хватило бы, чтоб понять. Но если вам недостаточно, могу еще.
Мастер – это тот, который то, что умеет, умеет хорошо, а если не умеет, то – извините.
У мастера золотые руки и голова тоже из червонного золота.
Мастер входит в лес, вскидывает ружье и всаживает нулю точно в сердце зверя.
Впрочем, это я уже говорил.
Мастера бывают разных специальностей. Есть, например, мастера мужского дела. Такой заявляет: «Дайте мне женщину, и я продемонстрирую вам высший класс любви». Ему дают женщину, и он действительно демонстрирует. Уходя от него, женщина восхищается: «Вот это мужчина! Как мастерски он меня любил!»
А другие не заявляют: «Дайте мне женщину»,– мало того, когда к ним женщину подводят, они крутят носом, говорят: «Она мне не нужна. Я не влюблен в нее», им обязательно нужно влюбиться, чтоб заниматься мужским делом, даже эту несложную процедуру они не могут проделать, не будучи предварительно подключенными к божественной розетке.
И вот они отправляются искать женщину, в которую могли бы влюбиться; искать – это они обожают, их хлебом не корми, дай только поискать, я даже хотел сначала назвать их искателями, но лучше пока пусть остаются просто другими.
И если находят, то что, вы думаете, эти женщины говорят, уходя от них? Думаете, то же самое, что и о мастерах: «Ах, как мастерски он меня любил!» – думаете это? Отнюдь. «Ах, как нежно я его сама люблю!» – вот это они говорят, уходя. Правда, редко говорят. Потому что редко уходят.
Ну, теперь, я думаю, и самому бестолковому читателю понятна разница между мастерами и другими, которых я мог бы назвать искателями, но не захотел.
Дело, конечно, не в названии. В быту, например, в нашей реальной трудовой, обыденной жизни их никто вообще никаким отдельным словом не называет, не то что искателями. Большинство людей называет их просто плохими мастерами.
Как говорит один мой знакомый, в жизни есть хорошие мастера, а есть плохие, и больше никого.
Он так и говорит: «И больше никого!» И при этом делает рукой такой жест, будто кому-то по морде. Ему не возразишь.
26
Первый мастер, встреченный в Порелово, был фотограф.
Верещагин зашел в фотоателье, чтоб сфотографироваться для пропуска, о чем так и заявил: «Мне для пропуска», но фотограф не удовлетворился сказанным и задал совершенно лишний, по мнению Верещагина, вопрос: «Для какого?» – «Для обыкновенного»,– сердито ответил Верещагин, сел в кресло напротив зрачка фотокамеры и стал в этом кресле от нетерпения ерзать. Он думал, что объяснил все.
Фотограф оказался спокойным, уверенным в себе человеком, не раздражаясь и не торопясь, он разъяснил Верещагину, что фотографии для пропуска бывают разные. Если клиент собирается работать, например, на мясокомбинате, то размер фотографии для мясокомбинатского пропуска – три сантиметра на четыре, если же, скажем, в институте керамических сплавов, то размер совсем другой: четыре на шесть. Верещагин вынужден был сообщить, что поступает на работу именно в институт керамических сплавов. «Вот теперь все ясно»,– сказал фотограф и не спеша стал готовить камеру к съемке.
Пока он это делал, Верещагин разговорился с ним. Фотограф ему понравился спокойной своей справедливостью. Как раз накануне Верещагин прочитал в каком-то журнале статью о том, как один бельгийский, кажется, фотолюбитель сфотографировал улитку, которая ползла по листку, оставляя за собой мокрый след, и прославился этой фотографией на весь мир. Ему штук десять международных премий за нее дали. «У вас, наверное, тоже накопилось немало оригинальных снимков»,– высказал, предположение Верещагин, уверенный, что конечно же накопилось, так как фотограф был пожилым человеком и многое должен был успеть снять на своем веку, но получил неожиданный ответ. «Я не ищущий фотограф,– ответил фотограф.– Я просто фотограф. Но зато я хорошо знаю свое дело».
Он рассказал Верещагину, что в Порелово есть несколько ищущих фотолюбителей, чьи снимки выставлялись даже на различных выставках, но сколько бы они там ни искали, в конце концов обязательно прибегают к нему, чтоб проконсультироваться насчет состава проявителей, а также с просьбами помочь как следует отпечатать их оригинальные снимки. «Щелкнуть – это они умеют,– сказал фотограф.– Они все ищут и ищут, как бы поинтересней снять, у них, видите ли, творческое воображение, а умения – никакого, без меня обойтись не могут. Потому что я – мастер».
Верещагин удивлялся, слушая эту речь. Что-то подобное говорил однажды Красильников о мужчинах и женщинах. Что мужчина всю жизнь ищет новое, пробует как лучше, ошибается, экспериментирует и запечатлевает все это на своих хромосомных фотопленках, в потом, прибежав к женщине, отпечатывает все заснятое на детях, как фотобумаге, для того чтобы следующее поколение с большим умением обходило острые углы, о которых распарывали брюхо их отцы им в науку. Верещагину странно было слышать, что мужчина хвастается женщиной способностью хорошо отпечатывать чужие снимки.
У вас, наверное, нет времени самому заниматься творческими поисками»,– попытался он найти фотографу оправдание, но тот, оказывается, нисколько не тяготился бесталанностью и не ухватился за брошенный Верещагиным спасательный круг. «Времени у меня хоть отбавляй,– ответил он.– Просто ни к чему мне это. Не люблю и чего-то там искать. Я люблю уметь. Я – мастер».
Верещагин удивился еще больше. Он так и вышел на фотографии – с удивленно расширенными глазами и растерянной улыбкой человека, который слегка и неожиданно ушибся.
Он прожил в Порелово больше двадцати лет. Сначала он развлекался и тосковал, потом злился, отчаивался, скрипел зубами, лез на стенку и бился об нее головой; был случай, когда, воя, он сбежал по лестнице и соседи выскакивали из квартир, чтоб спросить друг у друга, что за звук, не война ли и сирена? – здесь его обманывали и унижали, смеялись над ним, пытались выжить и выжили-таки наконец, здесь у него впервые задрожали кончики пальцев, разладился сон, именно отсюда он попал на Прекрасную Планету, где чуть не погиб в раскаленных песках, здесь он неоднократно был охвачен умопомрачительным страхом смерти, потерял веру в себя, резал собственное тело, плакал ночами от любви, обернувшейся ложью, но, что бы с ним ни случалось,– каждое утро, появляясь в институтской проходной, он протягивал вахтеру пропуск с фотографией, на которой улыбался растерянно и удивленно, будто ушибся только слегка.
27
И в самом деле: чем больше человек ищет, тем меньше у него умения. Потому что умение требует усидчивости и однообразия, оно приходит только к тем, кто долго, не оглядываясь, занимается одним и тем же делом.
28
Все, что я говорил выше о мастерах и других, не совсем верно.
Люди делятся на умеющих ставить задачи и на тех, кто умеет их решать. На сочиняющих приказ и исполняющих его. На Творцов и Мастеров. Другие здесь ни при чем. Творцы и Мастера – вот из кого состоит человечество. И у каждого своя гордость.
У одних – компас, у других – ноги в сапогах. Одни указывают путь, другие – идут. Одни рисуют фанерному человечку кружок под сердцем, другие всаживают в него пулю. У каждого своя гордость.
Но Мастера – счастливей. У них твердая рука, а стрелка компаса всегда дрожит в сомнении. Мастера не бегают, взбудораженные, по квартире ночами и не лежат, обессиленные, по утрам в постели, не смотрят в потолок тоскливым взглядом. Они бодро вскакивают и, едва надев рубашку, тотчас же засучают у нее рукава.
Каждая женщина мечтает родить Мастера. Потому что она хочет своему сыну счастья.
29
А вот и притча!
Строго говоря, это просто забавная история, вычитанная мною в журнале, который мне привезли из Парижа. Французским я не владею, однако большого значения это не имеет: если читать медленно и после каждого слова задумываться, можно понять любой язык.
В этом журнале рассказывалось об одном средневековом палаче, который умел отсекать голову так ловко, что топор у него оставался сухим. Молниеносным движением он совершал казнь и торжествующе поднимал над плахой сверкающий, не обагренный кровью топор.
Толпа восхищенно рукоплескала умельцу. В народе о нем говорили: «Золотые руки у этого парня!» Шестнадцать деревень и один городок спорили за право называться его родиной.
Он не спрашивал, за какие преступления приговорен к смерти казненный им. Он даже не смотрел, куда укатилась голова. Одна была у него забота: оставить топор сухим и заслужить одобрение народа.
А подписавший приговор терзался в сомнениях, иногда даже плакал. Он боялся мести единомышленников казненного и особенно что скажут о нем потомки. Может, он не того приговорил и потомки заклеймят его словами: «Подлец! Убийца!» Он страшно переживал, думая об этом.
А поднимающий над плахой сухой топор знал – потомки скажут о нем то же, что и современники: золотые руки.
«Мастер! – скажут они.– Ух, какой был мастер!» Поэтому он не хотел знать ничего, кроме мига своей работы – ни до, ни после. Ни – за что приговор, ни – куда укатилась голова.
30
Я поторопился описать встречу с фотографом. Новый – пореловский – период жизни Верещагина начинается не с нее. Я уже чувствую приближение главных событий и начинаю перескакивать через неглавные – это нехорошо. Я рвусь навстречу волнующим дням создания Кристалла и пропускаю предлежащие. Этого делать нельзя. Когда речь идет о таком человеке, как Верещагин, смешно делить события на главные и неглавные. Читатель должен знать любую мелочь. И впредь я буду одергивать себя. Тормозить свой нервно убыстряющийся бег. Буду подробно описывать все, что знаю. Все, что вспомню. Вспомню, как Верещагин чистил зубы,– опишу, как он чистит зубы. Вспомню, как курил,– расскажу в деталях, как зажигал спичку и как затягивался. Я приструню себя. Потому что иметь представление о том, как Верещагин зажигал спичку, для читателя важнее, чем, скажем, получить высшее образование или жениться. Допустим, читатель женится, допустим, получит диплом инженера,– ну и что? Наплодит детей и будет ежедневно посещать какой-нибудь завод, чтоб чем-то там руководить. Пользы ему от такой жизни – кот наплакал. А если он будет знать, как Верещагин зажигал спичку, он будет знать – как Верещагин зажигал спичку. Этого у него уже никто не отнимет. В любой компании он сможет вызвать к себе огромный интерес, если скажет: а я знаю, как зажигал спичку создатель Кристалла.
Создатель Кристалла зажигал спичку, чиркая от себя. До девятнадцати лет он чиркал к себе, но потом ему Красильников сказал: «Вы что – хотите остаться без глаза? Если от спички отскочит кусочек серы, то при таком методе зажигания он полетит прямо вам в лицо».
С тех пор Верещагин чиркает от себя.
31
А начинается новый – пореловский – период жизни Верещагина с приезда. Встреча с фотографом – это уже позже, дня через два.
Приезжает Верещагин в Порелово поездом. На вокзале его встречает заместитель директора института по хозяйственной части. «С приездом! Рады вас видеть!» – говорит заместитель директора института по хозяйственной части и улыбается так радостно, что Верещагин думает: «Мы, наверное, когда-то встречались; наверное, даже были большими друзьями, но я забыл». Он испытывает неловкость оттого, что забыл, смущается, а заместитель директора тем временем говорит: «Примут вас завтра, в десять утра, пока отдыхайте, номер в гостинице заказан, оплачен, отправляйтесь туда». И сам подвозит Верещагина до гостиницы в новенькой машине, передает из рук в руки улыбающимся администраторшам, улыбающиеся администраторши ведут Верещагина в заказанный для него номер, и вот Верещагин наконец один – посреди роскошной комнаты с радиоприемником и роялем,– телевизоров в то время еще не было, и кровати в роскошной комнате тоже не было, хотя в ту эпоху они уже имелись повсеместно. «Принесут, наверное, позже»,– наивно думает Верещагин о кровати – ведь он страшно юн, неопытен, никогда не жил в гостиницах, он допускает, что порядки в гостиницах такие: кровать приносят к ночи. Так что отсутствие места для спанья нисколько ого не настораживает, он распахивает высокую дубовую дверь рядом с роялем, предполагая, что там, за дубовой дверью, ванная, а ему необходимо помыться с дороги,– он распахивает дубовую дверь, а там не ванная, там круглый столик, кресла, бра по стенкам – то есть еще одна комната. «Вот это да!» – думает Верещагин и плюхается в кресло, ужасно гордясь тем, что институт заказал для него двухкомнатный номер,– ему бы, конечно, и однокомнатного хватило, но двухкомнатный лучше – не для удобства проживания, а как свидетельство уважения,– мам всегда приятно, когда нас уважают чуточку больше, чем мы сами себя. Однако помыться Верещагину все-таки нужно, он видит еще одну дверь, быстро раздевается – пиджак, брюки, белье летит на кресла, на столик,– голый он распахивает дверь – и что же? – полумрак, шторы на окнах, пушистый ковер под ногами, а в углу просторная, торжественная – вот она! – кровать, торшер возле нее. «Спальня!» – догадывается Верещагин. Третья комната, трехкомнатный номер для него заказали! Вот как, оказывается, уважают его здесь, даже страшно, черт возьми… Тут он видит новую дверь и открывает ее со страхом – слава богу, наконец-то ванная, он уже не чаял ее найти: никелированные краны, зеркала, кафель, матовый унитаз – все как полагается, все по первому разряду…
«Зачем мне рояль?» – думает Верещагин, напуская в ванну воду; он вдруг начинает остро жалеть, что не научился в детстве игре на фортепиано,– первый и последний раз в жизни ругает себя за то, что упустил время: сам виноват, ведь после войны мать нанимала ему учителя, но он не стал заниматься, только об алмазах думал в то время, сотрясал город взрывами, а как хорошо бы сейчас пройти через все комнаты нагишом, сесть за инструмент и сыграть что-нибудь такое, от чего растет уважение к себе,– от настоящей музыки всегда растет уважение к себе… «Зачем мне рояль, мне и пианино хватит»,– думает Верещагин, воображая себя умеющим играть. Будто все дело теперь в том, какой инструмент. Будто исправил ошибку детских лет.
Вода наливается в ванну до краев – прозрачная, словно из родника – такую воду, наверное, специально готовят для дорогих гостиничных номеров,– с голубым оттенком: надо полагать, эта голубизна тоже оплачена институтом, не поскупившимся на знаки уважения к новому сотруднику, рекомендованному самим профессором Красильниковым…
Рояль не выходит у Верещагина из головы.
32
Вот этот эпизод из жизни Верещагина я чуть было не пропустил.
33
Утром Верещагин отправляется к директору – кабинет у того таков, что роскошь гостиничного номера блекнет. Ковры здесь персидские, мебель темно-вишневая, кресла антикварные, на стенах картины в золоченых тусклых рамах – две штуки; устоявшаяся роскошь насыщает воздух сладким запахом тлена, кружит голову; человек, впервые попавший сюда, начинает спрашивать себя: где он? Неужели в провинциальном городишке Порелово? Да нет же, быть такого не может, в Москве он, а то и в Нью-Йорке, а вернее всего, в Париже, и не в научно-исследовательском институте, а, пожалуй, в Академическом театре, во МХАТе, в кабинете Станиславского, в Метрополитен-опера, в Комеди Франсез, в апартаментах Генерального Продюсера Лиги Великих Лицедеев…
У организации, чье директорское местопребывание так представительно, дела, конечно, идут настолько хорошо, что лучше и быть не может. Это понимает каждый, кто входит сюда. «Мы можем себе позволить быть такими»,– как бы говорят ему пол, стены, мебель. «Да, да,– сдается вошедший.– Вижу. Подавлен».
И когда этот вошедший полностью деморализован, когда собственное ничтожество не вызывает у него уже никаких сомнений, навстречу ему из музейного полумрака дальнего угла выкатывается директор – невысокий полный человек с холеным розовым лицом балагура и пышными черными бровями, тяжесть которых он несет через жизнь легко и весело. «Вот вы какой! Рад, очень рад вас видеть!» – говорит он Верещагину и увлекает его к инкрустированному, заставленному безделушками столику, толкает – шутя! – в антикварное кресло, которое тотчас же обхватывает чресла Верещагина, с французским жеманством зацеловывает их, насилует лаской, а директор придвигает пепельницу, изображающую льва в разгаре пиршества, рассыпает по столику заграничные сигареты, касается ладонью мраморного барельефа на стене – сверху внезапно проливается мягкий свет, с мягкой непреклонностью дрессированного дога отстраняющий мягкий полумрак, и говорит – директор: «Не знаю, приятно ли вам будет узнать или безразлично, но я тоже ученик Красильникова. Представьте! Я учился у него тотчас же после гражданской войны, в годы разрухи, голода, обмоток и морозов, которых теперь почему-то не бывает».
Верещагин больше интересуется барельефом. Он видит плачущее детское лицо, изображенное с высоким художественным умением: закрытые глаза, мокрые щеки и губы, красиво изуродованные плачем.
Он смотрит на пепельницу: в истерзанном теле то ли лани, то ли газели множество живописных углублений, в которые очень удобно стряхивать пепел.
«Я был невеждой и дикарем,– говорит директор,– в шинели и буденовке. Что я знал о науках? Я владел только одной – махать шашкой, вы не верите? О, я и сейчас могу,– он вскакивает и пухлым кулаком делает несколько четких молниеносных движений над головой Верещагина.– А! А! А! – кричит он и смеется произведенному впечатлению: испуганный Верещагин втянул голову в плечи.– Не бойтесь, я вас не обезглавлю, вы мне нужны.– Он снова смеется, впрочем, этот смех – продолжение предыдущего, директор смеется не переставая.– И, однако, напористость не последнее дело,– говорит он – Я стал лучшим учеником Красильникова с первого курса, он так и говорил: мой лучший ученик, и вдруг – вдруг! – неделю тому назад звонок: хочу предложить вам своего лучшего ученика… Это вы! – новый лучший ученик, новая первая любовь нашего дорогого Красильникова. Каково? Признаюсь, даже зависть кольнула, думаете, это нехорошо? Но ведь мы не вольны в своих чувствах, они возникают раньше, чем мы успеем санкционировать их. Не следует стыдиться дурных чувств, постыдны лишь дурные поступки, не так ли? – директор вдруг наклоняется к Верещагину и задирает рукав его пиджака.– Конечно,– говорит он.– Разумеется, – и обнажает свою руку.– Такие же. Видите? Я ношу их тридцать лет. Больше! Они уже износились, они спешат и отстают, они вообще останавливаются, я опаздываю на совещания, недавно секретарь обкома ругал меня как мальчишку: «Я вам что – мальчишка, чтоб ждать вас?» Но я не снимаю их, это же красильниковская метка, это его способ окольцовывать лучших учеников, нас,– таких, как мы с вами, отмеченных – три, ну пять человек во всей стране, не больше, это высокая честь, и давайте ее оправдывать. Работы у нас много, есть интереснейшие темы, но вы, наверное, приехали со своей? Ну, конечно, я по вашему лицу вижу, что со своей! Какой же талантливый молодой ученый приезжает без своей идеи? Скорее же изложите ее мне, я жажду познакомиться с нею! – кричит директор и делает над головой Верещагина несколько точных молниеносных движений: – А! А! А! – как бы показывая, насколько нетерпелив он, когда дело касается идеи.– Подать ее сюда!» – кричит он шутливым тоном и выслушивает Верещагина очень внимательно.
Он даже закрывает глаза, чтоб вещественная красота кабинета не мешала ему видеть духовную красоту верещагинской идеи.
Когда Верещагину нужно что-то изобразить письменно, он даже придерживает пальцами листок, на котором Верещагин пишет.
Он морщит лоб, чтоб привести ум в состояние наивысшей восприимчивости.
Он долго смеется, когда Верещагин заканчивает писать и говорить.
34
Но смеялся директор необидным смехом. Он так и сказал Верещагину: «Только не подумайте, что я смеюсь обидным смехом. Я смеюсь от восторга».
«Смех совершенно неизученное явление,– сказал он.– На месте вышестоящих органов я давно бы создал НИИ смеха и уверен, что в первые же годы он принес бы несколько таких открытий, которые помогли бы нам выполнить наши текущие народнохозяйственные планы гораздо раньше намеченных сроков. Знаете ли вы, например, что однажды делал Чехов во время спектакля, когда Отелло что есть силы душил Дездемону? Он смеялся! Антон Павлович, сказали ему, уместно ли? Вам показывают трагедию, а не комедию, о чем ваш смех? О том, ответил Чехов, что очень талантливо сыграно. Вы понимаете его мысль? Высокоталантливое исполнение трагического доставило ему удовольствие. А удовольствие, в свою очередь, вызвало смех.
Я тоже смеюсь от удовольствия,– сказал директор.– Ваша идея так прекрасна, что не смеяться грех. Но давайте опустим занавес и поговорим серьезно. Думаете, я не слышал о вашей идее раньше? Вы полагаете, я не листаю научные журналы, не слежу за новыми идеями в близкой мне области науки? О, я стараюсь не отставать. Я читал вашу дипломную. Когда Красильников позвонил и сказал: посылаю вам своего лучшего ученика, я подумал: этот молодой человек, конечно, привезет с собой свою идею. Мало того, он обязательно захочет ее воплотить. Я, конечно, откажу ему, но как я это сделаю? Если я сделаю это обидно, он обидится. Как видите, элементарнейшая логика несколько даже тавтологического пошиба: если обижу – обидится. А мне с ним работать, думал я. Мне с ним выполнять важные государственные задания. Как же сделать так, чтоб он не обиделся? Ага, подумал я, я сделаю вот что. Сначала я попрошу его подробно рассказать о своей идее и буду слушать с огромным вниманием. Я буду морщить лоб и молитвенно закрывать глаза. А когда этот юноша начнет писать формулы,– он конечно же начнет! – буду придерживать листок, на котором он пишет…»
В те далекие годы Верещагин имел почти нормально функционирующую нервную систему, он только удивлялся, слушая такие речи, и выглядел точь-в-точь как на фотографии, которую двумя днями позже сделал с него фотограф-мастер для пропуска. «Зачем вы решили так себя вести?» – спросил он.
«Чтоб, упаси боже, не обидеть вас,– ответил директор.– Ваша идея, ваша работа вызывают у меня искренний восторг, но свой восторг мне ничего не стоило бы скрыть. Я уже не молод, дорогой Верещагин, я уже умею изображать безразличие в самые волнующие минуты. Даже с женщинами – вы и представить себе не можете, какое сильное впечатление производит на них…»
«Не отвлекайтесь,– сказал Верещагин.– Мне не терпится узнать, чем вас не устраивает моя идея».
Директор принес на инкрустированный столик, за которым они сидели, две рюмки коньяку и горсть красивых Конфет. Конфеты Верещагин съел, а пить коньяк не стал.
«Будьте очень внимательны к тому, что я говорю,– сказал директор.– В мои планы входит произнести перед вами небольшую речь. Я начну ее с вопроса, дорогой Верещагин. Я спрошу у вас, знаете ли вы, что говорит о вашей работе ученый мир? Ученый мир говорит о вашей работе очень ласковые слова. Талантливо, забавно, свежо, говорит ученый мир. Никому не известный студент Верещагин построил прелюбопытнейшую математическую игрушку, применив при этом своеобразнейшую методологию, за разработку которой ему нижайший поклон. Сама же идея дерзкого студента фантастична и безответственна, говорит ученый мир. Не исключено, что в дальнейшем, через пятьдесят или сто лет, эта идея послужит отправным пунктом для создания целой науки – серьезные ученые не отвергают такой возможности, но в настоящий момент, говорят они, идея дерзкого студента Верещагина как воинская часть, слишком далеко ушедшая вперед: оторвавшись от основных сил и хозяйственных коммуникаций, она может лишь хулиганить в глубоком тылу у врага, но участвовать в планомерном наступлении на непознанные тайны природы неспособна… Такие слова говорит о вашей идее ученый мир».
«Галамитья – вот что еще говорит о моей идее ученый мир»,– вспомнил Верещагин.
«Когда я смотрю на вас, мне хочется приводить исторические аналогии,– сказал директор.– Знаете ли вы, как ответил одному декабристу некий граф, реакционнейший душитель передовых социальных идей? Декабристское восстание было уже разгромлено, день и ночь шли изнурительные допросы, и вот один из декабристов бросил реакционнейшему графу в лицо такие слова: «И все-таки в России когда-нибудь будет республика!» «Конечно, будет,– внезапно ответил граф.– Но кто дал вам право ускорять события?» Каков граф, а?»
«Граф – дурак,– отозвался Верещагин.– Если что-то может быть улучшено, то оно должно быть улучшено немедленно».
«И еще позволю себе пример,– сказал директор.– Любопытнейшая история с одним изобретателем. Произошло это совсем недавно, лет пять назад. В Комитет по изобретениям явился один чудак и потребовал, чтоб ему выдали патент. Он изобрел, как вы сами понимаете, вечный двигатель. Он всем совал под нос чертежи своего перпетуум мобиле, но никто, конечно, не хотел на них смотреть. Однако чудак оказался настырным. Он клянчил, скандалил, умолял… Наконец ему сказали: «Ладно, разворачивайте ваши чертежи»,– решили отвязаться: посмотрим, мол, посмеемся и откажем. Но глянули и ахнули. Для вращения своего дурацкого вечного двигателя наш чудак применил подшипники необыкновеннейшей конструкции. Совершенно новый принцип, поразительные свойства! Теперь эти подшипники стоят в очень ответственных механизмах особого назначения. Чудаку выдали авторское свидетельство, наградили, обласкали, но он до сих пор недоволен – брюзжит, жалуется: я вам, говорит, вечный двигатель принес, а вы с него подшипники сняли! Требует, чтоб сделали опытный образец его вечного двигателя. Улавливаете, дорогой Верещагин, аналогию?»
«А зачем мучают человека? – спросил Верещагин.– Надо выполнить его просьбу хотя бы в знак благодарности за подшипники. Человек увидит, что машина не работает, и успокоится. Это же недорого стоит – проверить экспериментально».