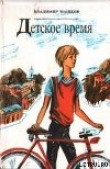Текст книги "ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ"
Автор книги: Владимир Краковский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 33 страниц)
«Лучше азотной»,– тихо говорит Юрасик, хихикает, краснеет, опускает глаза, и, мельком взглянув на все это, Верещагин получает достаточное подтверждение своим подозрениям: Юрасик не любит Альвину, он просто алчно похотлив, сексуально неразборчив, постельно всеяден, в нем грубо настроен механизм генетической избирательности, но какое мне сейчас до всего этого дело, думает Верещагин, вот Альвина, та действительно влюблена, хотя ее чувство тоже результат генетической неразборчивости, нечистоплотности – возрастная и от несчастий извращенность функций, таким людям через сто лет будут запрещать иметь потомство, но какое мне сейчас до этого дело, опять думает Верещагин; впрочем, это хорошо, что Альвина любит искренне; надо, чтоб она держалась к печи поближе, особенно в начале кристаллизации: поле любви, окружающее ее, может повлиять благотворно, пренебрегать нельзя ничем. «Я вернусь через полчаса», – говорит Верещагин и уходит домой за бутылкой изобретенного им когда-то возродителя волос.
Он возвращается минут через сорок, почти одновременно с ним приходит и заспанный Петя. «Петя,– говорит Верещагин,– пойми, друг, что рост волос сродни спонтанному наращиванию кристаллов, и геометрическая энтропия решетки ведет к потере блеска, эластичности, а затем и к глобальной ликвидации всего волосяного благополучия» – он знает как разговаривать с Петей, какие слова нужно употреблять, чтоб Петя сломился душой и дал все, что нужно.
Но на Петю (возможно, оттого, что он спросонья) умные слова не действуют. «Гоните бутылку»,– говорит он и протягивает руку, наивный человек.
«Не сразу,– отвечает Верещагин и кладет ладонь на карман пиджака, из которого торчит горлышко – бутылка там, Петя видит это.– Не сразу,– повторяет Верещагин и начинает перечислять: – Автотрансформатор на пятьсот киловатт, высокочастотный осциллограф, магнитная пушка…» – и еще около десятка предметов перечисляет Верещагин, а в конце говорит: «На шесть дней».
«Где я все это возьму? – сердито спрашивает Петя.– Трансформатор, ладно, дам,– и еще два-три прибора называет в том смысле, что одарит ими Верещагина на шесть дней.– А высокочастотного осциллографа, например, у меня нет».– «Есть,– мягко говорит Верещагин.– Он стоит у тебя на второй полке слева».– «Так он же испорченный», – находится Петя, но Верещагин, оказывается, вооружен контраргументами до зубов. «У тебя испорченные приборы лежат на правых стеллажах,– говорит он.– Ты, Петенька, порядок очень любишь, не мог ты поставить испорченный осциллограф слева». Петя смотрит на Верещагина с крайним изумлением: этот человек всегда, а в последнее время до крайности, был чудаковатым дурачком, по нему временами психиатричка скучала, и вдруг – на тебе! – улыбается проницательно и сдержанно, в глазах – холодный огонь, а в словах – смысл. «Ладно,– говорит Петя,– осциллограф я, так и быть, дам, хотя он и импортный,– импортное оборудование Петя считал как бы принадлежащим другому государству и поэтому давать не любил,– а уж магнитной пушки у меня сроду не было. Я даже не знаю, что это такое».– «Это то, что лежит у тебя в ведре»,– вкрадчиво объясняет Верещагин. «В каком ведре? – кричит Петя, окончательно пробуждаясь.– В ведре! Я вам что – водовоз? Какое еще ведро!» – «Эмалированное,– отвечает Верещагин.– Его не видно. Ты на него рентгеновские передники набросал».
Недаром захаживал Верещагин к Пете поболтать. Все изучил, все выискал. Петя смотрит на него как на шпиона.
«Пушку не дам,– говорит он твердо.– Она единственная на весь институт. Меня под суд отправят, если с ней что случится. Нельзя, импортная она».
И тут сдержанный, корректный Верещагин, с глазами, полыхающими голубым холодным огнем, вдруг превращается в прежнего сумасброда, которого Петя снисходительно любил.
«Все! Конец! – кричит этот сумасброд, выхватывает из кармана бутылку и начинает опасно размахивать ею в воздухе.– Мне без пушки – не жизнь! – Он замахивается бутылкой, но целит не в Петю, что бы еще куда ни шло, а в стену.– Будешь на моих похоронах сверкать лысиной!» – кричит он, и Петя зажмуривается. «Нет! – это теперь Петя вопит.– Не разбивайте!»
Он согласен дать магнитную пушку, и все остальное он тоже согласен дать, он объявляет об этом Верещагину, но требует бутылку вперед, на что Верещагин, опять став спокойным и вдумчивым, отвечает, что при всем уважении к Пете он не может полностью полагаться на словесные гарантии; другими словами, сначала пушка и все остальное, а бутылка – когда приборы будут здесь, в цехе. «Они тяжелые»,– неизобретательно придумывает последнее препятствие Петя.
Верещагин подталкивает вперед тут же краснеющего Юрасика и демонстрирует его Пете как на невольничьем рынке – закатывает рукава рубашки, чтоб Петя мог увидеть могучие бицепсы, с размаха бьет в упругий живот и даже, забывшись, пытается задрать Юрасику верхнюю губу, желая произвести впечатление наличием и крепким видом белоснежных резцов. «Он все принесет за один раз,– уверяет Верещагин Петю.– Ты только нагрузи на него. Он даже не вспотеет».
Он строго и несколько раз спрашивает Юрасика, вспотеет ли тот, Юрасик несколько раз отвечает, что нет, не вспотеет, краснея при этом настолько, что начинает потеть не сходя с места. Альвина нежным движением стирает этот пот – со лба и под носом. «Ладно»,– бурчит Петя и уводит Юрасика.
Через десять минут они возвращаются. Пушка и все остальное – на Юрасике. Он и впрямь не потеет. Побледнел даже. «Вы все ж заявку напишите»,– хмуро говорит Петя, и Верещагин пишет, торопясь. «Не имею права удовлетворить такую»,– вдруг строго говорит Петя и заявку, которую сам просил написать, почему-то не берет. Верещагин догадывается, выхватывает из кармана бутылку, заявку обворачивает вокруг, и в таком виде Петя документ принимает. Уходит.
Остаются Верещагин, Альвина, Юрасик, Ия и Геннадий.
«Ну-ка, руби этот кабель и присоединяй сюда»,– приказывает Верещагин Юрасику. «Его за это не посадят? » – вопрошает, мучается Альвина, ей очень страшно снова остаться одинокой. «Посадят меня»,– успокаивает ее Верещагин.
Она становится рядом с печью, она облокачивается на нее, она даже обнимает эту бочковатую машину, она не знает, зачем это делает, так велел Верещагин, у него некоторые соображения насчет флюидов любви, он не очень серьезно относится к этим соображениям, но все ж не хочет пренебрегать даже суеверием, он использует каждый шанс.
178
Шесть раз должна обернуться Земля вокруг самой себя – таков срок Акта Творения. Время от времени постреливает силовыми линиями магнитная пушка, непрестанно и во всю мощь греет импортный обогреватель, давление выше всяких допустимых норм, операторы испуганно косятся на стрелки приборов и время от времени спрашивают, говорят:
«Вы уверены, что печь выдержит?» – Альвина.
«Разлетится вдребезги или – хи-хи – прорвется дырочка?» – Юрасик.
Это одна смена операторов. А вот другая:
«Я не боюсь, мне это нравится»,– Ия.
«Если эксперимент удастся, я первый преподнесу вам букет пышных роз»,– Геннадий.
«Смерть от взрыва – без боли?» – опять первая смена : Альвина.
…И так далее.
Верещагин отвечает, говорит:
«Не уверен. Просто надеюсь»,– Альвине.
«Мне бы твои заботы»,– Юрасику.
«Я сообщу в твою галактику, что на Земле ты вела себя молодцом»,– Ие.
«Лучше килограмм трюфелей»,– Геннадию.
«Смерть всегда без боли. С болью только жизнь»,– опять Альвине.
И так далее.
Почти все время он проводит в цехе. Выходит из него только затем, чтоб пробежаться по улице и, задыхаясь, подумать: «Боже! Что я творю?» Он совсем не ест. Ия заставила его взять бутерброд с колбасой, Верещагин, откусив кусочек, побежал в туалет и выплюнул в унитаз: ему показалось, что во рту – глина. Голода он не чувствует. Он всю жизнь любил поесть. К пятому десятку он оброс изрядным слоем жира. Он запасался, запасался. Теперь он тратит. Он не ест. Он ощущает каждое мгновенье физически. Прежде чем оно проходит, Верещагин успевает подержать его кругленькое тельце в ладонях и, выпуская, радостно смотрит вслед. Прошло! Еще одно! Еще! И еще! «Музыка!» – вдруг кричит он, бежит домой, возвращается с магнитофоном – это черт знает что!– пляшет посреди цеха, стыдно так вести себя на людях, но что ему,– вытворяет различные придуманные им па, руки ходят вверх-вниз, в стороны, то плавно, то рывками, музыка хорошая, лицо серьезное.
А операторы? Любопытно им, тревожно и смешно – пляшет Верещагин, какой чудаковатый человек! – кто-то прыскает: Юрасик; кто-то тактично отворачивается: Геннадий; «Вам, наверное, страшно?» – говорит Альвина; «В каком вы нетерпении!» – понимает Ия.
Помахав руками, Верещагин бежит на улицу, не выключив магнитофон – ах, какая музыка несется вслед, зачем же он перестал танцевать, такая песня! – будто человек заплыл в море и не хочет возвращаться. Будто – поныряю, думает, порезвлюсь и потону. Ложится он спиной на изумрудные волны, смотрит на коралл – солнце в бирюзовом небе, и горько ему оттого, что жизнь заканчивается, и радостно оттого, что она еще длится, и глаза у него плачут, а рот – смеется.
Верещагин слышит эту песню, хотя и далеко уже, он мчится по улице, перекатывает в ладонях мгновенья, отправляет их в вечность, бормоча вслед неясные напутствия на мотив замечательной песни, пальцы его дрожат, еще быстрее мчится по улице Верещагин, и вдруг один парень говорит ему: «Здравствуйте».
«Здравствуйте»,– отвечает Верещагин, тоже на «вы», хотя парню лет восемнадцать, такого можно бы и на «ты», но бог с ним, ну его, пусть проходит своей дорогой, обласканный множественной формой личного местоимения.
Но парень увязывается за Верещагиным, трусит рядом. «Я вас знаю,– говорит он.– Мы с вами встречались».– «В этой жизни или в той?» – спрашивает Верещагин, чувствующий себя пришедшим в мир вторично. «В театре,– отвечает парень.– Когда спектакль шел, забыл какой. Я к вам тогда в антракте подходил».
«Допускаю,– говорит Верещагин, вглядывается в парня и узнает.– Как же, помню, помню,– говорит он и ускоряет шаг.– Это ты от кого передавал Тине привет?» – в общем-то ему теперь такие события безразличны, но если задавать вопросы, мгновенья скользят быстрее, а этого только и надо Верещагину.
«Ни от кого,– отвечает парень, едва поспевая идти.– Просто такая шутка. Не скажу зачем, но шутка. Я ее и знать не знаю».
«Шутку?»– спрашивает Верещагин опять. Он так настроен, что будет спрашивать. Спасу никакого теперь от его вопросов парню не будет – мгновенья скользят быстрей.
«Нет, Тину»,– отвечает парень.
«Ага! – говорит Верещагин.– Понятно. То есть непонятно. Почему ты ее знать не знаешь, а называешь Тиной!»
«Вот здорово! – восклицает парень.– Получается, вроде я поймался: говорю – не знаю, а сам – по имени, выходит, знаю. Так вы же сами назвали ее Тиной! Бывают случаи, когда не знаешь, а доказать, что не знаешь,– трудно».
«Может, наоборот? – спрашивает Верещагин.– Может, трудно доказать, что знаешь? – он идет все быстрее и быстрее.– Но это уже не имеет никакого значения»,– говорит он.
«Усек,– понимает парень и сам спрашивает: – Вас та девчонка уже не интересует, да? А вы мужик что надо, хоть и в годах».
Тут Верещагин еще прибавил ходу, почти взлетел, так разогнался. Но парень не отстает, летит грудь в грудь. «Так и надо,– говорит он.– Раз-два, и готово. С этими девчонками одни неприятности. Им замуж хочется, а нам удовольствие. Правильно?»
«Правильно»,– говорит Верещагин, задыхаясь.
«А любовь – это – ха! – говорит парень.– Одна выдумка. Любви на свете нету».
Верещагин останавливается так внезапно, что парень пробегает еще метров пять, ему приходится идти обратно. Даже подошвы взвизгнули об асфальт, так остановился Верещагин, может, даже задымились они, это неизвестным осталось, никто вниз не посмотрел. Во всяком случае, Верещагин вниз не смотрит, он вдруг к небу голову задрал.
«Это ты брось».
Так говорит.
«А чего бросать,– не соглашается вернувшийся парень.– Любви нет, это точно. Проверено. Одна физиология».
«Это тебе так кажется,– говорит Верещагин, все еще глядя в небо. Он ничего в этом небе не видит – ни облаков, которых, кстати, сегодня ужас сколько, ни птиц, хотя пролетают они, ни серпика луны, довольно, между прочим, четкого, хотя и бледного,– не видит, а смотрит. У его глаз – потребность пообщаться с верхними этажами мироздания. Эта потребность возникает время от времени, и тогда – будь вверху потолок или дождевая хлябь, что угодно – голова Верещагина запрокидывается, и все тут.– А знаешь, почему тебе так кажется? – спрашивает он.– Потому что физиологию ты в школе изучал, а любовь– нет. Ты знаешь только то, что изучал».
«У меня по физиологии тройка была»,– говорит парень, отметая подозрения, будто он отличник в области физиологии.
Они стоят и никуда не идут. Парень смотрит на Верещагина и удивляется: чего тот не видел в небе?
Осмотрев мироздание целиком до последнего, седьмого, этажа, Верещагин опускает голову, взглядывает на часы, видит только секундную стрелку, несколько раз вздрагивает в такт ей и вдруг садится – оказывается, рядом скамейка, прямо посреди улицы, троллейбусная остановка в этом месте, и для ожидающих транспорт пассажиров поставлена скамейка, но – середина дня, никого нет, троллейбусы подходят и уходят пустые, только Верещагин сидит на скамейке, и парень присаживается рядом, они отдыхают от быстрого бега, вернее, Верещагин отдыхает, он тяжело еще дышит, а парень совсем не запыхался, говорит ровным убежденным голосом: «В основе всего лежит физиология»,– прочитал такое утверждение или кто-нибудь ему сказал об этом.
Конечно, отвечает Верещагин, в основе всего лежит физиология, но мало ли что лежит в основе – в основе дома, например, лежит фундамент, но никто из жильцов не говорит же, что живет в фундаменте; так и любовь – совсем не физиология, хотя в основе ее лежит именно эта наука, по которой у парня была тройка – совсем непонятно, почему, будучи троечником, он так за эту физиологию цепляется.
Высказавшись подобным образом, Верещагин достает из кармана свой красивый мундштук, вставляет в него папиросу, но парень не замечает, какой у Верещагина красивый мундштук, он ждет продолжения разговора, а Верещагину хотелось бы, чтоб он спросил: «Где вы взяли такой красивый мундштук?» – и тогда Верещагин ответил бы: «Сам сделал».
Огорченный равнодушием парня к красоте мундштука, Верещагин сердито произносит: «Конечно, все начинается с физиологии – очень просто: самец ищет самку, чтоб продлить свой род», но с этим парнем нельзя объясняться такими общими категориями, он тут же мрачнеет и говорит: «Ничего я не хочу продлевать», на что сбитый с мысли Верещагин свирепо кричит: «Ну и правильно! Ну и не надо! А чего тебе продлевать? Тебе же совершенно нечего продлевать! Ты дикарь, с тобой даже отвлеченно разговаривать невозможно, ты троглодит, нет, я не буду объяснять тебе, что такое троглодит (это парень спрашивает: «Что такое троглодит?»),– мне некогда».
Прокричав: «Мне некогда!», Верещагин усаживается на скамейке поудобнее – никуда он, в общем-то, не торопится, времени у него хоть отбавляй: Кристалл создается, мгновенья исправно бегут в вечность – Верещагин смотрит на часы, чтоб убедиться, действительно ли бегут мгновенья,– да, точно, бегут: секундная стрелка старается изо всех сил, посылая золотые мгновения – блики именно в вечность, Верещагин удовлетворен, но в душе все же беспокойство: не сходить ли в цех, береженого бог бережет… Он зажмуривается и представляет! как мчится в пустом троллейбусе, сбегает в подвал института и видит вырванную взрывом дверь: всему конец Акт Творения не удался, на полу лежат операторы: Альвина и Юрасик – эти валетом, а Ия и Геннадий – в противоположных углах цеха, у Ии печальное лицо, глаза закрыты, так что хорошо видны ее красивые длинные ресницы, а у Геннадия, наоборот, один глаз приоткрыт, будто хочет посмотреть, какое впечатление на Верещагина производит вся эта эффектная картина. «Ерунда,– говорит себе Верещагин,– если бы печь взорвалась, я бы отсюда услышал, она бы так взорвалась, что этот парень улетел бы вместе со своей физиологией черт знает куда, и я бы тоже – к звездам, на седьмое небо».
Значит, все в порядке, решает он, печь не взорвалась, Кристалл внутри ее растет – от этой мысли, от сознания того, что с каждой секундой Кристалл вызревает все больше и больше, наливается тугим соком, из усилия души превращаясь в вещь,– от этой мысли Верещагин снова начинает ощущать в ладонях теплые ласковые мгновения, а в груди становится совсем горячо, он смеется тихим счастливым смехом, открывает глаза и видит, что парень смотрит на него испуганно.
«Ты не бойся,– успокаивает его Верещагин.– Давай разговаривать дальше».– «Давайте»,– соглашается парень, и тогда Верещагин, ласково поглаживая приплывающие в ладони мгновения, начинает говорить о том, что ни одному человеку не должно быть безразлично, с кем продлевать свой род; о художнике, который охотно смешивает зеленую краску с желтой, чтоб получить чудесный оливковый цвет, но никогда не смешает эту зеленую с коричневой, например, потому что знает: получится просто грязь, он никогда не мазнет на зеленое коричневым, он, скорее, руку себе отрубит. «А вы,– закричал Верещагин голосом певца, который пробивал лбом стену, не пробил и после этого сердито запел обиженным голосом, потирая шишку – есть у Верещагина такая песня, ее очень xopoшо исполняет на турецком языке замечательный певец, лучший заочный друг Верещагина, и вот он закричал на парня сердитым и обиженным голосом этого своего лучшего друга.– А вы,– закричал он,– мешаете свои прекрасные гены, не слушаясь законов гармонии, вы женитесь на первой так себе девушке, вы спите с женщиной, с которой должно спать другому, оттого так много рождается гнусных людей с грязным пятном вместо души, вы не слушаетесь инстинктов, которые вам подсказывают: не смешивай свои гены с этой, выйдет грязное пятно, с ней лучше пусть вон тот тип смешается, у них получится красота, а тебе нужно вот с этой, твое зеленое с ее голубым, беги за нею на край света,– голос инстинкта и есть любовь, ей нужно подчиняться и бежать за кем следует, но нет, вы ленивы и предпочитаете тех, кто ближе, вы нетерпеливы и пожираете ту пищу, возле которой застиг вас ваш голод, вы потом страдаете желудком, но говорите: «Зато я сыт», вы рождаете паршивых детей, но говорите: «Зато у меня семья», вы говорите: «Все физиология»,– и тискаетесь в подъездах – год, два, три, а потом: «Пора взяться за ум»,– говорите и женитесь на девушке, которая ближе других стояла к вам в танцевальном зале, вы плодите грязные пятна, и вот – вырождается род человеческий, потому что вы говорите: «Любви нет, одна физиология».
Верещагин заканчивает свою речь. «Ух ты!» – говорит сильно потрясенный парень. Он смотрит на Верещагина с огромным щенячьим вниманием, не перебивает, вот только «Ух ты!» сказал и уж теперь, конечно, совсем не способен заметить красоту мундштука, которым Верещагин специально вертит перед его носом в большой надежде.
«В какой книжке об этом можно прочитать? – спрашивает он, когда Верещагин разочарованно встает и прячет в карман мундштук.– Я бы такую книжку купил».
«Ишь читатель нашелся! – говорит недовольный Верещагин и идет к остановившемуся пустому троллейбусу.– Прощай, парень. До свидания».
«До свидания,– отвечает парень.– С вами разговаривать, много почерпнешь. А с той девушкой вы уже не встречаетесь? Гены не подошли, да?»
«Еще как подошли,– говорит Верещагин и вздыхает – глубоко и искренне. Он уже стоит на подножке троллейбуса.– Только она меня бросила, парень.– Он снова вздыхает, уже менее натурально.– Во как вышло. Здорово, да? Пока».
«Пока,– кивает парень, но не уходит, наоборот, приближается к троллейбусу вплотную, почти влазит в него, глаза у него удивленные – надо же, как близко к сердцу принял верещагинскую речь.– Это почему же – бросила? – спрашивает он.– Ваши, значит, гены к ее подошли, а ее к вашим – нет? Разве так бывает?»
«У матери ее не подошли гены,– объясняет Верещагин. Он уже внутри троллейбуса и разговаривает с парнем высунув наружу голову.– Матерям, знаешь, наплевать на дочкины гены. Им лишь бы порядок был. Зять почему-то всегда интересует их больше, чем внуки».
Он едва успевает убрать голову – гильотина троллейбусных дверей смыкается. Поехали.
Большую муху, которая уцепилась в тамбурное стекло, другой раздавил бы или, по крайней мере, согнал – ни для чего, просто чтоб утвердить свое право сильнейшего на этом участке пространства, а Верещагин – нет. Он смотрит на муху дружески, почти с любовью и несколько вопросительно, как бы ожидая каких-то разъяснений. Но муха не чувствует себя обязанной исповедоваться перед Верещагиным. Она вообще никому и ничем не обязана, и ей никто ничем не обязан – она на редкость свободна. Она даже не вздрагивает крылышками, когда троллейбус трогается, не испытывает ни волнения, ни тревоги, хотя уезжает из родных мест навсегда. На какой-то остановке она вылетит и будет жить вдали от своих братьев и сестер, не замечая их отсутствия, не обнаружив перемены, ностальгия ее не замучит, привязанностей у нее нет, воспоминаний тоже – эх, до чего же свободная муха!
Дружеская симпатия к ней сменяется у Верещагина неприязненным чувством, он уже не любит муху; может быть, отчасти из зависти к ее свободе, даже замахивается – и не убивает, конечно, но все-таки сгоняет,– теперь стекло совершенно свободно от чьего-либо присутствия и сквозь него можно беспрепятственно смотреть,– Верещагин смотрит и видит: тот самый, только что оставленный парень мчится вдогонку за троллейбусом. Он скачет по асфальту, делает Верещагину знаки – то правой, то левой рукой, и не отстает. Троллейбус набирает скорость, парень тоже набирает. Он бежит даже чуть быстрее троллейбуса, он даже приближается, у него даже хватает сил что-то кричать Верещагину – какой здоровый парень! – но что он кричит? Верещагин показывает пальцами на свои уши, отрицательно мотает головой в том смысле, что не слышит, и тогда парень еще прибавляет ходу,– удивительно, сколько у него резервов! «Ну и резервов у тебя!» – говорит Верещагин вслух.
Никто не слышит. Троллейбус пустой.
А водитель, будто заметил, что за ним гонятся, будто испугался – жмет на газ изо всех сил, троллейбус внезапно ускоряет ход так, будто срывается с места, но и парень, недаром Верещагин хвалил его резервы, тоже как бы с места срывается, он, видать, могучей породы, только теперь не кричит, не машет руками, голову наклонил, чтоб лучше рассекать воздух, и – не отстает, не отстает, даже приближается.
Наконец троллейбус сдается, подошел его предел – остановка, Верещагин выскакивает из раскрывшихся дверей, парень уже здесь – тут как тут. «В чем дело? – спрашивает Верещагин.– Ты чего, сумасшедший?»
«Девушка у меня,– говорит парень.– Хочу посоветоваться»,– и на время замолкает: другой пал бы к ногам Верещагина и издох, а парню – здоровущий какой! – только секунд десять надо, чтоб отдышаться. «Я с девушкой встречаюсь,– говорит он через десять секунд совсем ровным голосом.– Она мне по ночам снится, раньше я думал, что это просто придурь, а после разговора с вами засомневался. Как вы считаете, если девушка по ночам снится – это значит, подходят гены и на ней надо жениться, да?»
«Мало ли что кому снится,– уклончиво отвечает Верещагин.– Мне, например, по ночам спрут-шахматист снится. Что ж, мне его в загс вести?»
«Да я не в том смысле – снится! – восклицает парень.– Мне тоже много разной дребедени снится. Но я по этой девушке вообще сохну! Только раньше я думал, что это физиология, а теперь – как мне думать теперь?»
«Нет, парень,– отвечает Верещагин.– Ты меня от этого дела уволь. Такие вещи ты сам должен решать. Сам в себе разберись».
«Точно! – соглашается парень.– Я так и подумал: нужно самому в этом деле разобраться. Тут душой надо почувствовать, а не советчиков искать, правильно?»
«Вот видишь, какой ты умный,– хвалит Верещагин.– А зачем тогда бежал за моим троллейбусом?»
«С вами поговорить – много почерпнешь»,– ответил парень.
179
Верещагин вскакивает в другой троллейбус,– такой же, не лучше и не хуже, все пустые троллейбусы одинаковы, и муха на стекле,– конечно, не та же, но тоже муха, Верещагин всматривается в нее,– зачем она здесь, куда едет? – ну да, думает он, просто лето, мухи везде, их сезон, им велено жить, а это не так-то просто, жизнь все время норовит иссякнуть, и вот они путешествуют в поисках всего, что продлевает ее и поддерживает,– продуктовых ларьков, вонючих свалок, открытых окон, тухлой рыбьей головы, пролитого на асфальт молока, перепачканных вареньем щек, раздавленных автомобилями кошек, потных лбов, недовысохшей лужицы мочи, распоротых консервных банок, спящих под заборами забулдыг, кастрюль со снятыми крышками, сортиров, которые обработают хлоркой только завтра, слюны целующихся влюбленных, выпавших из младенческих рук «эскимо» – «не смей поднимать! фи! я тебе куплю другое!», выброшенной из окна окровавленной ваты, потерянного носового платка, прокисших щей, домовых кухонь; просвирок, не удержанных трясущимися губами беззубых богомолок; яичных желтков, лошадиных задниц, плевков, конфет, разверстых промежностей загорающих на пляже девушек, блевотины, гниющей сливы из консервированного компота; газетного листа, пропитанного маргарином; голубиного помета, использованных гигиенических пакетов, ссадин, сахара, сопливых носов, свиного сала,– у них своя, полная особых забот жизнь, узкая, как луч света сквозь игольное ушко, и Верещагину в нее не влезть, не понять, не посочувствовать, не пособить, так что бессмысленно это – смотреть на муху вопросительным взглядом, не будет никаких объяснений и невозможно никакое участие – глупо даже ждать, возле института Верещагин выскакивает из троллейбуса и бежит в цех.
180
«Там что-то случилось! – кричит Альвина. Почему-то она здесь, хотя дежурят Ия и Геннадий; впрочем, и они здесь.– Там что-то случилось! Что-то случилось!»
«Стрелка почему-то упала на нуль»,– объясняет Геннадий.
«Это хорошо или плохо?» – спрашивает Ия.
«Это значит, никакого давления уже нет и мы не взорвемся»,– говорит Юрасик. Почему-то и он здесь.
«Почему вы все здесь?»– спрашивает Верещагин. Он хочет прислушаться к себе – такой момент! – но не может прислушаться. Он на людях не умеет, никогда не умел, они мешают, выгнать бы их всех.
Он не сердит, не грозен, не хмурит бровей, когда спрашивает: «Почему вы все здесь?»
Он спрашивает об этом таким тоном, будто в далекой заморской стране на него наехал прекрасный автомобиль: удар, боль – он испуганно открывает глаза и вдруг видит склонившихся над ним близких людей, которых оставил за морем – откуда они тут взялись?
«Почему вы здесь? – спрашивает он.– Откуда?»
Должен быть только он и прекрасный автомобиль.
Такой замечательный автомобиль с обрубленными крыльями!
Он не знает, что пролежал без сознания долгие-предолгие месяцы, они для него как единое мгновение, он открывает глаза, думая, что увидит все тот же наезжающий прекрасный автомобиль, а картина, оказывается, совсем другая: низко склонившиеся различные родственники и приятели.
«Где прекрасный автомобиль?»– спрашивает он с недоумением и беспокойством.
Нет, совершенно не безразлично человеку, под какими колесами он заканчивает жизнь!
Автор этих строк в далекой своей юности был однажды сбит с ног детским велосипедом, мчавшимся на огромной скорости,– он ободрал в кровь локти и колени, но над ним смеялись, никто не сочувствовал.
Как исказилось его лицо!
Есть такое животное – тарбаган… Вот вы поезжайте в Среднюю Азию, найдите его нору, затаитесь в кустах, дождитесь, когда тарбаган выйдет погулять, тихонько подкрадитесь к его пустой норе, сядьте перед нею и свистните, засунув в рот два пальца. Или закричите, если не умеете свистеть, принесите с собой рожок, саксофон, флейту и дуньте в нее, или пальните в воздух из ружья, – знаете, что будет?
Конечно, тарбаган испугается. Вы думаете, он побежит от вас прочь?
Нет, он помчится прямо на вас. За короткую пробежку он разовьет такую скорость, что, если вы не отпрыгнете со своей флейтой в сторону, он продырявит вас собой насквозь. Он продырявит вас или не продырявит, если вы, бросив саксофон, отпрыгнете – в любом случае он юркнет в свою нору.
Когда тарбаган напуган, он бежит в свою нору. И если на прямом пути к ней стоит тот, что его напугал, он пронзит его своим телом, убьет и, хотя после этого ему некого уже бояться, скроется в норе, где с взволнованным сердцем будет ждать, не заиграете ли вы, пронзенный, снова на своем дурацком рожке.
Он даже не поймет, что вас убил. Он, поверьте, не хотел вам зла. Он просто стремился попасть в нору кратчайшим путем. Он очень пуглив, тарбаган, но не труслив – это совсем не одно и то же; впрочем, к чему весь этот разговор?
«Вон!» – произнес Верещагин и показал рукой на дверь. Очень театрально это у него получилось.
Может быть, из-за этой театральности никто и не пошевелился. Альвина закатила глаза, Геннадий возмечтал о букете алых роз, Ия восхищенно улыбнулась, Юрасик покраснел – каждый сделал свое дело.
Наверно, им показалось, что это актер на сцене произнес «Вон!» и выбросил в сторону двери белую взволнованную руку, и вот: Альвина закатила глаза, Геннадий держит в уме букет алых роз, Ия улыбается, восхищенная мастерством актера, а Юрасик краснеет, подумав о толстеньких женщинах: кому из нас во время хорошего спектакля не приходили в голову посторонние мысли?
«Во-он!» – заорал Верещагин, и, хотя на этот раз не указал рукой на дверь, все помчались именно к ней, на мгновенье в дверях возникла маленькая пробка, которая тут же рассосалась.
Верещагин остался один. Он подошел к печи номер семь и нажал сначала на никелированный рычаг. Внутри печи что-то щелкнуло. Тогда Верещагин дотронулся до оранжевой кнопки на панели, и в печи опять щелкнуло. Он еще много всяких действий производил, и каждый раз в печи что-то щелкало.
Наконец Верещагин снова взялся за никелированный рычаг и вернул его в прежнее положение. И тогда верх печи раскрылся и изнутри выдвинулся белый керамический сосуд.
Он был холодный. Верещагин не стал даже проверять, холодный ли он, хотя любой другой человек подумал бы, что он горячий, потому что еще совсем недавно печь с импортным обогревателем раскаляла этот сосуд до неисчислимых тысяч градусов, но Верещагин знал, что к чему.
Он смело взял керамический сосуд в руки и развинтил его.
И тотчас Джинн выплыл из сосуда. «Спасибо, что ты меня создал»,– сказал он Верещагину.
Обычно Джинны говорят: «Спасибо, что ты меня освободил».