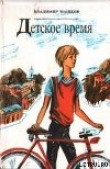Текст книги "ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ"
Автор книги: Владимир Краковский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 33 страниц)
К той поре дядя Валя был уже очень начитан, таскал домой без разбору все журналы, которые приходили в разбогатевшую колхозную библиотеку, где ему выдавали их даже не записывая в формуляр, опасаясь подобным бюрократическим действием выказать – ненароком – сомнение в дяди Валиной всем известной честности.
Сын, зная отцовскую непоколебимость, под родительский кров с тех пор не являлся, присылал лишь к праздникам поздравительные открытки, которые дядя Валя аккуратно рвал на те же четыре части, что и письма, оставляя, разумеется, без ответа.
Вот такая неудача постигла дядю Валю с сыном, зачатым в новолуние. Может, он что не так сделал, спутал новолуние с полнолунием, может, это в полнолуние родятся славные дети, а в новолуние наоборот – любители бить баклуши и жить в собственное удовольствие, или старики запамятовали и народную мудрость пересказали превратно, как бы там ни было, а поступил сын артистом в оперетку, и, что удивительно, стал делать в ней большие успехи: то в хоре подтягивал, а через короткое время его однажды вдруг по телевизору показали уже солистом, но что он пел и какой танец под песню на сцене выплясывал – оперетка, она ведь такая, поют и пляшут вперемежку с простым говорением – осталось неизвестным, так как дядя Валя хищным зверем к телевизору подпрыгнул и выключил его, а жена на этот поступок никак не прореагировала, хотя к изображению сына совсем близко была, рукой подать, она только успела радостно воскликнуть: «Батюшки, наш!», но тут же, вздохнув на погашенный экран, пошла делать разные хозяйственные дела: давно минуло время, когда она бросалась спорить с дядей Валей – зачинать или не зачинать, совместная жизнь приучила ее к благоразумному уважению мужниной воли.
И еще одна неудача была у дяди Вали в биографии, но гораздо раньше, и не с кем-нибудь, а с родной старшей сестрой, ради которой загробил он здоровье всех органов, кроме глаз – ими он все видел, все понимал.
Началась эта неудача, когда сестра училась еще на четвертом курсе – или на пятом уже? – нет, все-таки на четвертом,– конечно, как всегда отличница и вообще активистка, член даже институтского студенческого совета и, кажется, староста группы, или, может, это ее потом уже избрали.
Одним словом, получил дядя Валя внезапно от сестры длинное послание, а до этого получал только короткие писульки, и было это длинное послание как гром среди ясного неба, однако дядя Валя его не порвал, как впоследствии сыновнее, а, наоборот, спрятал в комод, в тот ящик, где у него теперь красные рубашки лежали,– всю жизнь любил дядя Валя красные рубашки, как благосостояние стало получше, он ими обзавелся в полном комплекте – и розовые, и бордовые, и морковного цвета, а тогда в том ящике одно дранье лежало, так он под это дранье и сунул сестрино письмо, до сих пор оно там лежит, теперь под красными рубашками, не вынимал его дядя Валя ни разу, не перечитывал – зачем душу бередить?
Сообщала сестра в том письме, что полюбила она на всю жизнь одного человека, который ровно вдвое дольше прожил на свете, то есть почти уже пожилой, но такой хороший, такой умный, благородный и красивый, что существования в отдельности от него она себе теперь представить не может. Однако, чтоб брат не думал, будто его в ближайшие дни собираются пригласить на свадьбу, она сообщает сразу же, что свадьба, как таковая, не состоится, по причинам, которые дяде Вале, живущему в деревне и не общающемуся с умными развитыми передовыми людьми, не понять, а если в двух словах, то дело в том, что любовь – это чувство высокопоэтичное и могучее, но, обладая огромной окрыляющей силой, однако, быстро чахнет и легко гибнет, если его сразу же, едва оно родилось, заключить в неволю, именуемую браком, и если – брат это, несмотря на молодость, конечно, замечал – большинство мужей и жен по прошествии нескольких лет супружеской жизни уже не любят друг друга, а в лучшем случае только уважают, то причина этого прискорбного явления кроется именно в том, что их любовь, едва возникнув, сразу же была лишена свободы и получила смертельный ушиб, стукнутая загсовой печатью. Поэтому, писала сестра, первые годы она со своим пожилым возлюбленным проживет, не заточая любовь-птицу в клетку, и лишь когда их чувство, вскормленное свободой, со временем окончательно возмужает, настолько, что никакие удары печатью его здоровью не будут уже вредны, вот тогда они пойдут в загс, и эта теория правильная, хотя дядя Валя ее не поймет, но пусть не печалится, есть в городе люди гораздо более образованные и то не понимают, передовые идеи всегда побиваются каменьями, которые бросает в них консервативно настроенное большинство; единственное, о чем она просит брата, так это чтоб он не присоединялся к упомянутому большинству, если желает сестре счастья.
Нет, все же на пятом курсе это было, потому что дядя Валя хорошо помнит: ровно два года продолжалась эта любовь на вольных пастбищах,– пятый, значит, и шестой курс,– у медиков шесть лет учатся,– а как сдала сестра госэкзамены, так сразу опять обширное письмо прислала – с двойным ликованием: во-первых, по поводу окончания института и получения диплома с отличием, а во-вторых – свадьба не за горами, недели через две, о точной дате дядя Валя будет извещен особо и, конечно, обязательно приедет, пусть только попробует не приехать, сестре будет большая обида, она так благодарна брату за все, что без него просто не мыслит этого торжества,– и, естественно, без своего пожилого жениха,– эти два человека сделали ее жизнь прекрасной, и она будет счастлива познакомить их наконец и подружить.
Вместо извещения о дне свадьбы дядя Валя получил – буквально на следующее утро– второе письмо, которое фактически ждал с большим внутренним болезненным напряжением уже два года со дня на день и ровно сутки, как наконец перестал ждать – словно камень с души свалился,– а вот на тебе, пришло все-таки.
В нем сестра писала, что этот любимый ее человек вдруг уехал – не по каким-либо срочным временным делам, а совсем вон из города, она ни за что не поверила бы, что совсем, но, уезжая, он передал через одно знакомое лицо устно, чтоб его обратно не ждали, и если хотят, пусть считают как угодно, подлецом и даже негодяем. Да, он согласен, что подлец – да, и что негодяй – тоже да, так что если его любимой угодно, то вот ей две подушечки – из негодяя и подлеца, пусть она приземлится на них, не так больно ударится, что же до него лично, то он навсегда останется теперь в несчастном пребывании, как бы его ни называли, а каковы истинные причины, побудившие к срочному отъезду, то любимая их понять не сможет, так как она не способна еще подниматься в те заоблачные высоты, или, наоборот, опускаться в те бездонные глубины, где только и возможны правильные размышления об истинных причинах человеческого счастья или несчастья. Сестра писала, что она все равно случившемуся не верит, даже с подозрением стала взглядывать на это знакомое лицо, передавшее прощальные слова, так как известны случаи, когда человек уезжает, скажем, в командировку, а какой-нибудь садист говорит друзьям, что тот уехал якобы насовсем, или человек уходит в отпуск, а кто-то зло шутит, будто его уволили, и так далее. Много таких случаев.
Но потом, конечно, слова знакомого лица подтвердились. То есть просто прошла неделя, месяц, год, а любимый человек о себе знать не давал, и это молчание убедительнее переданных через знакомое лицо объяснений свидетельствовало, что любовь, вскормленная на вольных пастбищах, оперилась и улетела, так как ей вовремя не были подрезаны крылья.
Сестра, с кровоточащей раной в сердце, уехала по направлению института работать куда-то на Дальний Север и к дяде Вале наведывалась в положенные каждому взрослому трудящемуся гражданину отпускные недели, но говорить об исчезнувшем пожилом возлюбленном в хулительном тоне запрещала. Дядя Валя несколько раз пытался высказаться о нем в том непреложном духе, что, мол, дескать, прощелыга он, подлюга и вор, но сестра каждый раз решительно пресекала подобные мыслеизъявления, говоря, что имя этого человека остается для нее священным и раз он так поступил, то, значит, были у него веские благородные основания, и если не сообщил, какие именно, то, значит, и на это имел веские основания. Однажды она высказала дяде Вале предположение, что, возможно, этот благородный человек заболел неизлечимой и быстро сводящей в могилу болезнью, как врач она могла назвать поименно не меньше десятка таких болезней, которые чаще всего прилипают именно к пожилым людям,– и вот, зная, что обречен, он не захотел связывать любимую женщину, портить ей будущее – она бы, конечно, пошла за него замуж несмотря ни на что, поэтому-то он и не сказал ей о причине, уехал молчком, не пожелав оставить ее через год-два вдовой, а может, и матерью одиночкой.
«Скорее всего, так оно и есть!» – воскликнула сестра и побледнела от страха, а со временем, окончательно уверовав в свое предположение, привыкла думать о возлюбленном как об ушедшем не только от нее, но и вообще из скорбной земной юдоли, как о человеке, который был, которого уже нет, и вдруг – просторен мир для законов, но тесен для случайностей! – столкнулась с ним, со своим возлюбленным, лицом к лицу, вернее сказать – грудью в грудь, в тесноте и толчее московского елисеевского магазина. Как раз за минуту до этого ею был куплен большой круг копченой колбасы, и вот она несла его в красной шелковой сеточке у ног, а он – постаревший, конечно, но все еще резкий в движениях – нес купленную тоже за минуту до встречи бутылку французского коньяка «Мартини» над головой. Рука его прямо-таки задрожала, и коричневый коньяк во французской бутылке заплескался, когда он увидел, с кем столкнулся. «Гром небесный!» – закричал он и вывел дяди Валину сестру из тесного магазина на улицу, рука у него уже не дрожала, он весело размахивал бутылкой, смеялся, заглядывал в глаза, говорил: «Смотри, судьба! Ты не вышла замуж? Да, это судьба! Ни о чем пока не спрашивай, прошу! Теперь мы будем вместе! Какое счастье, что я тебя встретил!»
Счастье, помимо прочего, заключалось еще и в красной шелковой сеточке, так как у его приятеля, к которому они, не мешкая, отправились, помимо принесенного «Мартини» в пузатой таре, на столе стояло еще несколько длинногорлых, как лебеди, бутылок, но никакой закуски не было, и все гости – одни мужчины, почти старики, спортивно одетые, человек пять – радостно, по-молодежному закричали «Ура!», когда она смущенно предложила: «У меня тут колбаса…»
Эту колбасу немедленно нарезали миллионом тончайших полупрозрачных кружочков, и этот мальчишник с единственной дамой продолжался несколько часов, в течение которых он, захмелевший, не раз шептал ей в ухо: «Только ни о чем не спрашивай, ладно?», а друзья; его пили и веселились, рассказывали смешные истории и анекдоты, не задавая никаких вопросов, не выражая удивления и любопытства по поводу внезапно появившейся молодой особы, с которой их приятель так привычно нежен, на «ты», которой часто говорит: «Помнишь?»
Вот так они отпраздновали негаданную встречу, а часа в два ночи на такси, вдвоем, помчались через всю столицу, к самым центральным улицам, к импозантнейшей гостинице, одноименной городу – третьему Риму, а там – лифт в небо, коридор в коврах, дежурная за столиком под уютной зеленой лампой,– кровь ударила в лицо: кому же не известно, что в такой поздний час посторонним в гостинице пребывать запрещено, сейчас выгонит, вот стыд-то! – но дежурная склонилась над книжкой, как бы не заметила посторонней,– неслышными шагами по ковру – в номер, такой непохожий на те, в которых приходилось ночевать разъездному северному врачу, затаившийся в углу слепой телевизор, приземистая кровать, светлынь, хотя свет выключен, круженье ярких пятен по потолку, шепот: «Ни о чем не спрашивай!», рука по телу: «Я тебя всю помню!», утро: «У тебя дела? И у меня, представь, но не позже семи освобожусь, буду ждать в вестибюле, как удивительно, что мы встретились, Москва ведь… четыре миллиона? – нет, милая, устарели твои сведения – семь».
С половины седьмого до половины десятого – в вестибюле, потом – лифт в небо,– другое лицо под зеленой лампой: «Оставить записку? Пожалуйста. В какой номер?.. Ну, хоть фамилию знаете? – желтая карточка в зеленых от лампы руках.– Выбыл жилец… Как выбыл? – уехал, стало быть… Вот этого сказать не могу и, знала бы, не сказала, права не имею, но и не знаю, нам жильцы не докладывают».
Вот тут-то дядя Валя и оторопел, и даже поперхнулся – за обедом дело было, сестра только приехала – темная лицом, губы четкие, тоже темные, сжатые – вдруг ударила ладонью по столу – чашки-ложки весело запрыгали, да как закричит длинно-предлинно: «Подлец, сволочь, рухлядь, подонок, старый самец бездомный! Все они такие! На красоту уже не надеются, словами, клятвами заговорят, запутают, совести давно нет, одни теории, болтают, мудрецы, а сами под юбку, стрелять их надо, кастрировать, я бы лично, ах, с каким удовольствием!..» Дядя Валя только в начале этой речи поперхнулся, оправился он быстро, медленно прожевал пищу и сказал: «То и я тебе говорил». Речь сестры ему понравилась; правда, неясно было, с чего это она вдруг так разошлась, о столичной встрече дядя Валя не знал, но слова – те, которые он понял, были правильные, а которые не понял – красивые. Союз и единство этих слов производили впечатление большой прелести.
Сестра прожила у дяди Вали с месяц, ни разу больше на эту тему не заговаривала, только перед отъездом вернулась к ней, осветив ситуацию с совершенно неожиданной стороны. Она обняла брата, поплакала у него на плече, а потом, жестоко терзая лицо платком, сказала: «Аборт я делать не стану».
169
А Верещагин вдруг прекращает писанину. Он еще в позе утки, нырнувшей за лягушкой,– только хвост торчит над водой, но лягушек в темной глубине теплой реки что-то не стало видно, обеднела река лягушками, пусто – хвост снаружи, авторучка замерла в руке, как клюв, чуть дрожит, Верещагин ерзает коленями по дивану, ждет: когда же она, рука, снова набросится на бумагу, клюнет когда? – но та и не думает, тут Верещагин решает, что, наверное, опять зашел в тупик, возможно в ничтожный, неопасный, в смехотворно пустяковый тупик, но голова свисает с дивана совершенно пустая, ни одной мысли в ней,– пришло, стало быть, время снова вколотить в зуб гвоздь.
Но прежде чем отправиться на кухню за молотком, Верещагин еще раз взглядывает на недописанную страницу, несколько секунд изучает черные закорючки красными от прилившей крови глазами и вдруг понимает, что лягушек нет потому, что уже все проглочены. Все уже сделано. Работа завершена.
Верещагин ошарашен. Он сползает с дивана, беспомощно шевелит щупальцами и думает: «Надо крикнуть «ура!»? Конечно, надо». «Ура»,– говорит он, но получается тихо, без радости. Может, он что-то не так написал, опять ошибка и поэтому не кричится? Нет, теперь все правильно, никакой ошибки, но радости нет. Восторга нет, вот что удивительно. Хоть плачь.
Он поднимается, встает на ослабевшие ноги, потягивается, разминает затекшие члены. За окном – сумерки. Утро? Вечер?
Он озирается: где-то должны висеть часы, забыл уже где. Ага, вот, над столом. Три часа пятнадцать минут… Значит, утро. Утро, черт возьми! Раннее, прекрасное!
Но радости нет.
Восторга нет, вот что обидно.
Он осматривает поле боя. Пол усеян листками бумаги. Невозможно шагу ступить, чтоб не зашуршать. Черт знает что.
«С сегодняшнего дня здесь будет порядок»,– решает Верещагин и принимается не торопясь собирать листки, складывать их в нужной последовательности, некоторые плотно комкает, делает из них что-то вроде снежков и швыряет в угол, стараясь попасть в стоящий там телефон. Пол постепенно очищается. А за окном все светлее и светлее, можно уже выключать свет, но Верещагину некогда, он вошел в азарт уборки, однако радости в душе никакой, просто диву даешься, до чего скупы вознаграждения за творческий труд, Верещагин берет с дивана полуразобранный запыленный приемничек, несет его к подоконнику, прекрасно понимая, что там ему не место, однако на диване ему, полуразобранному, тем более нечего делать, он несет его к подоконнику, думая: «Временно», и вдруг слышит негромкий стук от падения чего-то маленького, совсем ничтожного, смотрит под ноги – господи, что он видит! – он видит винтик, тот самый, проклятый, до которого он добраться никак не мог, винтик-хитрец, несносный шалун, молодчага, вывалился наконец-то из приемника – сам! Ура!
«Ура!» – кричит Верещагин, долгожданная радость закипает в нем, восторг обжигает грудь, он хватает отвертку, он включает паяльник, он напевает хорошенькую песенку и очень изумляется, когда вдруг слышит из налаженного приемника ту же мелодию. «Мы с тобой заодно! » – говорит он и проникается любовью к приемнику, к далекой станции на коротких волнах, к еле различимому голосу – за тысячу километров отсюда, днем, вечером или ночью кто-то поет ту же песню, что и он, Верещагин, на рассвете – Верещагин безумно влюбляется в этого замечательного человека, он готов троекратно расцеловать его. «Господи, узнать бы его фамилию!»-думает он.
Песенка кончается, но радость продолжает клокотать в груди, Верещагин бьет по ней кулаком – раз! два! три! – подобно некоторым негодяям, бьющим кулаком по троллейбусному автомату, хотя тот вполне исправен и готов выдать билет, однако почему ж не ударить, если это не опасно, если есть предлог – для верности, для острастки, для самовозвеличения, на всякий случай, авансом, из любви к насилию, от сознания безнаказанности, с восторгом вседозволенности, чтоб трусливым способом доказать себе, что не трус,– «Подавляй того, кто слабей!» – требует инстинкт, и некоторые бьют по безответному автомату, потому что все остальные – сильней. Ничтожества бьют по троллейбусным автоматам – установив это, следует отказаться от сравнения с Верещагиным,– он бьет себя в грудь совсем по другим мотивам, сходство здесь чисто внешнее,– Верещагин бьет самого себя, чтоб острее почувствовать собственное существование, чтоб сильнее ощутить обжигающую радость в груди – три раза бьет Верещагин по ней, но этого, конечно, мало.
Этого, конечно, мало, и вот Верещагин оглядывается, озирается: чего бы еще сделать? Ему необходимо что-то совершить, произвести поступок, потому что какая же это радость, если она не завершена поступком?
И тут в поле зрения попадает телефон, заваленный снежками, которых он налепил целую уйму из ненужных теперь листков. «Ага!» – говорит Верещагин себе, но так громко, что нижние соседи слышат тоже, они просыпаются, пялят друг на друга обессмысленные сновидениями глаза и спрашивают хриплыми спросонья голосами: «Ты что-то сказал?..» – «Нет, это ты сказала…» – «Не делай из меня дурочку, это ты сказал: «Ага!»…» – «Я прекрасно слышал, сказала ты…» – «Не делай из меня дурочку, это был мужской голос…» – «Может, Алешка?» – «Не делай из меня дурочку, Алешке полтора года, у него не мужской голос, наверное, верхний сосед сказал…» – «Он разговаривает каждую ночь, по-моему, он кого-то приводит…» – «Женщину? В какой ситуации женщина может сказать ночью: «Ага!»?..» – «Есть такие ситуации…» – «Тебе виднее, ты ничем не лучше его…» – «Перестань ругаться, я же не вожу в дом женщин, которые басом кричат «Ага!»…» – «Еще не хватало, чтобы ты приводил их в дом…» – «Надо пожаловаться в домоуправление…» – «Ты в сотый раз собираешься…» – «Все некогда, руки не доходят до этого идиота…» – «Какой ты мужчина, если у тебя ни до чего не доходят руки?..» – «Кое до чего у меня руки доходят…» – «Перестань, с ума сошел; кажется, проснулся Алешка…» – «Слышишь, чем он орет? Он орет настоящим басом…» – «Неужели все-таки он сказал: «Ага!»?»
«Ага!» – говорит Верещагин и подходит к телефону. Он дует на бумажные шарики с такой силой, что они разлетаются и весело скачут по всей комнате, он крутит диск, не глядя на цифры – наконец он кому-то скажет, поделится радостью, а то все один и один. «А то все один и один»,– говорит он в трубку, хотя откликается мужской голос, а об одиночестве лучше всего разговаривать с женщиной, Верещагин знает это не хуже кого другого – фразу об одиночестве он для женщины и приготовил, но куда денешься, если трубку вдруг снимает мужчина, разве придумаешь что-нибудь путное в спешке, а Верещагин спешит, хотя и закончил работу, он сейчас на большом подъеме, он сейчас горы может свернуть: когда человек может свернуть горы, он всегда спешит сделать это, но попадается мужчина и приходится разговаривать с ним как с женщиной. «Я все один и один,– жалуется Верещагин (надо же, мужчине жалуется!). – Все один и один,– говорит он,– и не с кем поделиться радостью». Но мужчина попадается как баба – вместо того чтоб послать Верещагина подальше, он интересуется: «Какая радость?» Едва проснулся человек, а уже готов разделить чужую радость, не эгоист, видно, а следовательно, не мужчина вовсе, хотя и говорит низким голосом, но это, должно быть, из-за того, что спросонья,– автор, например, знал одну женщину, которая спросонья рокотала таким басом-профундо, что с ней страшно было просыпаться вместе, а днем у нее была писклявая, как у соловья, колоратура. «Последнюю лягушку проглотил,– сообщает Верещагин о своем успехе в несколько закамуфлированном виде.– Совершенно пустая теперь река. Я даже в квартире немного убрал».– «Мне бы добраться до твоего уха, подлец,– говорит мужчина – неплохой все же, видать, малый.– Так бы звезданул!» – в трубке гудки, Верещагин, разочарованный краткостью разговора, снова набирает какой-то номер, на этот раз ему везет: в трубке девичий голос – такой веселый, громкий, ясный, будто и не рассвет в природе, а полдень. «Вы не спали?» – удивляется Верещагин шепотом: с таким юным существом он опасается говорить в полную громкость, по той же, наверное, причине, по которой Господь Бог поостерегся показать Моисею свое лицо. «Какое там – спали! – кричат в трубке.– Я в институт поступаю, к экзаменам готовлюсь, понимаете?» Везет Верещагину на девушек, готовящихся к экзамену. «Везет мне на девушек, готовящихся к экзамену»,– шепчет он. «Вам везет на девушек? – смеются в трубке.– Ха-ха! Кто вы такой? Почему вы говорите шепотом? Сколько вам лет?» – «Я тот, кого никто не любит и все живущее клянет»,– шепчет Верещагин, ему очень нравится голос, он в восторге от своей удачи: позвонил куда надо. «Ха-ха! – смеется голос.– Как интересно! Сколько вам лет?» – «Несколько»,– уклончиво шепчет Верещагин. «Это очень хорошо, что вы позвонили! – кричит голос.– А то все занимаюсь и занимаюсь, понимаете? Я очень рада, что вы позвонили. Вы не повесите трубку?» – Верещагин в сильнейшем умилении, он влюбляется в говорящую с ним девушку так же нежно, как и в певца, который поет то ли днем, то ли вечером, то ли ночью, а девушка тем временем в третий раз спрашивает, сколько ему лет. «Сто девятнадцать»,– шепчет Верещагин первое пришедшее в голову число и чувствует, что теперь будет любить всех вместе: певца, девушку и число сто девятнадцать. «Ха-ха-ха! – смеется шутке девушка.– Не так уж много, да? Лишь бы сердце молодое, правда?» – «Ага,– шепчет Верещагин.– Лишь бы».– «Слушайте,– кричит девушка.– Вы в физике разбираетесь? Какое у вас образование?» – «Я вас люблю»,– шепчет Верещагин. «И я вас,– говорит девушка.– Вот послушайте задачу! Колесо скатывается с плоскости под углом в тридцать семь градусов. Ускорение – одно «же». Каким должен быть диаметр колеса, чтоб за двенадцать секунд оно сделало двадцать четыре оборота… Вы поняли условие?» – «Вы подарили мне высокое счастье взаимности,– шепчет Верещагин.– Тридцать шесть и одна десятая сантиметра».– «Как вы узнали? – кричит голос.– Вы сумели угадать? В задачнике такой же ответ! Вы за одну секунду вычислили? Этому просто невозможно поверить! Вы – гений? Что надо сделать?» – «Желаю вам сдать на «отлично»,– шепчет Верещагин, кладет трубку и чувствует, что у него опять болит зуб.
Он болит не больше прежнего, но теперь, когда работа закончена и эта боль уже не нужна, она раздражает Верещагина, как любовь женщины после рождения ребенка. Верещагин выбегает на улицу, идет в поликлинику.
Но утро слишком раннее – поликлиника закрыта – на дверях табличка, на которой написано, что врачи придут в восемь, сейчас только пять, целых три часа ждать – может, прогуляться? Верещагин идет прочь от поликлиники – по переулку, вдыхает свежую утреннюю прохладу – как приятно; кажется, что это совсем новый воздух, а не просто остывший вчерашний.
А зуб болит все сильнее – то есть так же, но все сильнее ощущается бесполезность этой боли. Верещагин уже мучается и временами мычит.
Он доходит до конца переулка, сворачивает влево,– в последнее время ему доставляет удовольствие сворачивать в левую сторону,– не из каких-либо политических или философских соображений, а просто так,– прихоть или биологическая потребность – непонятно, но если приходится сворачивать вправо – он огорчается. Он идет влево, но, пройдя квартал, другой, натыкается на толстый канат, преграждающий улицу. Тут оживление, несмотря на ранний час, кипит работа – известка, кирпичи, строители. «Куда прешь? – говорят они Верещагину.– Не видишь, ремонтируется дом, он в опасном состоянии, проезд и проход закрыты, ходить запрещено, не велено, поворачивай обратно».
«А что привело его в опасное состояние?» – спрашивает Верещагин о доме и мычит от зубной боли. Строители смотрят на него с удивлением, они предполагают, что Верещагин надумал с ними шутить шутки, а у них – во-первых, много работы; во-вторых, никакого желания шутить в пять утра, даже природа в это время лишена чувства юмора, отчего и предпочитают утренние часы всем остальным серьезные деловые люди, тогда как различные шалопаи и авантюристы-мыслители, наоборот – как рыба в воде вечером и ночью (я, например, так даже пишу ночью – когда Земля погружена во мрак, во мне смелости и остроумия хоть отбавляй). Верещагина же зубная боль принудила шутить в пять утра, строители, конечно, такого отношения к жизни в столь ранний час не приняли и резонно ответили на его шутку серьезным неприличным словом и предложением убраться подальше. Верещагин вынужден идти обратно, то есть если до сих пор шел влево, то теперь, значит, вправо,– а что делать, если левый путь прегражден канатом? – но Верещагин человек упрямый: вправо? – пожалуйста, он подчиняется обстоятельствам, пойдет вправо, но зато по левой стороне улицы – человека смирить невозможно, он всегда возьмет свое: заставят идти вправо, он пойдет вправо по левой стороне, запретят идти по левой стороне, он заскачет на левой ноге, вырвут ногу – поползет на левом боку, он будет смотреть на дорогу одним левым глазом, дышать левой ноздрей, заставит сердце сокращаться одним левым желудочком: возможности неисчерпаемы, человек непобедим, он всегда найдет способ удовлетворить свое желание – вот только что непонятно: зачем Верещагину обязательно нужно именно левое?
170
А вот и притча. Идут Лев и Заяц. Видят, лежит пирожок. «Он с капустой,– говорит Заяц.– Значит, его должен съесть я».– «Нет, с мясом,– возразил Лев.– Я его съем».
Решили: кто окажется прав, тот пусть и съест.
Разломили пирожок – он с капустой. Лев взял и съел.
«Несправедливо! – закричал Заяц.– Ведь прав оказался я!»
«Ты прав,– согласился Лев.– А я – Лев».
171
Только возлюбленные и дантисты – кто еще так близко наклоняет к нам свое лицо?
Только дантисты и возлюбленные – кто еще так внимательно смотрит нам в рот?
Только возлюбленные, только дантисты способны причинить нам такую боль.
Верещагин говорит все это зубной врачихе. Он что-то с утра сегодня настроился шутить. Наверное, потому, что ночью не спал. Сон у кого угодно отобьет охоту шутить.
Конечно, пребывание в зубоврачебном кресле тоже у кого угодно отобьет охоту шутить, но Верещагин шутит еще до того, как садится в кресло.
Он открывает рот широко, как бегемот. «Это зуб мудрости,– говорит зубная врачиха.– Они очень нестойкие. У большинства людей приходится удалять еще в молодости».– «Мне – сорок шесть»,– сообщает Верещагин. После бессонной недели он выглядит на все сто сорок шесть. Ужасно он выглядит. А туда же – шутит.
Зубная врачиха ищет нужный инструмент. Берет одни щипцы – кладет обратно. Берет другие, рассматривает – тоже обратно. Берет третьи.
А может, они и не щипцы называются. Клещи.
Верещагину нравятся эти щипцы-клещи. Потому что они никелированные и блестят. Он решает, что купит себе какие-нибудь. Повешенные на стенку, они оживят интерьер любой квартиры. Будут блестеть красиво и опасно.
Зуб скрипит, как ржавая дверная петля. Он трещит, как сухой хворост – в костре или когда его об колено. Раздается звон, будто выбили стекло. Боль. Треск… Внезапно посреди боли в мозгу начинает метаться слово «вереск». Это растение из рода вересковых, растет в лесу и образует заросли, которые называются верещанники. Когда вереск цветет, опьяняющий аромат его цветов так силен, что пчелы, прилетающие за нектаром, падают в обморок. Однако Верещагину удается совладать с собой, он в обморок не падает, он даже улыбается. Зуб мудрости – в клещах, извлечен на свет божий. Он желтоват, в складках желтизна сгущается, бок отколот гвоздем придворного ветеринара Александра Македонского,– зубная врачиха подносит клещи к глазам Верещагина – слишком близко. «Можете взять себе,– говорит она о зубе. И смеется: – На память от возлюбленной».– «Спасибо,– отвечает Верещагин.– У вас есть бумажка?» Зубная врачиха, улыбаясь, заворачивает зуб в кусочек ваты, Верещагин берет, благодарит, выбирается из кресла. «Есть необратимые потери»,– говорит он неразборчиво, потому что за щекой, на развороченной кровоточащей десне кляп из ваты, но врачиха понимает его слова. «Бывают исключения,– отвечает она.– Хотя и редко. У Ивана Грозного, например, в старости стали прорезаться новые зубы».– «А я знаю про слонов,– говорит Верещагин.– У них зубы меняются шесть раз за жизнь».
Его усталую невыспавшуюся голову осеняет зубоврачебная идея, и он тут же, выплюнув в раковину кумачового цвета вату, торопится изложить ее зубной врачихе. «Слушайте! – говорит он.– Это же замечательная тема для докторской диссертации! Да что докторской! Вы станете академиком». И предлагает методику: нужно исследовать кровь младенцев в тот период, когда у них сменяются зубы – дело, конечно, в каком-то гормоне! Этот гормон нужно выделить, изучить, синтезировать и – пожалуйста! У вас гнилые зубы? Минуточку, впрыснем вам гормон – через неделю гнилушки выпадают, а через месяц вырастают новые, свежие, крепкие, блестящие клыки! Эпохальное открытие! Избавителю человечества от гнилозубых улыбок и вываливающихся искусственных челюстей гарантирована шумная слава при жизни и тихая благодарность потомков. Почему бы этим не заняться?