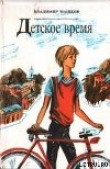Текст книги "ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ"
Автор книги: Владимир Краковский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 33 страниц)
Мм так ли и женщины? Разве не умеют и они, осенив луг ласковым гудением крыл своих, точно распознать цветок, в котором нектар погуще? И вот – больше сладости в глубине, и лепестки увядают.
Плод зреет. Здоровенькое, медом напитанное потомство произрастает.
Ужасен луг без цветов! Одни овощи, овощи, овощи, ягоды, ягоды, стручки да коробочки с зернышками…
Он неспроста, этот древний обряд: убив цветок, преподнести любимой женщине его свежий благоухающий труп… Губительница цветов – вот кто такая женщина.
Но разве могу я винить ее в этом? Разве своей волей она действует, разве не божьей? Разве не мудрый замысел Вседержителя в каждом поступке даже худших из нас? Разве посмею святотатственно роптать?
Он создал род людской. А у всего, что создано, есть суетливое настоящее, есть капризное будущее. Стало быть, потребовались ответственные за то и за другое. Стало быть, потребовалось разделить человечество на мужчин и женщин, чтоб было кому за что отвечать. Иного пути Премудрый не нашел. Будущее – женщинам под опеку. Мужчинам же – текущий момент. Мечется с тех пор мужчина, крутится, вертится, ловчит, изворачивается, весь в шишках, ссадинах, инфарктах и слезах – созидает, разрушает, изобретает, догадывается, сомневается, тужится, пыжится, сегодняшним днем живет, а женщина смотрит вдумчивым взглядом в его душу и решает: что ей взять из содеянного в будущее, а что оставить в настоящем, то есть обречь на забвение. Такая у нее забота. Функция у нее такая.
Скажут мне: и вовсе не такая. И приведут примеры активного участия женщины в строительстве сегодняшнего дня: дескать, и среди ученых их нынче полно, и стихи они сочиняют, и в руководящих креслах порой, поерзывая, сидят,– а не только вдумчивым взглядом и сосущим инструментом в мужскую душу лезут. Но я отвечу: камуфляж все это, показуха, умелая для какой-то цели игра. На людях, напоказ они чем угодно заниматься станут. Но видели ли вы женщину в подвале, заваленном ретортами, колбами? В едком дыму, в лохмотьях, с обожженными пальцами, с безумно горящими огнем познания глазами? В дикой одинокой страсти переливающую из пробирки в пробирку разные жидкости, в надежде получить золото или философский камень? День и ночь листающую ветхие фолианты древних мудрецов с сумасшедшей надеждой постичь смысл жизни или тайну вселенной?
Мужчина и на необитаемом острове станет исследовать окружающий мир, женщина же не станет, потому что ее цель – не открыть истину, а взять ее у другого и передать дальше. Сосущий инструмент ей дан для этого и глаз, способный видеть то, что сокрыто: нектар на дне чашелистника, тайные грезы задумавшегося мужчины.
Мед и плод она творит. Не осуждаю я ее за это. Потому что мир из одних цветов красив, но недолговечен.
136
И вот увидела Тина грезы Верещагина, зависла пчела над цветком, сосущий инструмент наготове,– сядет, улетит, и нет в цветке сладости и лепестки увядают… Но не тут-то было! Верещагин не дурак, Верещагин тертый калач и крепкий орешек, Верещагина голыми руками не возьмешь, Верещагин голову в петлю не сунет, его на мякине не проведешь, за него двух небитых дадут, он собаку съел, обжегся на молоке, он теперь на куст – шалишь! – не сядет.
Одним словом, Верещагин – стреляный воробей.
А дальше события развивались так: Вера, по своему обыкновению, проворчала что-то злое, Верещагин в ответ повторил то, что уже однажды им было сказано: мол, не завидую твоему будущему мужу, Вера отреагировала так же, как и в прошлый раз: вы, мол, моего будущего мужа не троньте, не вы, мол, им станете. «Конечно,– ответил Верещагин.– Я бы тебя в жены не взял.– И шутливо прибавил: – Вот Тину взял бы, другое дело».
Жениться он никакого намерения не имел – ни на Тине, ни на ком-либо еще, но раз идет шутливый разговор, то почему бы не пошутить и так: Тину, мол, взял бы…
На что Вера ответила – Тина пока в разговоре не участвовала: «Давайте, давайте. Она пойдет. Она такая дура, что пойдет».
«Откуда ты знаешь, что пойдет?» – спросил Верещагин.
Это он продолжал шутить. Стоял посреди комнаты, улыбался и шутил, поглядывая то на Тину, то на Веру. «Что я, слепая? – сказала Вера.– Будто я не вижу, что пойдет».
«А Тина, как всегда, молчит, – заметил Верещагин. Он решил и ее втянуть в веселую беседу. И сказал: – Тина, пошли в загс».
«Она сейчас вам ответит,– сказала Вера.– Что я, не вижу, что ли, что ответит».
И точно, Тина ответила. «Идемте,– сказала.– Когда?»
Значит, так. Верещагин пошутил: пошли, мол, в загс, а Тина спросила: «Когда?»
«Сейчас»,– пошутил Верещагин.
«Идемте»,– снова сказала Тина и поднялась с дивана. Во весь рост встала. Готовая к ходьбе.
Верещагин хмыкнул, мотнул головой и сказал: «Разговорилась!» – в том смысле, что все эти дни из Тины слова невозможно было вытянуть, а тут она вдруг стала отвечать на каждый вопрос, хотя и односложно.
Вообще следует отметить странные зигзаги в поведении Тины. В день знакомства, когда они плавали на лодках, а потом ходили в театр, она была веселой и разговорчивой, но потом сильно переменилась. Может, на ее психику повлиял поступок Верещагина после спектакля, когда он внезапно ушел, не предложив встретиться снова, в результате чего она потеряла веру в себя и стала трусить, может, какая другая причина,– как бы там ни было, но в последующих встречах разговаривала почти одна Вера, Тина же робко молчала, вот только теперь, можно сказать, впервые между ею и Верещагиным возник связный, хотя и краткий, шутливый разговор.
Но тон у Тины был какой-то несоответствующий: когда человек шутит, он должен улыбаться, хихикать или подмигивать, а Тина как-то слишком всерьез, фактически даже по-деловому сказала это «Идемте»,– правда, есть шутники, у которых специально такая манера: изрекают смешнейшие вещи с совершенно серьезным, даже мрачным лицом – это, можно сказать, остряки высшей квалификации, но Тине-то откуда было взять такую квалификацию!
Одним словом, Верещагина эта серьезность напугала, и он дал задний ход, заявив: «Сегодня мне некогда. Завтра сходим».
То есть он хоть и дал задний ход, но шутить продолжал. Отступал, отстреливаясь.
Тина в ответ сказала: «Хорошо»,– опять в тоне шутника высшей квалификации, то есть без всякой улыбки.
Тут вмешалась Вера, и всю неловкость как рукой сняла. «Бросьте свои глупые шутки,– сказала она Верещагину.– Долго вы еще будете свои гадости предлагать Вы старый, а туда же, в загс. Как молодой».
Вот это был уже нормальный разговор. Какой нужен.
«Ты сама старая,– сказал Верещагин.– Ворчишь и ворчишь без конца, словно семидесятилетняя бабка».
«Представляю,– сказала Вера с нехорошим смехом.– Муж и жена – ха! Вы же не побежите!»
Верещагин поинтересовался, куда это он не побежит.
«На остановку,– объяснила Вера.– Тина будет вас умолять: родной муженек, наш троллейбус подошел, мы же опаздываем в театр, давай побежим… А вы не побежите».
«Куда мне,– согласился Верещагин сначала.– Я поплетусь.– А потом вдруг обиделся: – Интересно, почему это я не побегу?»
«Потому что из вас песок посыплется,– понятно объяснила Вера.– А Тина побежит. Помчится. Уедет в театр одна. Познакомится там с прекрасным молодым человеком… Конечно!»
Тина на эти слова никак не прореагировала. Она опять выключилась из разговора.
«А билеты у меня,– злорадно сказал Верещагин.– И плетусь себе и плетусь. А Тина с молодым человеком под дождем мокнут».
«Никакого дождя нету,– сердито сказала Вера.– Если каждый будет придумывать себе дождь, что же это получится? Мне ваши фантазии надоели – глупей не придумаешь. Помолчали бы немного, а то до такой глупости договорились – молодую девушку в загс звать. Постыдились бы».
Верещагин постыдился.
А Тина опять промолчала.
137
А на следующий день Верещагин подошел к окну. Ему вдруг вспомнился железобетонный столб, торчавший возле его дома в Порелово и описанный автором в тридцать девятой главе – он очень пожалел, что здесь нет такого, и подошел к окну посмотреть, что же здесь есть. И увидел такую красоту, что о столбе мгновенно забыл.
День близился к концу, и все предвечернее небо закрывала огромная сухая туча сизого цвета. Только у самого горизонта оставалась узкая голубая полоса, посередине которой висело солнце. Оно было не очень яркое, тяжелое, как ртуть, и светило в мир как в пещеру.
Верещагин стал любоваться этой картиной. Надежный сизый свод над головой и косые лучи солнца делали мир таким уютным и красивым, что Верещагин не мог припомнить: видел ли он еще когда-нибудь такие уют и красоту.
Словом, редкая минута. Одна из тех, когда хочется верить, что Земля действительно наилучшее место для процветания разумной жизни. Что выбор планеты кем-то когда-то был сделан правильно.
А то ведь иногда так паршиво бывает на нашей Земли что думаешь: ну, если уж на ней есть жизнь, то на других планетах и подавно.
Значит, такой момент: стоит Верещагин у окна, любуется красотой и уютом родного небесного тела, и состояние духа у него тоже великолепнейшее. «Постою еще немного и сяду за листки»,– думает он. И как бы даже видит эти листки – за спиной, там, на диване, в безобразнейшем беспорядке лежащие, смятые задом Агонова, переворошенные Тиной и Верой, истрепанные им самим. «Сейчас сяду. Сегодня что-то получится»,– думает он.
Между тем природа окрашивается в оранжевый цвет. Оранжевым становится асфальт, оранжево светятся стволы деревьев, даже листья обретают оранжевый оттенок, лишь самым молодым, поздно распустившимся листочкам удается сохранить салатную зеленоватость. И прохожие оранжевые – у кого спина, у кого лицо: кто в какую сторону идет. Веселейшим оранжевым пламенел полыхают окна домов. Мир становится таким прекрасным, что даже чересчур. С ума можно сойти.
«В такой день я горы сверну»,– думает Верещагин
«Ишь как удачно выбрали планету!» – думает он с одобрением в чей-то неведомый адрес и вдруг видит Тину.
Он с большим трудом соглашается поверить, что это Тина. Сначала он думает: если бы это была Тина, то он; шла бы с Верой. А раз без Веры, значит, не Тина.
Но потом его сознание подчиняется очевидности факта: это таки Тина. Она идет по направлению к его дому, и сердце у Верещагина вдруг подпрыгивает до самой глотки, потому что в голове возникает догадка: она выходить за него замуж идет, вчера ведь был такой разговор,– шутливый, но Тина ни разу не улыбнулась. И вот теперь идет.
Верещагин прячется за штору, боясь: Тина поднимет голову и посмотрит в его окно.
Но как все люди, имеющие четкую цель, Тина смотрит Прямо перед собой. Она идет по оранжевой улице среди Оранжевых прохожих. Верещагин не успевает заметить, оранжевая ли она сама.
«Боже! – говорит он себе.– Господи! Как я влип! Что мне делать?»
Он бросается надевать брюки, потому что до этого был в трусах, он вспоминает, что небрит, но бриться уже, конечно, поздно, он думает: сразу открывать дверь после ее иконка или выждать немного? Лучше выждать – никакой торопливости, никакой суеты, пусть все будет размеренно и солидно; главное, не выдать свой испуг…
Он ищет папиросы, закуривает, осматривает себя. Он готов к приему гостьи: все застегнуто, в левой руке дымящаяся папироса, в правую он берет журнал «Физический вестник».
Журнал попался февральский, давно прочитанный, но это не имеет значения. Важно нагрузить себя вещами, чтоб, когда откроет дверь, Тина увидела, как он занят.
Все получается замечательно: едва он успевает распределить папиросу и журнал между левой и правой рукой, как Тина резко и отрывисто звонит в дверь – впрочем, цепкость характеризует, скорее, свойства самого звонка, и Тину – только отрывистость.
Верещагин открывает не сразу – то есть он хочет сразу, он уже забыл о своих планах помедлить и бросается и прихожую сломя голову, но происходит заминка: от слишком поспешного рывка к двери у него слетает с ноги тапочка и уезжает под диван.
Встречать Тину с босой ногой, конечно, неудобно, Верещагин заползает под диван, там мрак, тапочка не видна, зато резко выделяется своей белизной лист бумаги, – это из черновика, догадывается Верещагин, вытаскивает его на свет божий и поражается: столбики формул, одна под другой, и каждая в рамочке,– что-то не припомнит он такого в своих черновиках, но почерк, без сомнения, его, верещагинский,– достаточно беглого взгляда, чтоб почувствовать значительность написанного, вот это да! Ценнейший листок! – только сейчас некогда праздновать находку, за дверью подозрительно молчат; может, Тина, не дождавшись, ушла,– Верещагин мчится к двери вдруг замечает: босая нога! где тапочка? Ах, осталась под диваном, он снова лезет под диван,– там кромешная тьма, прежде хоть листок освещал это мрачное подземелье – распластавшись в узком темном пространстве, Верещагин делает руками движения, словно плывет стилем брасс, наконец нашаривает тапочку и в обутых ногах бежит открывать дверь.
«Прошу!» – говорит он Тине. Ни папиросы, ни журнала в его руках, конечно, нет, эти атрибуты деловитости он в спешке растерял. «Прошу,– говорит он.– Входи».
Он усаживает Тину на диван, сам садится в кресло напротив, в его руках папироса и журнал, незаметно подобранные с пола. Он снова поджигает папиросу, поскольку та успела погаснуть, и спрашивает: «Как дела?» – иронически улыбаясь при этом, чтоб Тина, не дай бог, не подумала, будто он не знает, насколько банальны вопросы такого рода,– более интересного начала для разговора он придумать не сумел, так вот хотя бы ироническая улыбка.
«Вы сказали, что хотите на мне жениться,– говорит Тина с ужасающей деловитостью. У нее даже туповатый вид из-за этой деловитости.– Если правда хотите, то идемте быстрее».
«Куда?» – спрашивает Верещагин. Он сегодня дурак дураком. Несообразительный.
«В загс,– говорит Тина.– Я уже узнала адрес. Это недалеко».
Журнал в руках Верещагина вздрагивает, а в горле клокотнуло, как у умирающего. Он удивляется этому звуку не меньше Тины.
«Что с вами?» – спрашивает та.
«Идем!» – говорит Верещагин и поднимается. Он открывает ящик стола, берет оттуда деньги. Кроме того, он кладет в карман папиросы и зажигалку. Дойдя до двери, он говорит: «Я забыл паспорт»,– и возвращается в комнату. Душа его дрожит и поет тоненьким-претоненьким голоском – то ли младенческим, то ли старческим. «Ты взяла паспорт?» – спрашивает он у Тины. «Взяла».
Они выходят на улицу.
Они окунаются в море оранжевости и идут по его дну медленно и молча. Только однажды Верещагин спросил: «Ты летала когда-нибудь в самолете?» – «Да,– сказала Тина.– Почему вы спрашиваете?» Он не ответил,
А спросил вот почему. Ему представилось, как они с Тиной гуляют по Крымскому берегу Черного моря, что-то вроде свадебного путешествия. Тина – в кремовой шерстяной юбке, Верещагин – в своем голубом костюме. А Черное море – зеленое.
А чтоб побыстрее туда добраться – самолетом.
Они подходят к новенькому красивому зданию, у входа и которое – табличка вишневого цвета. «ЗАГС» написано ми этой табличке. Золотыми буквами. Тина решительно направляется к этой табличке, то есть к входу в здание.
«Не пойду я туда»,– вдруг говорит Верещагин и останавливается.
Тина тоже останавливается.
«Вы передумали?» – спрашивает она.
Точно, передумал. Вернее, опомнился. «Нет уж, дудки»,– говорит он себе. Удивительное дело: он с детства знает это слово: «дудки», но никогда не было случая употребить, вот только теперь наконец выдался подходящий момент. «Нет уж, дудки»,– он говорит про себя, а «Не пойду я туда» – уже вслух. «Вы передумали?» – спрашивает Тина. Верещагин врет: «Там работает одна моя знакомая,– он имеет в виду – в загсе.– Я только что вспомнил».– «Ну и что?» – удивляется Тина.
Ничего она не понимает. «А как ее зовут?» – спрашивает.
«Ира»,– придумывает Верещагин.
«Я все поняла,– говорит Тина, поразмыслив.– Вы когда-то были в нее влюблены. Поэтому вам сейчас и неудобно»,– это очень удачная с ее стороны гипотеза, Верещагин обрадованно поддерживает. «Твоя догадка где-то в окрестностях истины,– полусоглашается он.– Конечно, особенно влюбленным я не был. Но все-таки, что ни говори – роман».
«Вы целовались с нею?» – спрашивает Тина.
«Ого! – говорит Верещагин.– Еще как!»
Он даже хочет сказать «взасос», но не решается. К тому же он думает, что сказанного и так достаточно, чтоб отбить у Тины желание идти с ним в загс, но ошибается. Тина говорит: «Идемте»,– и даже тянет его за рукав,– роман с работницей загса не произвел на нее должного впечатления, а Верещагин очень на это рассчитывал.
«Подожди,– просит он.– Постой. Вот какое дело: понимаешь, нас все равно сейчас не зарегистрируют. Там правило: сначала нужно подать заявление, а потом прийти через месяц. Одним словом, это такая волокита, просто голова кругом идет. Бюрократизм, просто ужас. Ты думаешь, можно вырвать из тетрадки листок и написать заявление на нем? Ошибаешься! У них есть специальные бланки. Кажется, розового цвета. Значит, сначала приходишь и просишь: дайте бланк розового цвета. А если разводиться – синего».
«Вы знаете все правила,– уныло констатирует Тина.– Вы это сейчас придумали – с бланками, или уже когда-то бывали?»
«А то,– говорит Верещагин.– Конечно, протоптал дорожку. Мне, слава богу, не восемнадцать».
Тина задумывается. Верещагин смотрит на нее с надеждой: девушки не любят женихов, уже побывавших в загсе: он надеется, что теперь-то Тина в нем хоть немножко все-таки разочаруется, но она снова тянет его за рукав: «Пойдемте возьмем бланк розового цвета».
Верещагин упирается. Он предлагает другой вариант: написать в загс письмо с просьбой выслать бланк на дом. «А вдруг не вышлют?» – сомневается Тина. «Вышлют,– убеждает Верещагин.– У них этих бланков тыщи. Им совсем не жалко, если один пропадет».
Однако Тина отвергает почту. Он говорит, что если Верещагин стесняется, то она одна пойдет в загс и попросит бланк. «А как ты скажешь? – интересуется Верещагин.– Вдруг тебя спросят: где ваш жених?» Тина ловко придумывает ответ: «Я скажу, что мой жених в командировке».
Верещагину крыть нечем, он готов уже сдаться, но тут сама судьба приходит ему на помощь. «Ничего ты уже не скажешь,– говорит он, облегченно смеясь.– Они уже закрывают. Посмотри».
Тина посмотрела и увидела двух женщин, которые запирали дверь загса, о чем-то разговаривая друг с другом.
«С какой из них у вас был роман?» – спросила она.
«Вот с той, черненькой,– соврал Верещагин.– Давай отойдем в сторону, сейчас они пойдут сюда».
«Красивая,– сказала Тина.– Ей нравилось, когда вы ее целовали? Она млела от ваших поцелуев?»
Верещагин подтвердил: «Млела. А что ей оставалось делать?» – он очень рад, что загс так вовремя закрылся.
«Я с вами никогда не буду млеть,– сказала Тина.– Мне противно, что у вас со всеми одинаково. Я даже не хочу больше выходить за вас замуж».
«Ну и чудненько,– согласился Верещагин.– Идем лучше погуляем».
«Нет,– сказала Тина.– Я буду смотреть на эту женщину, а вы рассказывайте, как с нею целовались. Я должна все это очень хорошо себе представить».
Верещагин спросил: «А ты ни с кем до меня не целовалась?» – и в душе у него что-то знакомо дрогнуло.
«С одним,– ответила Тина.– Но это было давно. Фу, даже вспомнить противно».
«Сейчас противно, а тогда млела?» – спросил Верещагин. Ему не хотелось становиться на этот опасный путь, и он не удержался от искушения.
«Нет,– ответила Тина.– И вообще, разве это поцелуи? Он меня в щеку поцеловал. Один раз».
«Зачем же ты сказала «поцелуи»?» – спросил Верещагин.
«А как надо было?» – спросила Тина.
«Коли он поцеловал тебя один раз, то это «поцелуй». А если «поцелуи», то, значит, уже не один. Он тебя не один раз целовал?»
Тина задумалась, как бы вспоминая.
«Ну, может быть, два»,– сказала она и засмеялась.
«Два, не больше?» – спросил Верещагин.
Тина опять задумалась. Она молчала довольно долго – то ли вспоминала, то ли делала вид, что вспоминает.
«У тебя такое выражение лица, будто ты перемножаешь в уме трехзначные числа»,– сказал Верещагин.
Тина сокрушенно покачала головой. «Кажется, он целовал меня один раз в губы»,– сказала она.
События развивались по давно знакомой программе. Верещагину даже страшно стало.
«Черт возьми!» – почти прорычал он. «Здравствуйте» – неожиданно сказала ему черненькая женщина. Она проходила мимо и улыбнулась Верещагину улыбкой сообщницы. «Здравствуйте,– ответил он.– Конечно, мы в загс с тобой не пойдем никогда,– сказал он Тине.– Ты мне солгала. А у меня к лжи идиосинкразия. Брак с тобой мне противопоказан. Конечно, лучше всего разорвать сейчас и разойтись, как в море корабли. Но если хочешь, можем сначала покататься на лодке».
Тина спросила, что такое идиосинкразия. Верещагин объяснил.
«Нет, вы серьезно?» – спросила Тина. «Куда серьезней! – ответил Верещагин.– У меня от одного только запаха лжи сердечные припадки».
Тина отнеслась к этим словам очень вдумчиво. «Я не знала, – сказала она.– Я иногда немножко подвираю, но ведь никому правда особенно и не нужна. Зачем говорить правду, если в ней не нуждаются? Но вам я больше никогда не солгу, честное слово. Можете спрашивать о чем угодно, мне совсем не трудно говорить правду, это даже приятно, если вам нужно. Хотите, я чем-нибудь страшным поклянусь, что всегда буду говорить только правду?» Тут Верещагин руками замахал, громко закричал: «Ни в коем случае! Ни в коем случае! У меня к клятвам тоже идиосинкразия!» – и они пошли к реке. Уже садясь в лодку, Тина сказала: «А я, знаете, физику сдала на тройку. Противная наука. У меня к ней идиосинкразия» – вот как она хорошо усвоила это трудное новое слово, разговоры с Верещагиным пошли ей на пользу; я вообще не знаю ни одного человека, который поразговаривал бы с Верещагиным хоть одну минуту и чтоб это не пошло ему на пользу.
138
Ему позвонила по телефону женщина и сказала: «Говорит маматины», он никак не мог сообразить, что это за слово, несколько раз переспрашивал, но так и не понял до тех пор, пока женщина не сказала: «Мне стало известно, что моя дочь собирается выходить за вас замуж»,– только тогда он разделил слово на две половинки, и все прояснилось, он даже подумал: какой замечательный метод – многие проблемы, наверно, кажутся неразрешимыми только оттого, что никому не приходит в голову разделить их пополам. Что же вы молчите?» – спросила мама Тины. «Да что вы,– сказал Верещагин.– Это она шутит».
«Шутит? – переспросила мама Тины насмешливым голосом.– Я нашла у нее бланк заявления в загс, заполненный на ваше имя».– «На мое имя?» – спросил Верещагин. «Интересно, откуда бы еще я могла узнать вашу фамилию?» – сказала мама Тины. Говорила она не громко и вежливо, но казалось, каждым словом желает оскорбить собеседника; Верещагин насторожился, беспокойно вслушался – нет, все нормально, спокойно, корректно, обращенная к нему речь даже чуть доверительна: это не тот брак, о котором она мечтает для дочери, говорила мама Тины, по ее глубочайшему убеждению ее дочь стала жертвой незрелой юной романтичности, что же касается чувств самого Верещагина, то, что бы там ни писали в стихах и романах, она отказывается признать их красивыми. «Вы слышите меня?» – спросила она и, Верещагин ответил, что слышит. «Никакого брака, конечно, не будет,– сказала мама Тины.– Об этом побеспокоюсь я сама. А от вас я хочу только одного: чтоб вы больше не встречались с моей дочерью. Она ведь к вам ходит?» – «Ходит»,– сказал Верещагин. «Так вот, я хочу, чтоб больше не ходила».– «Интересно, кто ходит?» – спросил Верещагин. «Как кто? – не поняла мама Тины – Вы сами сейчас сказали, что она к вам ходит. Или вы хотите отказаться от своих слов?» – «Ни от чего я хочу отказываться»,– сказал Верещагин. «Я требую от вас, чтоб она к вам больше не ходила»,– сказала мама Тины уже несколько раздраженно. «Вы хотите, чтоб я передал ей ваши слова?» – спросил Верещагин. «Я хочу, чтоб она к вам больше не ходила!» – крикнула мама Тины. «Значит, я должен сказать ей, чтоб она не ходила? – спросил Верещагин.– Когда она придет, я ей так и скажу».– «Она к вам больше не придет»,– сказала мама Тины. «А как же она узнает, что ко мне не надо ходить?» – опять спросил Верещагин. «Я ей сама скажу», – «Так зачем же вы звоните мне?» – спросил Верещагин и положил трубку.
И тут же услышал новый звонок – за дверью стояла Тина, радостная и оживленная, она не знала, что мама нашла взятый ею в загсе бланк, что на ее встречи с Верещагиным наложен незыблемый родительский запрет.
«Здрасьте,– сказала она.– Я принесла вам кусок мяса. Хотите, я сварю вам суп?»
139
Верещагин в кабинете директора. Директор разговаривает с ним. «На завод «Металлодеталь» прислали электронный микроскоп, а он им не нужен»,– рассказывает директор. «А зачем тогда прислали?» – спрашивает Верещагин. «Я поясню»,– говорит директор. «Хорошая вещь,– хвалит Верещагин.– Какого года модель?» – «Они просили что-то другое, а им прислали микроскоп,– отвечает директор.– Они предлагают его нам. Мы, говорят,– вам, а вы – нам».– «А мы им что?» – спрашивает Верещагин. Директор поднимается из-за стола, почти не становясь при этом выше, и раздраженно говорит: «Ты сначала выслушай, а потом задавай вопросы. С тобой совершенно невозможно разговаривать. Ты все перебиваешь и перебиваешь».– «Давай грузовик,– говорит Верещагин,– я привезу твой электронный микроскоп. Я люблю электронные микроскопы».– «Вот чудак! – удивляется директор.– Привезут и грузчики. Дело совсем в другом. Они, понимаешь, взамен алмазы просят. Они хотят сделать алмазные резцы, и тогда перевыполнение плана у них в кармане. Как думаешь, сможем дать несколько кристалликов?» – «Смотря сколько они попросят,– отвечает Верещагин.– Если много, то – фиг. У меня на каждую выплавку протокол. И вообще я кристально честный человек».– «Грузовик я тебе дам,– говорит директор.– Только ты сначала съезди и договорись».
Он объясняет, что разговаривать Верещагин должен с главным инженером. Он даже пишет на бумажке фамилию, имя и отчество этого инженера. «Сразу же и поезжай. Нечего откладывать в долгий ящик»,– говорит он.
«Сейчас помчусь,– соглашается Верещагин.– Только сначала заеду домой и надену голубой костюм».– «Это еще для чего? – удивляется директор.– Ты и так выглядишь довольно прилично».– «Важные дела надо делать в хороших костюмах,– убежденно говорит Верещагин.– Ты никогда еще не видел меня в голубом костюме. Знаешь, как я в нем выгляжу?» – «В конце концов, это твое личное дело»,– устраняется от дальнейших споров на костюмную тему директор. «Ты не хочешь знать, как я выгляжу в голубом костюме?» – выражает удивление Верещагин. «К старости у холостяков мания переодеваться»,– говорит директор, и Верещагин уходит огорченный.
Он вдруг вспоминает профессора Красильникова, который тоже любил переодеваться, и удивляется, что так долго не вспоминал своего учителя, целых четверть века почти ни весточки, ни встреч,– надо будет написать ему, думает Верещагин.
Дома он надевает голубой костюм и стоит в нем перед зеркалом минут шесть. Затем берет перекидной календарь и зачеркивает на листочке завтрашнего дня два восклицательных знака – по обеим сторонам цифры, означающей число. Он уже месяца полтора каждую очередную субботу помечает восклицательными знаками, собираясь именно в субботу начать свой тайный эксперимент, о котором столько уже рассказывал операторам в цехе и даже Тине с Верой. По пятницам он зачеркивает восклицательные знаки на листке очередной субботы и старательно рисует их на следующем субботнем листке – через неделю.
Он наметил для начала эксперимента субботний день вовсе в пику Господу Богу, который, создав мир за шесть дней, в субботу как раз отдыхал, а потому, что в субботу отдыхал также и директор – в этот день он не являлся в институт,– начинать запретный опыт разумнее всего было, конечно, в его отсутствие. Правда, Верещагин знал, что никакого опыта он не начнет,– не с чем ему было еще начинать этот опыт, на разбросанных комнате листках пока что одна галиматья виделась ему, но субботние восклицательные знаки придавали предшествовавшим дням недели сладостный увертюрный смысл, наполняли их томящей страстью ожидания. Так ему приятней было жить – от субботы до субботы. Когда он дорисовывал на следующем субботнем листке второй восклицательный знак, зазвонил телефон. «Maматины»,– пробормотал Верещагин и угадал: звонила мама Тины, она спрашивала, почему Верещагин не прекратил встреч с ее дочерью. «Здравствуйте,– сказал Верещагин.– А вы говорили ей, чтоб она не ходила ко мне?» – «Говорила»,– ответила мама Тины. «Ну и что?» – спросил Верещагин. «Это я вас должна спросить: ну и что? – возмутилась мама Тины.– Слушайте, нам нужно поговорить серьезно. Вы бы могли зайти ко мне?» Верещагин ответил не сразу, был занят отделкой восклицательных знаков. Левый получился жирнее, приходилось утолщать бока правого. «Алло, вы меня слышите?» -• спросила мама Тины. «Я могу прийти сегодня вечером»,– сказал Верещагин. «Отлично. Я жду вас в семь часов»,– сказала мама Тины и положила трубку. Но через минуту она позвонила снова и осведомилась, знает ли Верещагин адрес. «Нет»,– ответил он и дунул на правый восклицательный знак, чтоб чернила на нем быстрее высохли. «Что же вы обещаете прийти, не зная адреса? – упрекнула мама Тины.– Я думала, Тина вам говорила». Верещагин подул еще раз и сказал: «Ничего она мне не говорила».– «Странно,– произнесла мама Тины.– Это у вас так шумит или телефонные помехи?» «Это я дую»,– сказал Верещагин. «Странно»,– повторила мама Тины и продиктовала Верещагину адрес.
Закончив разговор, Верещагин еще несколько минут постоял у зеркала. «На заводе я пробуду часа два,– прикинул он.– Два или три. А потом?»
Он решает: даже если разговор с главным инженером закончится в один час, он все равно не вернется домой, а будет гулять в голубом костюме до семи часов вечера.
«По парку»,– решает он.
140
У главного инженера только один глаз, на втором – черная повязка из красивой бархатной ткани. Верещагин стоит с той стороны, где повязка. «Давайте выкатим его на середину комнаты»,– предлагает главный инженер и наваливается плечом, но микроскоп не двигается. Верещагин прикладывает ладонь – микроскоп едет. «Поехал,– говорит главный.– Он на колесиках».– «Это хорошо,– одобряет Верещагин.– Удобно». Микроскоп величиной с русскую печь. «Японцы,– объясняет главный.– Вы можете мне не поверить, но японцы продумывают все детали лучше даже, чем американцы».– «Стоп! – говорит Верещагин и убирает с микроскопа руку, отчего тот сразу перестает катиться.– Где кресло? На фотографии еще и креслице. Я помню».– «Креслице? – удивляется главный.– Какое креслице? – Удивляться одним глазом гораздо легче, чем двумя, в одиночку вообще все легче.– На какой фотографии?» – «А вот тут»,– Верещагин вытаскивает из кармана инструкцию, написанную на сербском, португальском, турецком, албанском, словацком и малийском языках. На глянцевой обложке цветная фотография: микроскоп и перед ним маленький стульчик-креслице. «Вот,– говорит Верещагин и тычет пальцем в рисунок, потом приседает и засовывает палец в отверстие на стальной станине микроскопа.– В этой дырке,– говорит он,– торчал винт, здесь было привинчено креслице». Главный инженер пытается повезти микроскоп в одиночку, но у него не получается. «Обойдетесь без креслица»,– бурчит он. «Без креслица! – восклицает Верещагин.– А на чем сидеть? Я возьму микроскоп только в комплекте».