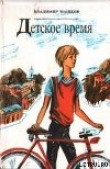Текст книги "ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ"
Автор книги: Владимир Краковский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 33 страниц)
…Верещагин мчался обратно на Землю не чуя ног: ура, нас перевели в класс «эпсилон»! Но директор института, этот несчастный Пеликан, недоволен: Верещагин не появлялся на работе целых два дня. «Мне приходилось самому ходить в цех и подписывать акты,– говорит он.– Где ты пропадал?»
Никто не знает, что они уже в классе «эпсилон». Никто не знает, что это благодаря его, Верещагина, заслугам они уже в классе «эпсилон».
Ура, мы в классе «эпсилон»!
146
Тина куда-то собирается. Она надевает юбку из шерстяной ткани. Эта шерстяная ткань очень дорогая, но юбка такая короткая, что стоит дешево. У Тины две таких юбки. Одну она надевает в важных случаях, а другая лежит про запас.
Мама Тины наблюдает за дочерью. Она видит, что Тина надевает ту юбку, которая про запас. Тина видит, что мама наблюдает за нею, но до поры до времени делает вид, что не видит. Когда она подходит к зеркалу, чтоб причесаться, то решает, что пора увидеть. «Что ты на меня так смотришь?» – спрашивает она маму.
«Характер,– думает мама.– Я знаю, куда она собирается».
«Куда ты собираешься?» – спрашивает она.
Тина пожимает плечами. При этом она продолжает расчесывать волосы. «Какие у нее хорошие волосы!» – думает мама, и в ней вспыхивает ненависть к Верещагину.
«Прогуляюсь»,– отвечает Тина.
«Он скользкий, мерзкий тип! – внезапно кричит мама.– Он здесь так шутил, будто ничего не произошло. У него самообладание негодяя!»
Тина перестает расчесываться; впрочем, больше и не надо, волосы прекрасно уложены. «Он шутил? – спрашивает она, и глаза ее становятся круглыми от изумления.– Ты с ним разговаривала?»
«Никуда ты не пойдешь»,– говорит мама.
«Ты с ним разговаривала?» – повторяет Тина.
«Я запру дверь!» – кричит мама.
«До свидания»,– говорит Тина и уходит. Спина у нее неестественно прямая.
«Нельзя ей потакать,– думает мама Тины и вспоминает рассказ соседки об одной юной девушке, почти девочке, десятикласснице, чуть ли не из дома напротив. Мать ей потакала-потакала, а потом нашла в кармане белого школьного передничка пачку презервативов. «Зачем они тебе?» – спросила мать. «Я их надуваю»,– ответила дочка и цинично усмехнулась.
«Господи!» – думает мама Тины. Она сидит на том стуле, на котором два дня назад сидел Верещагин, еще им выступавший на Межгалактическом Конгрессе. Она сидит на том же стуле, сложив на коленях руки, с го-(мч'гным лицом – задумалась. А на стене висит фотография ее матери, Тининой бабушки – тоже на стуле, точно тек же сложены на коленях темные крестьянские руки, и лицо горестное. «Если сейчас не пресеку, потом всю жизнь буду себя корить»,– думает мама Тины.
147
Верещагин наклоняет ладонь, серые кристаллики сыплются на чистый листок писчей бумаги. Главный инженер прихлопывает их своей ладонью. «Они?» – спрашивает он, ликуя. «Три штуки, как и договорились»,– говорит Верещагин. «Теперь план у меня в кармане,– говорит главный инженер и убирает ладонь, чтоб полюбоваться кристалликами.– Мы выполним его к середине декабря.– На листке бумаги только два кристаллика, главный инженер бледнеет. Он выгибает над листком ладонь, с нее отклеивается и падает третий.– Мы выполним план к середине ноября,– говорит он, розовея.– Сверла – наше узкое место, вам этого не понять».– «Понять,– не соглашается Верещагин.– Какую продукцию вы делаете? Что завод выпускает?» – «Мы делаем стальные кубики с дырочкой посередине,– говорит главный инженер.– Зачем – не спрашивайте, у нас засекреченный завод, это государственная тайна».– «Вы давали подписку? – спрашивает Верещагин.– Я знаю одного человека, он тоже давал подписку и молчит как рыба. Даже родному отцу…» – «Не давал я подписки,– перебивает главный инженер.– Я сам не знаю, для чего эти кубики. Знаю только, что деталь важная».– «Кубик с дырочкой – что же в нем важного?» – спрашивает Верещагин. «Сам кубик обычный,– отвечает главный.– Он деталь в сложной машине. Нам, понимаешь, присылают кубик, мы сверлим в нем дырочку и отсылаем дальше. А все остальное – дело не наше».– «Ага,– говорит Верещагин.– Теперь ясно. Такой огромный завод сверлит кубики и – все?» – «Могучая страна,– объясняет главный. – Масштаб. Этих кубиков – эшелоны. Нас, правда, ругают. Вы, говорят, хоть бы для блезиру делали какой-нибудь ширпотреб. Какие-нибудь сковородки или вешалки… Три сверла с алмазными наконечниками, я о таком я только во сне мечтал».– «Это не алмазы,– говорит Верещагин.– Это «Толоконный лоб».– «Какой лоб? – удивляется главный.– Мы же договаривались – алмазы».– «Толоконный лоб» – наше внутреннее наименование,– поясняет Верещагин.– Совершенно новая штука. В шесть с половиной раз тверже алмаза. По шкале Мооса». «С ума сойти! – восхищается главный.– О таком я даже во сне не мечтал».– «Разве во сне мечтают? – удивляется Верещагин. Он специалист по снам.– Во сне смотрят – и все. Разве вы мечтаете?» – «Документы на микроскоп я оформил,– говорит главный.– Деньги переведете на наш счет в банке. Не распить ли нам по такому случаю бутылочку?»
Он достает из кармана огромный сверкающий ключ и отпирает им сейф. «Первый бокал за досрочное выполнение плана,– говорит он, наливая.– Хорошо вам, ученым, вы умничаете, витаете в облаках, а я должен думать о плане. Я всю жизнь мечтал витать в облаках».
Они выпивают сначала за выполнение плана к середине ноября, потом – за перевыполнение к концу октября и в третий раз – за премию по итогам года. «Я с детства мечтал стать изобретателем,– говорит главный,– но меня подвела вот эта стерва»,– он ткнул пальцем в бутылку, отчего та упала и покатилась через весь длинный деловой стол – по чистым и исписанным листкам, по приказам и договорам, инструкциям, указаниям, графикам,– ни главный инженер, ни Верещагин не остановили ее, не подхватили, не подняли, не проявили заботу – ни о ней, ни о бумагах на столе, так они поступили потому, что после трех тостов: за выполнение плана, за перевыполнение и премию, бутылка стала пустой и могла катиться теперь сколько угодно и куда угодно, и любой чертовой матери, тем более что главный инженер и в мыслях не держал отнести ее в пункт приема стеклянной тары и получить за это вознаграждение.
«Зато у меня внук изобретает, весь в деда,– говорит он.– То, что не удалось мне, удастся ему. В этом глубокий смысл преемственности поколений. Ему всего шесть лет, а он творит чудеса. Он, например, изобрел игрушку…»
Главный инженер хватает листок с кристалликами «Толоконного лба», неверной рукой рисует на нем чертеж, сует Верещагину под нос: «Соображаешь?» – кристаллики при этом катятся по столу врассыпную – кто куда. «Соображаешь?» – спрашивает он.
Верещагин кивает, не глядя. Он уже достаточно пьян, чтоб постичь смысл любого чертежа без визуального контакта с ним. «Соображаешь?» – допытывается главный. Верещагин снова кивает – с грустью. Он так пьян, что одного-двух кивков ему мало, он грустно кивает в третий, четвертый и в пятый раз. А главному инженеру мало трижды спросить: «Соображаешь?» – он спрашивает тоже в четвертый, а затем и в пятый раз: «Соображаешь?» Тогда Верещагин начинает кивать безостановочно, как китайский болванчик. «Еще наплачется,– говорит он, имея в виду внука главного инженера. Кивать он не перестает.– Еще как наплачется. В молодости я тоже изобретал детские игрушки. Это очень тернистый путь. Трудно найти другую область человеческой деятельности, где было бы столько консерватизма и застоя. Он еще наплачется».
Главный инженер сильно огорчен за внука. «Неужели и там консерватизм?» – удивляется он. «Невероятный! – говорит Верещагин.– Мне было девятнадцать лет, когда я изобрел замечательную детскую игрушку. Теперь мне за сорок, я кандидат наук, работаю в крупном исследовательском центре, но до сих пор считаю эту игрушку своим высшим научным достижением. Я храню ее чертежи как зеницу ока. Бумага пожелтела, чернила выцвели; правда, это были послевоенные чернила – очень низкого качества. Мне не удалось ее внедрить».
«Я не позволю, чтоб с внуком поступили так же,– говорит главный и ударяет кулаком по столу.– Что за игрушку изобрели вы, какой негодяй преградил вам путь?»
Верещагин вскакивает, в волнении прохаживается по кабинету. «Извольте, – говорит он, садясь на прежнее место», – Я расскажу вам о своей игрушке, я вам начерчу ее» И протягивает руку к листку бумаги, один из кристалликов лежит на нем, в свое время он был сброшен с этого листка главным инженером, но потом, когда тот, вскричав: «Не позволю!», стукнул по столу кулаком, кристаллик подпрыгнул, вернулся на прежнее место, теперь же Верещагин вознамерился его сбросить и, может быть даже совсем на пол, и тогда кристаллик потерялся бы навеки, однако судьба хранит его: едва Верещагин заносит над листком руку, как раздается громкий предупреждающий звук-взрыв, а может быть, выстрел. Beрещагин с главным инженером вздрагивают. «Что это?» – спрашивает Верещагин. «Выстрел»,– говорит главный. «Скорее взрыв»,– не соглашается Верещагин, и оба смотрят под ноги, так как выстрел этот или взрыв прозвучал снизу. «Подумаешь,– говорит главный,– бутылка, понимаешь, чертите, я весь внимание».
«Толоконный лоб»! – вдруг замечает Верещагин и тычет пальцем в лежащий на листке кристаллик.– Один». Они с главным инженером начинают шарить по столу и находят все три. «Я запру их в сейф,– говорит главный и запирает в сейф.– Чертите, я весь внимание».– «Я лучше расскажу на словах»,– говорит Верещагин, грохот упавшей бутылки почему-то заставил его переменить решение.
Он рассказал главному о своем волчке, о разновеликих секторах в семь цветов радуги, о хитрых дырочках под сложнорассчитанными углами, о том, какая удивительная красота рождалась от сплетения цвета и звука; впрочем, сказал Верещагин, не в девятнадцать лет это было, ему уже тридцать тогда исполнилось, если не больше, но чернила все равно выцвели, высококачественные чернила фирмы «Радуга», ведь столько, черт возьми, лет прошло с тех пор, как он создал эту свою замечательную игрушку, которая могла бы оказать огромное эстетическое воздействие на подрастающее поколение, но, увы, чертежи желтеют и ветшают, он ходил с этим волчком на фабрику игрушек,– если бы только с чертежами, а то ведь именно с самим волчком. Да, да! Верещагиным был изготовлен действующий образец, против образца, казалось бы, не попрешь, если он действует, но директор фабрики игрушек попер,– ведь действует, как же отрицать? – но директор фабрики отрицал, посмеялся над верещагинским замыслом, цинично пренебрег интересами младенцев и вдохновением изобретателя. «О чем думал этот негодяй?» – закричал главный инженер. «О чем? – еще громче закричал Верещагин и захохотал сардоническим смехом.– О чем может думать начальствующая задница?» И совсем в раж вошел, руками размахался, вот, мол, какой тернистый у изобретателей детских игрушек путь, совсем опьянел, разбушевался Верещагин, а главный инженер, подавленный злоключениями собеседника, наоборот, приуныл – да так сильно, что, когда Верещагин, не замедляя словоизвержения, с юношеской гибкостью наклонился, схватил пустую бутылку, поставил ее на стол, а она не устояла, снова покатилась по разнообразным документам и, упав, произвела такой на этот раз оглушительный звук, какой слышит только самоубийца, стреляющий себе в ухо,– главный инженер даже не вздрогнул. Он тоскливо смотрел в предлежащее пространство, примеривал верещагинскую судьбу на своего малолетнего внука и бледнел от выпитой водки и протеста. «Это не должно повториться,– сказал он наконец.– Не должно! Иначе какой к черту прогресс, если все опять повторится».
148
У меня один знакомый есть, так он как-то в Париж ездил, ну и вздумал прихватить с собой шестилетнего сына: пусть, мол, посмотрит Нотр-Дам, Эйфеля, Гранд Опера, то-се; толчок, мол, к развитию, пусть с детства – одним словом, выхлопотал разрешение, свозил. С тех пор прошло десять лет, сыну теперь шестнадцать, ему о Париже и не заикайся, нос дерет, что вы, мол, мне по книжкам рассказываете, я сам там бывал, а ведь ничего помнит; что ты помнишь, спрашиваю, ничего же помнишь; помню, говорит, и мнется, наконец выдавливает – тетеньку с собачкой помнит, по улице шла, в тоненьких таких брючках, собачка, разумеется… Я ему говорю: эх ты, балда, разве Париж это тетенька с собачкой в брючках, а мать его вмешивается: это, говорит, ты в Симферополе видел тетеньку с собачкой в брючках, в следующее лето, все у тебя слилось, смешалось, так я ему говорю: слушай, ты, пацан, я книжку скоро заканчиваю – о Верещагине, так ты ее, пожалуйста, не читай сейчас, повремени пока, а то она у тебя сольется, спутается – с тетенькой, с собачкой, с розовенькими брючками, перечитывать потом не захочешь, скажешь: «Надоели вы мне со своим Верещагиным, да читал я уже, читал!»
149
Один человек мечтал найти миллион. Он так сильно вбил себе в голову этот миллион, что когда нашел кошелек с пятью тысячами, то даже плюнул с досады. Потому что думал, там, может быть, миллион.
Этому человеку вообще не везло всю жизнь. В другой раз, например, нашел на дороге золотой браслет, усыпанный крупными драгоценными камнями. Он сначала очень обрадовался, потому что подумал, вдруг это изумруды, а изумруды очень дорогие, как раз на миллион набралось бы, но оказалось – хризолиты. Он даже зубами заскрипел, когда ювелир сообщил ему об этом.
Буквально через день идет по улице, сапфир валяется. Но он даже поднимать его не стал. Ну, на сколько может потянуть сапфир, даже если с кулак величиной? Отошел человек подальше от сапфира и не выдержал, разрыдался. «Ну и невезучий я,– плачет,– человек!»
Что правда, то правда, в везении ему судьбой было отказано. И она ему об этом издевательским способом давала понять: то янтарное ожерелье бросит на его пути, то серебряную ложку. А бумажники – с тысячью или с тремя тысячами рублей, так очень часто. Однажды он три бумажника в один день нашел, и в каждом по тысяче двести. И все три раза сердце его сначала радостно вздрагивало: вот он, миллион.
Но увы!
Несчастный человек, одним словом. Я даже не знаю, зачем о нем написал. Ведь несчастных огромное множество. Счастливых – тех единицы, о них действительно стоит писать, так как счастливость – уникальное явление. А несчастных – большинство. Ходят они толпами по планете и, что ни найдут – плачут горькими слезами.
150
Между Тиной и ее мамой снова происходит разговор. Похожий на предыдущий, но не во всем. Вот такой.
«Больше встречаться ты с ним не будешь».
«Буду».
«Не будешь. Он мне не понравился».
«Он очень хороший».
«Он неприятный, скользкий».
«Просто он вспотел. Представляешь, как он волновался, когда шел к тебе?»
«Он старый стреляный воробей. Ничуть не волновался. Шуточки и ложь. Куда ты собираешься?»
«Сама знаешь куда».
Вечер обещает быть прохладным. Тина у зеркала – надевает свой самый красивый свитер.
«Никуда ты не пойдешь»,– повторяет мама. Тина отвечает: «Я уже взрослая. Я уже сама знаю, что мне делать».
Мама выходит в соседнюю комнату и коротко плачет. «Глупости,– говорит она себе и вытирает слезы.– И ее спасу. Когда три года назад она заболела фолликулярной ангиной, я шесть ночей не отходила от нее. Соседи удивлялись моей выносливости. Когда нужно, я умею все».
Она тоже надевает свитер. Тоже красивый – только у Тины ярко-красный с синими полосками, а у мамы блекло-сиреневый и без полос, но тоже из чистой шерсти И даже, пожалуй, выше качеством.
«Я ухожу на дежурство,– говорит она, входя к Тине. – А тебя запру. Да, да, запру. Ты ведешь себя неприлично. Я вынуждена прибегнуть к крайней мере. Через месяц ты скажешь мне спасибо».
Она идет к двери. «Мамочка! – кричит Тина и бежит за нею.– Не надо! Не надо! – дверь захлопывается, дважды поворачивается ключ.– Я же обещала, он будет ждать! Не запирай меня! Не смей!»
151
Автор этих строк однажды прогуливался днем по парку и случайно услышал обрывок разговора двух тоже гуляющих мужчин средних, как и он, лет. «Погода нынче просто чудо. Такого голубого неба я с детства не видел», – это один мужчина произнес. А другой: «Я вчера в лес ходил, ягод набрал полный портфель».– «Да,– сказал первый,– лето замечательное. Но ты такая сволочь, что я не устану повторять это до конца своих дней».– «Не я сволочь,– возразил второй.– Это ты – дерьмо вонючее».
Значит, они и перед этим вели серьезный разговор с выяснением моральной стоимости каждого, и, видимо, так долго говорили на эту тему, что устали. И тогда один из них взял тайм-аут: погода, мол, нынче просто чудо, чтоб, передохнув, с новыми силами обличать собеседника.
Второй, видать, тоже обессилел: полный, говорит, портфель ягод набрал…
Автор уже неоднократно брал такого же рода тайм-ауты. Сейчас он расскажет еще одну притчу, прямого отношения к повествованию не имеющую.
152
Один дурак поднял на дороге кирпич, принес в дом и говорит: «Я нашел кирпич».– «Не нашел, а просто поднял»,– возразили ему. «А почему нельзя сказать нашел?» – спросил дурак.
«Потому что то, чего много, не может считаться найденным»,– ответили ему.
Дурак учел это и на следующий день принес в дом хрустальную вазу. «Я нашел хрустальную вазу»,– сказал он и объяснил, что ваза стояла в чьем-то открытом окне и таких больше нигде нет. «Не нашел ты ее, а украл»,– возразили дураку. «А почему нельзя сказать нашел?» – спросил он.
«Потому что то, что принадлежит другому, не может считаться найденным»,– ответили ему.
Дурак учел и это. На следующий день он принес в дом бабочку. Она била крыльями об его пальцы, но дурак держал ее крепко. «Я нашел ее на лугу,– объяснил он.– Не украл и не поднял».– «Ты ее поймал»,– возразили дураку. «А почему нельзя сказать нашел?» – спросил он.
«Потому что то, что рвется из рук, не может считаться найденным»,– ответили ему.
Дурак надел свои лучшие одежды и ушел из дому. Он вернулся через три недели с девушкой, прекрасней которой нет на свете. Она влюбленно смотрела дураку в глаза, и ресницы ее вздрагивали от восторга. «Наконец-то я нашел,– сказал дурак.– Не украл, не поднял, не поймал. Я нашел ее».– «Ты обольстил ее», – возразили дураку. «А почему нельзя сказать нашел?» – спросил он.
«Потому что то, чего добиваешься в лучших одеждах, не может считаться найденным»,– ответили ему.
Дурак надулся от умственных усилий и покраснел от досады. Он был упрям и смел, поэтому, пристегнув к поясу меч и взяв в руки копье, отправился в путь, оставив дома родственников, друзей – у дураков тоже есть друзья – и красавицу. Он не вернулся ни через месяц, ни через год. Ни через два, ни через три. Красавица сидела в углу, смежив веки, так как не на кого ей было влюбленно смотреть. На четвертый год обеспокоенные родственники и друзья – у дураков их даже больше, чем у остальных людей,– отправились на поиски. Они прошли шесть континентов и переплыли двенадцать морей, побывали в тридцати семи государствах и семидесяти трех городах. И вот на краю огромной пустыни, посреди красных песков они увидели лежащего дурака. Из груди его торчала черная стрела.
«О! – вскричали родственники и друзья.– Ты поднимал, воровал, ловил, обольщал, и вот – о, горе нам! – наконец, нашел! Смерть!»
Дурак лежал бездыханный, недвижный и немой.
«Он никогда больше не раскроет свои уста,– рыдали родственники и друзья.– Он даже не спросит нас, почему о смерти можно сказать нашел!»
«Почему о смерти можно сказать нашел?» – спросил дурак.
Родственники и друзья обрадовались, подняли дурака, отвели его домой и все началось сначала.
153
Тина распахивает окно и смотрит вниз. Внизу – лужа. Июльское солнце бросает в нее столько лучей, что отражать всех их обратно для лужи изнурительный, напряженный труд, на пределе. Лужа сверкает неистово, зло; кажется, вот-вот не выдержит, закатит истерику, будет взрыв.
Рядом с нею, на ее краю – мальчик лет двенадцати. Сверкание захлестывает его, он почти невидим. «Мальчик, – говорит Тина.– Если я попрошу тебя позвонить – позвонишь?»
Вера уехала в пионерский лагерь, Тина заперта и одинока. Больше попросить некого.
Мальчик смотрит вверх: солнце стоит над головой, Тину он не видит. Они невидимы друг для друга и разговаривают как в темноте. «Куда тебе? В «Скорую помощь?» – «В одно место. Я тебе выброшу бумажку с номером». – «И двушку выбрось. У меня нет».
Тина бросает – двушку, завернутую в листочек с номером телефона. «Подожди,– говорит она.– Я еще две выброшу, на всякий случай».– «Бросай одну»,– советует мальчик.
Она думает так: случай – это то, что бывает один раз. Значит, и монета для случая должна быть одна. «Я брошу все-таки две,– говорит Тина.– Мало ли что». Она бросает две двушки. Одну мальчик ловит из темноты солнечного сверкания на лету и потом целый день испытывает от этой нечаянной ловкости горделивое чувство, другая падает в мокрую и мягкую землю возле лужи, не катится, не подпрыгивает, а издает короткий сочный звук умелой пощечины и тут же принимается неистово сверкать – как лужа и как солнце. Теперь их трое.
Мальчик выковыривает монету из грязи, обтирает о штаны и идет к телефонной будке. «Скажи, что я не смогу прийти!» – кричит вслед Тина. «Кому сказать? – мальчик останавливается.– Как его фамилия? Вдруг не тому скажу».– «Тому, тому»,– говорит Тина, и мальчик продолжает свой путь.
При этом он насвистывает песенку, услышанную час назад из транзисторного приемника, который нес мимо дома какой-то парень. А может, и девушка – мальчик не смотрел, он слушал. Это была третья новая песенка за сегодняшний день. Две предыдущие он услышал из открытых окон чужих квартир. И все три насвистывал. Стоило ему услышать какую-нибудь мелодию, как он тут же принимался ее насвистывать. Такой уж был мальчик. А если только обрывок мелодии, то начало и конец он сочинял сам.
На редкость способный в музыкальном отношении был мальчик.
Он шел к телефонной будке и насвистывал. У него но было никаких других дел, кроме как выполнять чужие поручения и сочинять песни.
154
Верещагин решает: сначала он вырежет мундштук, он давно собирался. Быстренько вырежет мундштук, а потом сядет за повторные расчеты, от которых его тошнит. Правда, должна прийти Тина, но он не даст ей сидеть больше получаса, выпроводит и сядет за повторные расчеты, без которых, хоть и тошнит, обойтись нельзя. Все, что можно проверить предварительно, нужно проверить предварительно. Семь раз отмерь, один – отрежь. У него один патрон в патроннике, один шанс в жизни, все, что можно проверить предварительно, нужно проверить предварительно.
Но сначала он вырежет мундштук. Он может это себе позволить, потому что давно мечтал. У него с незапамятных времен приготовлена палка кизилового дерева, вчера в мастерской института он просверлил в ней сквозную дыру и обточил поверхность. Теперь остается нанести ножичком разные красивые узоры – своей фантазией, на свой вкус! – и можно засесть за повторные расчеты, от одной мысли о которых тошнит. Если бы Верещагина подпустили к – хоть плохонькому! – компьютеру, он за час все сделал бы. Но к компьютеру не подпускают, что ж, значит, вручную, авторучечкой, с помощью таблицы умножения, таблицы логарифмов, таблицы Вейбула, таблицы Лопиталя. Бухгалтерская работа! Причем второй раз. Верещагина всегда тошнит от всего, что второй раз. Если б он делал второй мундштук, его тоже тошнило бы. Но мундштук он делает впервые в жизни.
Быстренько вырежет разные красивые узорчики и примется за повторные расчеты, от которых тошнит.
Но узорчики вырезаются медленно. Нет, нож не тупой, – как бритва, волос режет на лету, но, во-первых, пришлось потратить полчаса, чтоб так его наточить, а во-вторых, проклятое кизиловое дерево. Впрочем, это, конечно, очень хорошо, что оно такое твердое, зачем Верещагину мягкий мундштук? – но работа продвигается страшно медленно.
Верещагин прикидывает, что возиться ему с этим до позднего вечера, а с расчетами не успеть.
Поэтому он бросает мундштук. Он доделает его в другой раз, сейчас нужно какое-нибудь легкое кратковременное развлечение, лучше всего такое, чтобы не просто отдохнуть, но и возбудить мозг перед важным делом повторных расчетов – хоть Верещагина от них и тошнит, но все же это творческая работа, ни один бухгалтер, конечно, не справится, да что бухгалтер, не всякий кандидат наук, здесь нужно быть хорошим математиком, с острым умом, а чтоб ум был острый – необходимо соответственным образом его подготовить,– точно так же, как час тому назад Верещагин точил нож, теперь он должен заточить свой ум – на оселке какого-нибудь приятного развлечения.
Одним словом, он должен посидеть у приемника и попытаться выловить из эфира какую-нибудь хорошую мелодию. Это всегда приятно возбуждает.
Большущая высококачественная «Эстония-стерео», после того как Верещагин грохнул ею об пол, все еще в ремонте, но в запасе есть маленький, тоже вполне приличный, во многих отношениях даже лучше, транзисторный приемничек рижского завода. Вот за него и надо сесть.
Конечно, жаль, что мундштук, как средство затачивания ума, отпадает из соображений нехватки времени. Верещагин ставит на колени транзисторный приемничек. При этом он вспоминает, что в последние дни что-то не слышно передач на длинных волнах – молчат длинные волны, будто вымерли все станции, какой-то пустяковый дефект, Верещагин нутром чует, что пустяковый; он, к сожалению, не всегда верит нутру, и, между прочим, себе во вред,– нутру надо верить: предчувствиям, ощущениям, беспочвенным догадкам, он говорит себе так обычно постфактум, после того как не поверил, а потом, задним числом, убедился, что поверить надо было бы.
На этот раз он не позволяет сомнениям взять верх: нутро подсказывает, что дефект пустяковый, устранение его займет не больше часа – вот он сейчас и проверит свое нутро.
Он кладет приемничек на колени шкалой вниз, отвинчивает два, три, четыре винта, снимает крышку. Ну-с, с чем мы имеем дело? Красные, синие, желтые провода, транзисторы, резисторы, конденсаторы – с первого взгляда кажется, что во всем этом хозяйстве вовек не разобраться. Но уже через минуту туман рассеивается, каждая деталь обретает свой смысл в общей причинно-следственной системе… Так и есть – пустячок! Не подвело нутро, проводок отпаялся – магнитная антенна сама по себе, длинноволновой контур сам по себе, связь между ними нарушилась. Припаять – и все дело.
Верещагин смотрит на часы: десять минут – всего-то! Здорово он!
Но толстым жалом паяльника трудно пролезть к нарушенному контакту, надо отвинтить вот эту панельку, что Верещагин и делает… Все в порядке: проводок припаян, контакт восстановлен, радиостанция «Юность» вовсю горланит свои бодрые песни, остается только привинтить на старое место панельку, крышку – жалко даже, что вес кончилось так быстро и теперь не отвертишься от повторных расчетов, от которых тошнит.
Верещагин завинчивает один винтик, второй… Нет, второй соскальзывает с резьбы и падает внутрь. Верещагин переворачивает приемник полностью вниз, сдвигает колени, иначе винтик может упасть на пол, закатиться и какую-нибудь щель между половицами, потом его год ищи,– Верещагин хитер, его не проведешь, он колени вдвинул, на них винтик и валится…
Но – не вываливается. Верещагин внимательно осматривает колени, нет винтика, да и смотреть нечего, слышно, как он там внутри приемника болтается, перекатывается, громыхает, а выпадать не хочет. Верещагин начинает прозревать размеры несчастья, перед его глазами встает та ночная история с «Эстонией-стерео», опять винтик, это рок какой-то, а не винтик,– Верещагин рычит на приемник, стучит по нему, вскакивает и трясет изо всей силы, ему наплевать уже, что винтик упадет на пол, лишь бы вывалился, проклятый!
Но винтик издевается над Верещагиным. Он грохочет внутри транзисторной коробки, не дает усомниться в своем существовании. «А я вот где!» – как бы дразнится, затеял с Верещагиным унизительную для того игру в прятки.
Верещагин устал трясти приемник, вырезывание замысловатых узоров на мундштуке кажется ему теперь легким и не таким уж времеемким делом, он бросает приемник на диван, хватает нож – не для того, чтобы вспороть брюхо ненавистному аппарату, собирается продолжить вырезывание узоров на мундштуке, ему даже привиделся – внутреннему взору – довольно симпатичный орнамент.
Он вонзает в жесткую плоть кизилового дерева нож, но смотрит при этом на приемник: придется отвинтить плату, извлечь из коробки часть внутренностей, до проклятого винтика иначе не добраться, но это потом; может быть завтра, пока же он повырезает с полчасика узоры и сядет за повторные расчеты, от которых уже не тошнит.
Но все-таки винтик надо извлечь! Верещагин должен сделать это немедленно, иначе он тряпка, отступала, пораженец, валенок, беспринципная душа! Бросается нож, хватается отвертка, отвинчивается плата: чего четыре – опять четыре! – винтика, но того, злополучного, не видно. Верещагин снова трясет коробку: громыхает, негодяй, хохочет над ним, спрятался за второй платой, есть там такой укромный уголок, нужно вторую отвинчивать.
«Это же на сутки!» – прикидывает Верещагин и убеждает себя, что никакой беспринципности не будет, если отложить расправу с винтиком на завтра. Он снова принимается за узоры на кизиловом дереве, приемник лежит на подушке, разноцветные его кишки тянутся по всему дивану.
А кизиловое дерево как железо. В Древнем Шумере из него делали лемехи для плугов, Верещагин где-то читал об этом, приходится констатировать, что с тех времен древесина не помягчела – нож все время соскальзывает, норовит вонзиться в руку, один раз даже немножечко вонзается, выступившую капельку крови Верещагин слизывает молниеносным движением языка, как хамелеон божью коровку, ему некогда, он вырезает узенькую канавочку, сам еще не зная, началом какого рисунка эта канавочка будет, он попозже придумает, само придет в голову, как пить дать придет…
В этот момент он вдруг обнаруживает, что у него изо всей силы сосет под ложечкой, он, оказывается, давно уже голоден, а дома – надо же! – ничего нет, только хлеб да пачка овсяных хлопьев, придется варить кашу, причем начинать надо немедленно, потому что через четверть часа станет невтерпеж, он взвоет от голода, он себя знает – еще как взвоет.
Верещагин бросает на диван мундштук, но нож не бросает, он пригодится ему на кухне, чтоб отрезать кусок масла для каши – вот и масло есть да еще сыр, черт возьми, полон дом еды, а он было приуныл, только времени мало, в этом вся беда,– он ставит на газ кастрюлю с водой и, пока она закипает, лихорадочно отвинчивает вторую плату, но там, оказывается, еще винт под ключ, а такого ключа у Верещагина нет, он бросает в воду овсяные хлопья, берет в рот мундштук – пожалуй, можно вывернуть зубы и челюсть, если не придерживать его руками, метровой почти длины – это кизиловое дерево как свинец, надо бы сточить больше, потоньше сделать; стенки мундштука, из кухни доносится громкий треск Верещагин мчится туда с мундштуком в наполовину вывороченных зубах,– это закипевшая вода с хлопьями вспенилась и побежала через край – огонь залит, газ с шипением рвется из мокрой форсунки, дым, вонь. Верещагин бежит к газовой заглушке, при этом его метровый мундштук натыкается на стену, хотя Верещагин чудовищно далек от нее, кизиловое дерево всаживается в глотку. «Что за проклятая жизнь!» – кричит Верещагин, и в этот момент в дверь звонят.