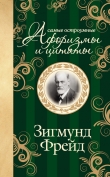Текст книги "Загробный(СИ)"
Автор книги: Владимир Круковер
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
В квартире я захотел курить, пошарил по карманам, вытряхнул табачную пыль. Идти в гастроном за сигаретами очень не хотелось.
– Ты мой брат, – сказала Маша. Она стояла в прихожей, смотрела, как я чертыхаюсь. – Ты мой брат, наверное. На!
Она протянула мне на ладошке пачку "Примы".
– Спасибо, – буркнул я, – вы очень предупредительны, сестренка.
Странная двойственность беспокоила меня в последнее время. Я уже не сомневался, что в тощей девчонке кроются целые мироздаиия, что форма ее – частность, скафандр, что и не человек она. Но девчонка вела себя опять, как все дети, и не помнила ни о волке, ни о прыжке из машины. Ресторан, прогулки на такси, полковник – все это помнила, а больше – ничего. Она совсем оттаяла, охотно играла с ребятами во дворе, прибегала голодная, со свежими царапинами на коленках. Вечером заставляла меня читать вслух ее любимые книжки, охотно капризничала, будто отводила душу за прежние ограничения, стала невозможной сладкоежкой, в общем, наверстывала детство, засушенное болезнью.
Впрочем, порой я не усматривал никакой фантастики в ее поступках. В свое время я насмотрелся в дурдоме всякого. Возможности человека необъятны, а психи творят чудеса почище йогов. Помню мальчика, который не знал усталости. Скажешь ему, чтоб отжимался, – отжимается от пола сто, двести раз подряд, потом потрогаешь мышцы – не напряжены, да и дыхание ровное. Видел больного, не чувствующего боли. Он мог положить руку на раскаленную плиту и только по запаху горелого мяса узнать об этом. В остальном он был совершенно нормален. В армии мой товарищ поднял полутонный сейф, упавший ему на ногу...
Сложнее было с волком. Может, она просто была в телепатической, мысленной связи с этим дряхлым волком, и он постоянно давил на ее сознание. Смерть прервала эту связь, освободила ее мозг.
Контакт с девчонкой не проходил для меня бесследно. Я был в постоянном напряжении и в то же время как-то размяк, "одомашился", не думал о том, что деньги летят слишком быстро, а новых взять негде, о том, что меня наверняка ищут и менты, и воры, и тот Седой... Да и о новом паспорте перестал заботиться, только лишь переклеил фотографию на на паспорте Демьяныча. А печать не навел новую. Грошь цена такому паспорту. А, ведь, по нему я мог продать или обменять трехкомнатную квартиру. Квартира в неплохом районе Москвы стоит порядочно.
Я чувствовал, как спадает с меня шелуха уголовщины, обнажая не сгнившее еще ядро мечтательного мальчишки, которому не суждено стать взрослым даже в облике матерого афериста. Полоса отчуждения лежала между мной и обществом всегда, но сейчас в океане одиночества нашелся эфемерный островок, где я становился самим собой.
Изменились даже речь, повадки, сон перестал быть только необходимостью, но стал и удовольствием, книги опять заставляли переживать.
Мне не было скучно в этом микромире, где были только я, она и выдумки писателей. Но вся эта идиллия уводила меня к пропасти. И в душе я тосковал по замкнутой ясности следственных камер.
И тут приехал хозяин. Вырвался на денек-другой, совместил служебное с личным.
Я как раз сибаритствовал на диване с томиком Фенимора Купера, крестного отца моего идиотского прозвища, когда он открыл дверь своим ключом.
– Где Маша? – спросил он, едва поздоровавшись.
– Во дворе играет.
– Как играет? Одна!?
– Почему одна? С ребятами.
Он был поражен:
– Что вы мне тут говорите ерунду. Она не умеет играть с людьми...
Он нервно закурил.
Хлопнула дверь, в комнату ворвалась Маша.
– Дай десять тысяч, мы на видики сходим.
– Поздоровайся, – упрекнул я.
– Здравствуйте, дядя, – обернулась она, – вы извините, меня ждут ребята... Ой, папа!
Я ушел на кухню.
...А вечером он удивительно быстро опьянел, тыкал в шпроты вилкой и плакался, хая жену, потом вскидывался, кричал восторженно:
– Нет, не может быть, я наверное, сплю, я же сам ее к врачам водил лучшим, она же дикой росла, с отклонениями.
Приходила Маша, он лез к ней с неумелыми ласками, Маша терпеливо говорила:
– Папа, ты сегодня пьяный. Я лучше пойду, у меня там книжка недочитанная.
– Не признает отца, не радуется его приезду,– он обращался ко мне, оставляя за мной старшинство в собственном доме.
Haконец он угомонился, лег спать. Я прибрал стол, заварил чай. На кухню зашла Маша, молча забралась ко мне на колени.
– Он скоро уедет, да? Ты сделай так, чтобы он поскорее уехал...
– Маша! – укоризненно посмотрел я на нее и пересадил на табурет. – Ведь он твой отец, как ты можешь так говорить? Он любит твою мать, любит, по-своему, тебя. Ты должна понять его, пожалеть иногда... А сейчас он в командировке, через несколько дней уедет. Ты уж не обижай его, ладно?
Утром этот большой, неуверенный в себе человек вдруг заявил:
– Не поеду сегодня в контору, проведем весь день вместе!
Произнося это, он обращался к дочери, а смотрел на меня. И мне ничего не оставалось, кроме как сказать:
– Конечно, погуляйте с Машей... Ты, Маша, надень синий костюм, на улице прохладно. А я полежу, почитаю. Что-то ревматизм прихватил.
Выпроводив их, я врезал стакан коньяку и уехал в Домодедово.
Толчея аэропорта успокоила меня. Я бродил по залу ожидания, наметанным глазом определяя своих возможных клиентов, затем посидел в буфете, съел порцию шампионьонов и ломтик ветчины, выпил банку пива. Делать больше здесь было нечего... Дома было тихо и скучно. Я слил остатки коньяка в стакан, залпом проглотил, закусывать не стал. Подумал, что так недолго и в запой уйти. В это время хлопнула входная дверь, в прихожке загалдели, засмеялись. Маша, забежав ко мне в комнату, встревоженно замерла:
– Пригорюнился? Зачем пригорюнился? Ты не болеешь больше?
В проем дверей просунулся папаша. Он был уже заметно под шафе:
– Как вы себя чувствуете? Мы тут накупили всякой всячины, решили дома поужинать... Я хотел в цирк, а она – домой, домой. Ох, ревную!
И опять потянулся скучный вечер с застольем, беспорядочной едой и питьем, откуда-то возникли соседи, называли меня чародеем, на Машу глазели, как на диковинный экспонат. Она насупилась, и я увел ее спать.
– Ты почитай мне, ладно? – попросила она.
– Сперва вымой ноги холодной водой, переоденься в пижаму, потом позовешь...
Пока мы разговаривали, все смотрели на нас с умилением, что ужасно меня раздражало. Может, я в зонах только об этом и мечтал, что когда-нибудь и кому-нибудь придется советовать вымыть ноги перед сном и именно холодной водой. И еще рассказывать сказки про царевну и драконов.
И в этот вечер фантазия ударила из моих уст, хрустальным фонтаном. Я всегда умел сочинять разные байки, но выдумывать сказки экспромтом – это было со мной впервые. Я мгновенно симпровизировал принца с авантюристскими замашками, одел его в темно-зеленый облегающий костюм с искоркой и отпустил на поиски приключений. Целью, к которой устремился мой принц, был заброшенный замок на краю земли.
Там происходят всякие чудеса, а какие именно – никто не знает. И никто оттуда не возвращается.
Мой принц мужественно одолел трехголового дракона, пересек озеро с мертвой водой, смел на пути к цели стаю кикимор во главе с лешим, добрался до замка, прошел сквозь анфиладу комнат со всякими страшилками, а в самой последней – узрел свой собственный облик в большом зеркале. Отражение так сильно потрясло его, что принц впал в меланхолию и вообще перестал куда-либо и к чему-либо стремиться. Так до сих пор и живет он около этого замка и разводит кроликов, чтобы не умереть с голоду.
Когда я закончил сказку, Маша шевельнулась, Bысунув подбородок из-под одеяла, с минуту полежала молчала, тихая, посерьезневшая, затем произнесла почти с материнской интонацией:
– Ты не беспокойся, все будет хорошо, я знаю.
Я посмотрел на нее потрясенно, а Маша, повернув голову чуть набок, сонно прикрыла глаза.
Я вышел на кухню к гостям и стал с ними пить много и до мерзости жадно. Пьянел и понимал, что давно хотел этого – нажраться до одури. Движения собутыльников, обрывки их разговоров едва доходили до моего внимания и сознания, а потом и вовсе слились в беспрерывный и неясный шум...
Очнулся я от прикосновения к вискам чего-то холодного. С трудом разлепил веки, и сквозь густую и болезненную пелену похмелья едва различил Машу.
Она касалась моей головы ледяными ладонями, что-то речитативно произносила, но я не мог разобрать ни слова. Глаза болели, хотелось их снова закрыть, но какой-то непонятный страх удерживал меня от этого. Машино лицо медленно, словно проявляясь из-за призрачной пелены, стало приближаться ко мне. Затем лицо ее снова растворилось, остались отчетливыми только ее глаза, но со взглядом совершенно взрослой женщины – мудрой, многое понимающей. Поцелуй ее тоже был откровенно женским, но я чувствовал лишь бодрящую прохладу девчоночьих губ. Эта прохлада вдруг как-то внезапно разлилась по всему телу, и мне стало легко, спокойно, перестали болеть глаза, лопнули обручи, сжимавшие виски острой болью.
Я потянулся к странному лицу, мне очень захотелось еще раз испить исцеляющей прохлады ее губ и ладоней, но Маша отпрянула и по-матерински строго произнесла:
– Нельзя больше! Спи теперь!
Мне не хотелось спать, мне хотелось утвердить в теле эту ясность и легкость, но Машины ладони упреждающе стиснули мои виски:
– Спи, обязательно спи! Это хорошо – спать...
И я уснул!
Утром меня разбудил хозяин, смущенно предложил опохмелиться. Видно было, что ему неловко общаться со мной, его смущала моя свежесть после вчерашнего. Впрочем, меня она тоже смущала.
– Спасибо, я лучше кофе. – Я прошел в ванную, включил воду и вспомнил ночное происшествие. Если все приснилось, то почему нет похмелья? Я мылся и думал, думал и мылся, пока Маша не постучала и не спросила: не утонул ли я? Точь-в-точь, как я ее часто спрашивал. Приснилось, решил я, утираясь. Надо какую-то бабу найти, чтоб не чудилось разное.
Хозяин звонил в свое министерство. Он решил еще денек сачкануть от дел и, вроде, договорился. Он все же опохмелился и стал собираться с Машей на ВДНХ. Звали и меня, но я категорически отказался.
Из дома я ушел после них, долго бродил по улицам, пообедал в чебуречной, посмотрел какой-то индийский двухсерийный фильм и уже к вечеру очутился на Красной Пресне. Я пошел в сторону сахарной фабрики и наткнулся на маленькую церквушку, где толпился народ. Тихие голоса, благовонный запах ладана, купол свободного воздуха над головой, благочинная обстановка и слабый, но красивый голос священника. Я подошел к амвону почти вплотную и долго стоял, погруженый в себя.
У метро меня заинтересовала девушка в зеленом плаще – она стояла, откинув головку чуть назад, чутко смотрела по сторонам. Я подошел и спросил:
– Девушка, скажите, сколько времени, а то я в Москве впервые, да и как еще познакомиться, когда имени не знаешь?
Она улыбнулась и сказала просто:
– Я сегодня одна, похоже. Только не берите в голову разные глупости.
– Как я могу их взять и голову? Там уже от старых глупостей места нет, куда же новые брать. Есть хотите?
В ресторан она идти отказалась, видимо, посчитала свою одежду слишком скромной, но мы неплохо по ужинали и в шашлычной. Кормили там на редкость скверно, но Таня ела с завидным аппетитом, видимо, ее гипнотизировали все эти названия: сациви, шашлык на ребрышках, лобио, лаваш. Пила она тоже активно, быстро опьянела и сообщила, что живет в общежитии, что я ей нравлюсь, что учится в торговом техникуме. Я пригласил ее покататься по вечерней Москве, она с радостью согласилась, а в такси охотно отозвалась на поцелуй.
Я еще не назвал шоферу конкретного адреса, и он просто мотался по городу, поглядывая ехидно в зеркальце, а я наглел, лаская молодое тело и обдумывая, куда ее везти: за город или шофер поможет найти койку на ночь, когда машину тряхнуло.
– Подбросьте с ребенком, – прогудел мужской голос.
– Ты что же под колеса лезешь, не видишь, – занят! – заорал шофер.
– Девочке моей плохо! .
Я выглянул и увидел Демьяныча с Машей на руках. Сердце захолонуло:
– Что, что случилось?!
Я затаскивал их в машину, отнимал у него Машу, а он растерянно сопротивлялся.
– Заснула почему-то, – сказал он, – капризничала все, домой просилась, а потом села и идти не может.
– Что за чушь! – Я приподнял ей головку, потер щечки, дунул в лицо.
Маша открыла глаза:
– Я спала, да? Ты почему ушел? Ты не уходи, ладно?
Она снова закрыла глаза и всю дорогу тихо посапывала, может, спала. У дома легко вышла из машины, притопнула. Я попросил водителя подбросить молчавшую, как рыба, девушку до дома, дал ему деньги и пошел в подъезд. Маша обложила меня нежностью со всех сторон, мне грозило преображение в крупного ангела...
Прошло несколько дней. Счастливый отец уехал в Красноярск. Он хотел забрать Машу, но я убедил его повременить, так как резкая перемена климата и обстановка могут быть для нее неблагоприятными. Он оставил мне пачку денег и "пригрозил" выслать еще. Он даже помолодел. Неплохой, наверное, был он человек, счастливый своим незнанием себя самого, дочки, меня.
Осень продолжалась, деньги опять были. Мы с Машей надумали поехать на юг, покупаться в морях-океанах. Но тут я заболел.
Началась моя болезнь с того, что под вечер сильно распухло горло. Утром поднялась температура, глотать я не мог, все тело разламывалось.
Маша напоила меня чаем с малиной, укутала в одеяло и пошла в аптеку. Я пытался читать, но буквы сливались, глаза болели и слезились. Потом меня начали раскачивать какие-то качели: взад-вперед, взад-вперед, сознание уплывало, тело растворялось, руки стали большие и ватные,а в голове стучал деревянный колокол. Температура к вечеру немного спала. Маша сменила мне пропотевшие простыни, пыталась покормить... Приезжала неотложка. Они хотели забрать меня с собой, но Маша подняла шум, они заколебались и пообещали приехать утром.
А у меня начался бред. Мне чудилось, что комната накренилась и в нее упала огромная змея. Толчки, толчки, комната раскачивается, я вижу ее сверху, будто огромную коробку, и вот я уже лечу в эту коробку, а змея раззевает пасть.
Потом провал и новые видения. Я плыву по течению, река чистая, дно видать в желтом песочке, лодку несет кормой вперед, чуть покачивает и причаливает к песчаной косе под обрывом. Я лезу на этот обрыв, соскальзывая по глинистой стенке, забираюсь все же, но не сам, а уже держась за поводок большой собаки. Тут у меня на плечах оказывается лодка, в которой я плыл, я несу ее к избушке, вношу в сени и застреваю там вместе с лодкой. Навстречу бросается собака, лижет мне лицо, повизгивает...
Тут я очнулся, но повизгивание не прекратилось. Я с трудом поднял голову и увидел, что Маша лежит на своей кроватке и горько всхлипывает.
– Ну, Маша, перестань же... – я попытался сесть, спустил ноги, но меня так качнуло, что я откинулся на подушку и замолчал.
Да и что было говорить? Все глупо началось и глупо кончилось.
– Ага, – бубнила Маша– сквозь слезы, – ты уйдешь, я знаю.
– Ну и что? – я все же привстал. – Ну и что же Машенька, ты главное, верь и жди. Тебе будет хорошо – мне будет хорошо. Я, может, вернусь, лишь бы ты ждала.
Маша подошла ко мне. Глаза ее были глубокими, слезы исчезли.
– Хочешь остаться?
Она сказала это так, что я почувствовал: скажи я "хочу" – произойдет чудо.
– Не знаю... – сказал я робко.
Маша отвернулась и вышла из комнаты. Я вытянулся, закрыл глаза и стал чего-то ждать.
Это мне казалось, что я жду. Сознание стало зыбким, вновь вспорхнула какая-то зловещая ночная птица, задела меня влажным крылом. И я провалился в бесконечность небытия.
9
...Идиотский сон снился мне. И так ясно снился, в красках. Будто привычно грюмкнули двери за моей спиной и я оказался в камере. Кондиционер в следственном изоляторе предусмотрен, естественно, не был – клубы спертого жаркого воздуха буквально ударили меня в лицо, как некий кулак, пахнущий потом и нечистотами.
Камера была большая, но казалась маленькой, так как была переполнена подследственными. Я сознательно не сказал на предварительном допросе, что был судим, надеясь поживиться у первоходочников. И они смотрели сейчас на меня жадными глазами, уверенные в том, что новичок даст им возможность повеселиться.
Рассортирована хата была обычно: за столом восседали сытые паразиты, их полуголые торсы были покрыты бездарными наколками, выше, в самой духоте нар, ютились изможденные бытовики, а справа у толчка сидело несколько забитых петушков.
Стандартная картина камеры общего режима, где шпана пытается вести себя по воровским законам, извращая саму суть воровской идеологии. Амбал с волосатой грудью пробасил:
– Кто это к нам пришел? И где же он будет спать? Ты кто такой, мужичок?
Я не удостоил его ответом, а просто прошел к туалету, расстегнулся и начал мочиться. Потом пошел к столу.
С верхних нар на цементный пол упало серое полотенце. Начинающие уголовники пытались меня тестировать. Эта детская проверка заключалась в изучении моей реакции. Интеллигент обычно поднимает полотенце чисто механически и ему уготована роль шестерки, мужик просто перешагивает через него, а вор (как считали эти пионеры) вытирает о рушник ноги.
Я отпихнул полотенце в сторону и подошел к столу. Подошел и уставился на амбала, задавшего мне провокационные вопросы. Я смотрел на него остекленелым, безжизненным взглядом, лицо мое было совершенно неподвижно, как маска. Амбал некоторое время пытался выдержать мой взгляд. Я слышал, как в его тупой башке со скрипом ворочались шестерни, пытаясь совместить мое нестандартное поведение с привычными ему аксиомами. Наконец он отвел глаза и пробурчал:
– Чего надо то?
– Я долго буду ждать? – спросил я тихо.
– А чо надо то? – забеспокоился бугай.
– Ты что, сявка, не понял что ли? – прибавил я металла в голосе.
Создалось впечатление, что под этой грудой мяса разгорается небольшой костер. Он ерзал, подергивался. Не до конца понимая странное поведение новичка он, тем ни менее, шкурой ощущал опасность. К тому же – я на это и рассчитывал – ему хотелось уступить мне место. И это желание, противоречащее хулиганскому уставу хаты, смущало его больше всего.
– Да ты чё, мужик, я тебя чё – трогаю, что ли?
Ну вот, он уже оправдывался. Мне на миг стало его даже жалко. Куда уж этому безмозглому качку меряться с профессиональным зэком.
– Ты где, падла гнойная, мужика нашел? Мужики в деревне землю пашут, а мне что-либо тяжелей собственного члена врачи поднимать запрещают. Шлифуй базар, лярва жирная.
Амбал привстал. Он понимал, что должен как-то ответить на оскорбления, но в тюрьме он все же был впервые, про воровские законы знал понаслышке и боялся их нарушить. Примитивные люди больше всего боятся непонятного, а я был ему очень непонятен.
– Молодец, – сказал я с неожиданной после моей резкости теплотой, – соображаешь. Иди, сынок, посиди на шконке, папаша от ментов набегался, его ножкам покой нужен.
Теперь он начал понимать. Его лицо выразило облегчение, он уступил мне место и сказал:
– Чо ж ты сразу не сказал? Я же не лох, понимаю порядок.
– За что, батя? – подал голос молодой парнишка, сидящий во главе стола. Я вычислил его еще с порога и сознательно спустил полкана на амбала, понимая, что лидер никогда не станет доставать незнакомца сам, а поручит проверку кому-нибудь из своих подручных.
– Что, за что?
– Ну, повязали за что?
– Сто семнадцатая, – сказал я, иронически на него глядя.
117 статья – вещь неприятная. Тех, кто сидит за изнасилование, за мохнатый сейф, в тюрьме не любят. А, если выяснится, что жертвой была малолетка, насильник может сразу идти к параше, все равно его туда спровадят.
Лицо юноши дрогнуло. Он чувствовал подвох, но не мог понять в чем он заключается. Я не стал выдерживать слишком большую паузу. Люди по первой ходке не отличаются крепкими нервами, а драка в хате, как и любая разборка мне не была нужна.
– Изнасилование крупного рогатого скота, – продолжил я, улыбнувшись. И добавил тихонько: – Со смертельным исходом.
На секунду в камере наступила тишина. Потом грянул смех. Смеялись все, особенно заразительно смеялся сам спрашивающий. Он понимал, что я купил его, но купил беззлобно. К тому же ему было немного неловко – по воровским законам он не имел права задавать подобный вопрос.
Минут через пять смех утих, но тут амбал, который все это время недоуменно вертел головой, вдруг, переварил шутку и зареготал зычным басом. И камера вновь грохнула.
Я протянул парню руку:
– Верт. Хотя меня больше знают, как Адвоката. Чифирнуть организуй.
Знакомство с хатой состоялось и меня сейчас интересовали другие вопросы. Ведь я уже не был простым аферистом, я стал каким-то суперменом, по крайней мере – в глазах Седого, и он должен был отнестись ко мне серьезно. Я всей шкурой чувствовал, что не задержусь в тюряге. Единственное, чего мне стоило избегать – это кичманов: воры наверняка запустили ксиву о моей подставке во время побега. Так что на тюрьме меня могли кончить без суда и следствия. Будь я хотя бы в законе, тогда судили бы по правилам, на сходняке, но я же был волком-одиночкой.
Впрочем, в хате общего режима мне пока неприятности не грозили. Хоть я и не был в законе, но авторитет имел и никто, кроме самих воров, не имел права со мной расправиться. Поэтому я чифирнул с парнем и его корешами, забрал у очкарика с верхних нар книжку (оказался Л.Толстой) и завалился на почетное место на низу у окна, прикрывшись этой потрепанной классикой.
Я не пытался читать, горячка последнего дня еще не остыла в моей памяти. Я четко помнил, что мне в обед предстоит встреча с Паханом и что эта встреча может кончиться тем, что меня поставят на ножи. Еще я помнил, что надо выпустить собаку погулять. Она еще маленькая и всю ночь протерпеть не может, написает под кухонную плиту. И никак я не мог связать свое нахождение в камере с этими, предстоящими делами. А тут еще зек с соседней шконки начал скулить и лизать мне руку. Я открыл глаза. Кто-то настойчиво лизал мне руку, свесившуюся с кровати.
10
Меня убили, хоть я не родился, Как модно стало нынче убивать: Брать зернышко, в котором появился, И хладнокровно в писсуар бросать.
Я не родился, а меня убили, И раньше убивали много раз, Таблетками, уколами травили, Чтоб не открыл ни разу своих глаз.
Я не смогу родиться в этом веке. Я, даже, веки не смогу открыть. Какой-то непорядок в человеке, Который может запросто убить.
Не счесть всех трупов за одно столетье – Как быстро людоеды входят в раж, – Чтоб я не проявился в этом свете, Абортами берут на абордаж.
Зачем сливаться людям в наслажденье, Когда итог банален и уныл: То – не любовь, а просто – упражненье, Чтоб кто-то не рождался и не жил.
Чтоб не было на свете Паганини, Чтоб Моцарт не сыграл свой "Реквием", Чтобы никто не повторился в сыне, И дочерей чтоб не было совсем.
Как хорошо не нянчиться с младенцем, А в театре куклу к сердцу прижимать, Как хорошо жить логикой – не сердцем, И здравые поступки совершать.
Сибирский кедр в скалах прорастает, Поскольку уронил в скалу зерно, А человек зерном пренебрегает, Как будто бы отравлено оно.
Волчица за волчонка в схватку с тигром Способна без раздумия вступить, А человек играет в злые игры Под кодовым названием: "любить".
О, как легко рифмуется с любовью Еще не проявившаяся боль, Любовь ассоциируется с кровью, Но только это – секс, а не любовь.
Любить – убить: поганое созвучье, Любить – и жить: чудеснее звучит... А кто-то до рождения замучен, А кто-то никогда не зазвучит.
Оборванные звуки аритмичны, Оборванные струны – скрипки плач, Но наши судьбы более трагичны, Ведь наша мать – наш собственный палач.
Нас убивают, чтоб мы не родились, Абортами идут на абордаж, Ни разу мы на свет не появились, Мы в мире существуем, как мираж.
Убит за девять месяцев до жизни, Продуманно заранее убит...
А кто-то правит бал на смертной тризне; А кто-то на прием к врачу бежит.
11
Димедрольное похмелье, димедрольное вино,
Очень странное веселье мне судьбою суждено.
Очень странные виденья, очень сонная судьба,
Постоянные сомненья и схождение с ума.
Ни одеться, ни покушать, никого не обольстить,
Самого себя послушать, самого себя любить,
Сам собою восторгаться и себя же уважать,
И с самим собой встречаться и себя потом ругать.
На себя таить обиду, от себя ее скрывать,
Не подать себе же виду, что ругал себя опять.
Сам собою обесчещен, сам собою и прощен,
Если был с собою честен, то собой и награжден.
Две таблетки димедрола – то ли сон, а то ли явь -
Захрипела радиола, заиграл ноктюрн рояль.
Вышли девушки навстречу – пять красавиц, как одна,
Обнаженные их плечи, а глаза – хмельней вина.
Я под музыку рояля фее руку протяну:
– Как зовут тебя? Ты – Майя? Майя, я иду ко дну!
Затихает радиола, успокоился рояль,
Сон без имени и пола увлекает меня вдаль.
Там, вдали, мелькает чудо, там отрава чьих-то глаз,
И во сне теперь я буду вас счастливей в много раз.
Димедрольное похмелье поутру меня возьмет,
Сон мечты приятней хмеля... В жизни все наоборот.
В жизни все грубей и проще, в жизни все оценено:
Есть цена прекрасной рощи, есть расценка на вино,
Цены есть и на красавиц, на красавиц и на фей...
Стоит дорого мерзавец, чуть дороже – прохиндей.
Есть цена на президента, есть цена на палача,
За валюту резидента покупаем сгоряча.
Покупается отрава, покупается любовь,
И дешевая забава, и пылающая кровь.
По червонцу за улыбку, поцелуй – за четвертак...
Только золотую рыбку подкупить нельзя никак.
Но – таблетка димедрола, дальше рыбка не нужна.
Заиграла радиола, грань у яви смещена.
И вдали мелькает чудо, там отрава чьих-то глаз,
И спокоен, словно Будда, я уже в который раз.
Димедрольное похмелье, димедрольное вино...
Очень странное веселье мне судьбою суждено.
12
Серое небо падало в окно. Падало с упрямой бесконечностью сквозь тугие сплетения решетки, зловеще, неотвратимо.
А маленький идиот на кровати слева пускал во сне тягуче слюни и что-то мурлыкал. Хороший сон ему снился, если у идиотов бывают сны. Напротив сидел на корточках тихий шизофреник, раскачивался, изредка взвизгивал. Ему казалось, что в череп входят чужие мысли.
А небо падало сквозь решетку в палату, как падало вчера и еще раньше – во все дни без солнца. И так будет падать завтра.
Я лежал полуоблокотившись, смотрел на это ненормальное небо, пытался думать.
Мысли переплетались с криками, вздохами, всхлипами больных, спутывались в горячечный клубок, обрывались, переходили в воспоминании. Иногда они обретали прежнюю ясность и тогда хотелось кричать, как сосед, или плакать. Действительность не укладывалась в ясность мысли, кошмарность ее заставляла кожу краснеть и шелушиться, виски ломило. Но исподволь выползала страсть к борьбе. K борьбе и хитрости. Я встал, резко присел несколько раз, потер виски влажными ладонями. Коридор был пуст – больные еще спали. Из одной палаты доносилось надрывное жужжание. Это жужжал ненормальный, вообразивший себя мухой. Он шумно вбирал воздух и начинал: ж-ж-ж-ж-ж... Звук прерывался, шипел всасываемый воздух и снова начиналось ж-ж-ж-ж-ж...
К 10О-летию со дня рождения Ленина ребята в редакции попросили меня выдать экспромт. Я был уже из рядно поддатым, поэтому согласился. Экспромт получился быстро. Еще бы, уже какой месяц наша газета, телевидение, другие газеты и журналы надрывались – отметим, завершим, ознаменуем. Придешь, бывало, до мой, возьмешь областную газету: " коллектив завода имени Куйбышева в ознаменование 100-летия со дня рождения...". Возьмешь журнал: "Весь народ в честь...". Включишь радио: "Готовясь к знаменательной дате, ученые...". По телевизору: "А сейчас Иван Иванович Тудыкин – расскажет нам, как его товарищи готовятся к встрече мирового события...". Электробритву уже остерегаешься включать: вдруг и она вещать начнет? В детском садике ребята на вопрос воспитательницы: "Кто такой – маленький, серенький, с большими ушами, капусту любит?" – уверенно отвечали: "Дедушка Ленин". Вот я и написал экспромт, который осуждал подобный, большей частью малограмотный, ажиотаж. Кончался стих так:
А то, что называется свободой,
Лежит в спирту, в том здании, с вождем...
Стихи шумно одобрили. Наговорили мне комплиментов. И в продолжении гульбы я листик не сжег, а просто порвал и бросил в корзину. Утром, едва очухавшись, я примчался в редакцию. Весь мусор был на месте, уборщица еще не приходила, моего же листа не было. Я готовился, сушил, как говорят, сухари, но комитетчики уже не действовали с примитивной прямо той. Судилище их не устраивало. Меня вызвал редактор и сказал, что необходимо пройти медосмотр в психоневрологическом диспансере. Отдел кадров, мол, требует. Что ж, удар был нанесен метко. Я попрощался с мамой, братом и отправился в диспансер, откуда, как и предполагал, домой не вернулся.
Стоит ли пересказывать двуличные речи врачей, ссылки на переутомление, астению, обещания, что все ограничится наблюдением непродолжительное время и легким, чисто профилактическим, лечением. Скорая помощь, в которой меня везли в психушку, мало чем отличалась от милицейского "воронка", а больница своими решетками и дверьми без ручек вполне могла конкурировать с тюрьмой.
Для меня важно было другое – сохранить себя. И я придумал план, который несколько обескуражил врачей. Я начал симулировать ненормальность. С первого же дня.
"Честные и даже нечестные врачи, – рассуждал и, – должны испытывать неудобство от необходимости калечить здоровых людей по приказу КГБ. Если же я выкажу небольшие отклонения от нормы, вписывающиеся в диагноз, они будут довольны. Ведь тогда варварский приказ можно выполнять с чистой совестью. Значит, и лечение будет мягче, не станут меня уродовать инсулиновыми шоками, заменившими электрошоки, но не ставшими от этого более приятными или безобидными, не будут накапливать до отрыжки психонейролептиками и прочей гадостью. Я же буду тихий больной с четким диагнозом".
Врачу я сказал следующее:
– Не знаю, как уж вы меня вычислили, но теперь придется во всем признаться. Дело в том, что у меня есть шарик, который никто, кроме меня, не видит. Он все время со мной, он теплый и, когда я держу его в руке, мне радостно и хорошо. Но умом я понимаю, что шарика не должно быть. Ио он есть. Все это меня мучает.
Врач обрадовался совершенно искренне. Он не стал меня разубеждать, напротив, он сказал, что если я шарик чувствую всеми органами, то есть вижу, ощущаю, то он есть. Для меня. Потом он назвал запутанный тер мин, объяснив, что подобное состояние психиатрии известно, изучено. И что он надеется избавить меня от раздвоения сознания.
И потекла моя жизнь в психушке, мое неофициальное заключение, мой "гонорар" за стихи. Труднее всего было из-за отсутствия общения. Почти все больные или были неконтактны вообще, или разговаривали только о себе. Подсел я как-то к старику, который все время что-то бормотал. Речь его вблизи оказалась довольно связной. Я от скуки дословно записал рассказ этого шизика, его звали Савельичем.