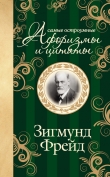Текст книги "Загробный(СИ)"
Автор книги: Владимир Круковер
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
Удивительно, но во втором холодильнике со стеклянной дверцей постоянно находятся свежие фрукты. И, если я сегодня взял арбуз или дыню, то завтра их количиство восстановится.
Мусор я выношу в мусорный бак, который стоит около склада-магазина. Не знаю, как так получается, но он всегда пустой. Второй месяц я складываю туда пакеты с мусором, а он пустой.
Пакеты я беру в магазине, там много разных полиэтиленовых пакетов.
У меня есть компьютер. Я очень боюсь, что он испортиться. В складе нет электроники, так что отремонтировать его мне не удастся. Я сажусь за компьютер редко. Я пишу на нем мемуар. Единственное, что мне осталось – этот компьютер, при помощи которого я пытаюсь письменно восстановить свою жизнь.
Я не знаю, сколько мне лет. У меня седая борода, много морщин, огромная лысина. У меня плохо работает желудок, покалывает бок, болят зубы и бывает одышка. Наверное, я старый.
Я знаю, как меня зовут и помню всю свою жизнь за последние пятьдесят лет. А дальше – провал. Провал, непонятная квартира, непонятная часть света, жгучее солнце. Может это и не Земля вовсе?!
0
Страшным проклятием у китайцев является пожелание "жить в эпоху перемен". Никогда не задумывался над этой сентенцией. Просто родился в эпоху Сталина жил в период правления Брежнева, хулиганил при Горбачеве, пытался стать богатым во времена Ельцина. Хотя, Ельцин к моим ошибкам особого отношения не имел, у него своих забот хватало.
Своим проклятием я считал не эпоху, а слишком живой ум. И часто завидовал примитивным, им было так просто существовать.
Впервые я столкнулся с издержками интеллекта в человеческом общении на каком-то семейном празднике. Я тогда был настроен мрачно, потому что не пришла дочка одного из папиных знакомых, Валя...
1
Однажды собрались гости, но Валя Семенченко не пришла. У нее болело горло. У меня и самого часто болело горло, так что я Вале сочувствовал. И было скучно. От скуки я затеял разговор с дядей Дубовиком.
– Ты всегда такой молчаливый? – спросил я его.
Я нарочно обратился к дяде на "ты", интересно было узнать, как Дубовик себя поведет.
Но застенчивый дядя Дубовик не успел ответить. Семенченко-мама услышала мой вопрос, хотя в это время разговаривала с другими гостями. Она всегда ухитрялась все услышать и все увидеть.
– Как тебе не стыдно, Вовочка, – сказала она. – Разве можно к старшим обращаться на "ты"...
Это был вопрос, на который не надо давать ответ. Взрослые часто задавали такие вопросы. Например: почему ты так себя ведешь? Нет, даже так: почему ты ТАК себя ведешь? Ну как ответить на такой вопрос? Я, если был в плохом настроении, обычно отвечал – ПОТОМУ. А если был в хорошем настроении, быстро извинялся и говорил, что больше не буду. А в глубине души удивлялся странности взрослых.
Сегодня было скучно, не было Вали и вообще, какой-то не праздничный был праздник, хотя гости были почти все. И я спросил Валину маму:
– А почему нельзя? – И уточнил: – Почему ко мне взрослым можно обращаться на "ты", а мне нельзя?
– Потому что мы – взрослые! – сказала Валина мама громким и удивленным голосом. – Мы вас кормим.
– Это что ж, дядя Дубовик меня кормит, что ли? – опять спросил я.
– Взрослые кормят детей, – укоризненно сказала Семенченко, – они их одевают, кормят, воспитывают. И дети должны уважать взрослых.
– А взрослые детей? – спросил я. Взрослые детей уважают?
– Они их любят, – наставительно сказала Семенченко, – они любят их, если, конечно, они хорошо себя ведут. К тому же, взрослые больше знают.
– Вы больше меня знаете? – спросил я громко.
За столом стало тихо. Все взрослые прислушивались к нашему разговору.
– Конечно, – сказала Валина мама., – гораздо больше. Потому что я училась.
– Тогда скажите мне, что такое мюзрик?
– Мюзрик?.. – замялась Семенченко, – Мюзрик?.. Такого слова нет, а если есть, то его дети выдумали.
– А вы можете выдумывать слова?
– Зачем их выдумывать, слов много и я все их знаю.
– Тогда скажите, что такое Флуктуация?
– Ну, это что-то медицинское, а я не врач.
– И вовсе не медицинское, – торжественно заявил я, – а обычное. Просто вы не знаете. Или вот: что такое этилокситилпараминофенелиндиамин?
Гости смотрели в стол. Дядя Дубовик прикрыл зачем-то рот рукой, из под руки торчала его бородка.
– Это состав цветного проявителя для пленки, – вступил в разговор мой старший брат Миша. – Как Вовка только ухитрился его выучить. Этил, кситил, параминофенелин и диамин. Вовка, перестань доставать тетю.
– А что такое синекдоха? – не унимался Вовочка.
– Ну, это я недавно учили, по русскому... – смущенно сказал мой средний брат Ляля, который на самом деле был Павел. Лялей я звал его, когда был совсем маленьким, и новое имя прижилось. – Это словесный прием, который позволяет показать большое через его часть. Например, можно сказать: "толстяк" или "борода", обозначив тем самым всего человека.
– Ну и память у тебя, Вовка! – сказал Ляля.
– Вова, – вступила мама, – перестань. Расходился, как горячий самовар.
– Кто самовар?! – возмутился я. – Не знаете, так и скажите! А что такое дисперсия? Или – интродукция? Никто не знает всех слов.
– Это специальные слова, – попытался остановить мой напор папа, – тетя может их не знать. Я тоже не все знаю.
– Так ты же не строишь из себя всезнайку. И не требуешь, чтоб я обращался к тебе на "вы". Хотя ты кормишь и одеваешь не только меня, но и Мишку и Ляльку и маму – всех.
Наступила тишина. Потом покрасневшая тетя Семенченко сказала:
– Ты глупый и грубый мальчишка, я не хочу с тобой разговаривать.
А мама сказала:
– Вова, будет лучше, если ты возьмешь свою тарелку и пойдешь кушать к себе в комнату. Тут одни взрослые и нам не интересно тебя слушать.
– Ты тоже не знаешь, – совсем рассердился я, – ничего не знаешь. А командуешь. Я с тобой разговаривать не буду! Три дня!!
Миша встал из-за стола, взял меня под мышку и понес из столовой. А я брыкал ногами и кричал сквозь слезы:
– А что такое Ярод? А что такое Пардыква? Не знаете! Тоже мне, взрослые!
2
Я попытался повидать Валю спустя 55 лет. Специально съездил в Сибирь, в Иркутск. Зря съездил. Валя умерла от цирроза печени 20 лет назад, говорили – пила по-черному. Девочка из интеллигентной семьи, врач! А Иркутск оказался маленьким, грязным и совершенно непригодным для человеческого жилья. Хорошо, что я это не понимал, пока жил там целых 20 лет.
Мне в те годы не то что Иркутск – пятиэтажный дом казался целым миром. Я тогда впервые узнал про Карлсона, совершенно поверил в его реальность и отправился на поиски.
Когда я был маленьким, меня часто называли вредным неслухом. Иногда добавляли – отчаянный. Отчаянный неслух, вреднуля.
Еще меня дразнили, потому что про Вовочку много глупых анекдотов. Дразнили меня старшие мальчишки.
Я не был вредным и не был таким уж отчаянным. Я был задумчивым. Или, как говорила мама про задумчивых мальчиков – мечтательным.
Я любил оставаться дома один. Тогда мне никто не мешал мечтать. Я представлял, как в открытое окно влетает Карлсон, и как мы дружимся. Жаль только, что у меня не было паровой машины и Карлсон не мог ее сломать. Ведь все знают, что именно после взрыва паровой машины начинается настоящая дружба с Карлсоном.
Я удивлялся, почему Карлсон никогда не прилетает. Я был упрямым мальчиком, поэтому однажды вышел из квартиры в подъезд и поднялся по лестнице на самый верхний этаж. На самом верхнем этаже была лестница, которая вела на чердак. Детям было строго запрещено лазить на чердак. Но как можно было бы узнать у Карлсона, почему он не прилетает, если не забраться на чердак, а оттуда – на крышу.
И я полез по лестнице.
С трудом открыл тяжелую крышку люка, для этого пришлось упереться ногами в железную ступеньку и толкать крышку; она с грохотом открылась вверх и шлепнулась там. Я подтянулся на руках, перевалил туловище в пыльную темноту чердака и оказался в таинственном помещении, пронизанном солнечными лучами. Лучи дрожали на пылинках, казалось, будто множество фонариков светят сквозь щели в крыше.
Теперь надо было найти выход на крышу. Я пошел по чердаку. Сердце замирало. Чердак был наполнен странными гулькающеми звуками, будто там проживало множество гулек.
Найдя, наконец, дверь, я потянул ее на себя и вздрогнул. Какая-то большая птица пролетела рядом с головой. Я замер, успокаивая дыхание. Я узнал голубя, но его появление было таким неожиданным.
Так вот, какие гульки тут все время бормочут, – подумал я.
И вот, свершилось! Я оказался на крыше.
Подо мной лежал родной город, его было видно почти весь. Далеко-далеко дымились трубы Куйбышевского завода, где делали сложные машины. В другом конце на горе стояла церковь, в ее куполах плавилось червонное солнце. Третья сторона была заполнена Ангарой, замечательной рекой, в которой запрещалось купаться маленьким мальчикам. А с четвертой стороны город превращался в тайгу: там был большущий парк с кедровыми и сосновыми деревьями.
Я ощутил себя очень маленьким на фоне этого простора. И в то же время я чувствовал себя очень большим, ведь этот город принадлежал мне...
Но надо было искать домик пухлого проказника. Я шел по хрустящей жести крыши, стараясь не оступиться, придерживаясь за конек и не приближаясь к окраине, ведущей в бездну. Я вымазался в ржавчине, руки горели от горячего металла конька, а домика все не было видно. Мне казалось, будто уже много часов бреду по этой крыше и конца этой ходьбе не будет. Но тут я увидел приоткрытую дверь и понял, что обошел всю крышу по кругу. Вернее – по квадрату. Во втором классе тогдашней школы мы еще не очень хорошо разбирались во всех этих квадратах, овалах, треугольниках и ромбах.
Даже, если это был квадрат, подумал я, то он какой-то вытянутый. По-моему, такие квадраты называются простоугольниками. Или длинноугольниками?
Я еще раз осмотрел свой город. Это был хороший город, так как в нем жили папа и мама, старенькая бабушка и великовозрастные братья. А еще в этом городе жила Валя Семенченко, которая часто приходила вместе с родителями к ним в гости.
Я вздохнул и начал спускаться с чердака. Я попытался закрыть люк, но крышка была слишком тяжелая, я оставил ее так, открытой. Потом пошел по лестнице вниз, в свою квартиру на третьем этаже. Мне надо было бы подумать о том, какой скандал устроит мама при виде костюма, украшенного ржавыми пятнами. Но я думал совсем о другом.
О том, что в городе очень много крыш, все их так просто не облазить. Поэтому, надо поступить по-научному: взять бинокль старшего брата (когда того не будет дома), залезть на крышу и внимательно осмотреть другие крыши в бинокль. И уж потом, найдя нужную крышу, залезть туда и объясниться, наконец, с Карлсоном.
3
В детстве я не только искал Карлсона. (Тем более, что Карлсон был написан гораздо позже и я тогда уже не был маленьким). Я и сам писал сказки, еще не умея писать. Садился за папин письменный стол на львиных лапах, подкладывал под попу два тома БСЭ (Большой Советской Энциклопедии) и выводил строчки, будто пишу по-настоящему. Впрочем, писал я по-настоящему, так как текст воспроизводился в голове и я его запоминал. Другое дело, что каракули, несмотря на строчное построение и абзацы, – их я интуитивно соблюдал – не могли быть никем прочитаны.
И когда я "читал" свои записи, слушатели неоднократно вставали, чтоб посмотреть на них. И удивлялись: "Ну и горазд ты сочинять, Вовка!" Я не сочинял, просто помнил.
Потом, гораздо потом, в тюрьме, это свойство памяти помогло мне писать в уме и запоминать стихи и рассказы. Свою первую повесть после освобождения я просто напечатал на пишущей машинке, бездумно напечатал, будто переписал с невидимого никому черновика.
Я писал, играл, задавал вопросы. Вопросы были простые, но взрослых они почему-то ставили в тупик. Очень хорошо помню последствия одного такого вопроса.
После скандала за поход на крышу Мама перестала со мной разговаривать. Она заставила меня выкупаться под душем, дала чистую одежду, и все – молча. А когда пришел папа, рассказала о моем преступлении и добавила:
– Это не мой сын. Мой сын не может быть таким бездушным. А если бы он свалился с этой чертовой крыши?! Наверное это не мой сын, наверное моего сына украли цыгане, а этого оставили взамен...
Я видел цыган. Они иногда ходили по квартирам, просили денежку и хлеб. Вместе со взрослыми цыганами ходило много цыганских ребятишек. Они были черными, пестро одетыми и все время что-то щебетали. А если им дать денежку, то они могли станцевать танец прямо на улице или в прихожей, сами себе подпевая.
Значит, я – цыганенок, подумал я. Вот здорово! А настоящий я теперь ходит с цыганами, просит денежку и танцует... Я позавидовал настоящему Вовочке, которому так здорово живется. Ему даже не надо ходить в школу.
А откуда берутся цыганята, возник логичный вопрос.
– Папа, – спросил я, – а откуда берутся цыганята?
Папа читал газету. Он сидел за столом, ждал, когда мама принесет обед и читал газету.
– Цыганята? – оторвался он от газеты. – М-да, откуда? А ты спрашивал у мамы?
– Мама со мной не разговаривает, ты же знаешь.
– Не разговаривает... Да-а. Сложная ситуация. Ну, я полагаю, что цыгане своих цыганят находят в лесу.
– Подожди, а как же аисты? Они что, только обычных детей приносят? А цыганские дети растут в лесу?
Папа зачем-то снял и одел очки, пошуршал газетой и ответил:
– Да. Полагаю, что именно так все и происходит. А почему тебя, так сказать, это интересует?
– Ну как же? Я же – цыганенок. Меня же подменили. И теперь настоящий я весело живет и в школу не ходит. А меня даже на крышу не пускают. И купаться в речке не разрешают. Эх, как я ему завидую!
Папа смутился. Он встал из-за стола, прошелся по комнате, снова сел. И сказал:
– Это, знаешь ли, вопрос спорный. Это, так сказать, лишь мамино предположение, гипотеза, так сказать. Мне лично кажется, что ты самый настоящий Вовочка, а никакой не цыганенок.
– Но я же черненький, – возразил я. – А другие ваши дети – светленькие. И Мишка, и Лялька. Поэтому, если бы я был я, я был бы тоже светлый. А я темный, ясно же, что я подмененный.
– Ну, – решил возражать папа, – дети у родителей бывают разные. И темненькие и светленькие. Это вовсе не доказательство того, что ты – это не ты.
– Как же не доказательство. А мое поведение. Вы же сами говорили, что я неизвестно в кого уродился. А бабушка все время меня гаденышем зовет. И все это почему? – Я торжественно посмотрел на отца: – А потому, что я – это не я. А у нас, цыганят, совсем другие правила поведения. И никто нам не должен запрещать лазит на крышу или купаться. Вот!
Видимо, вопрос, который поднял я, был очень серьезным. Потому что мама, которая уже несколько минут стояла с тарелкой супа в руках, забыла о то, что она с сыном не разговаривает.
– Это не играет роли, – сказала она. – Если ты наш сын, то просто обязан вести себя, как сын, а не как какой-то цыганенок. Может, ты еще по квартирам пойдешь, деньги на хлеб просить?!
– Вот здорово, – сказал я. – И тогда у меня будут свои деньги. Только в этой одежде плохо просить, надо совсем другую одежду, цыганскую. Бабушку попросить, чтоб сшила? У нее в сундуке много красивых лоскутков.
Мама чуть не выронила тарелку. Но мама была мужественной женщиной, она поставила тарелку перед папой и сказала:
– Иди к себе в комнату и учи уроки. Я тебя еще не простила. И выброси из головы всякие глупости!
Я медленно, нога за ногу, ушел к себе. Это только так говорилось – своя комната. На самом деле своя комната была только у старших братьев: у Мишки и Павла, которого Я звал Лялька. Эта комната называлась "детская" и в ней стояла моя парта, которую сколотил настоящий плотник. А спал я в столовой на диване. Еще была спальня родителей; в ней, рядом с мамой, я спал, когда был маленьким, и был папин кабинет со шкафами с книгами и красивым письменным столом на львиных лапах. Иногда мне разрешали играть в этом кабинете.
Я медленно ушел в детскую, сел за парту и стал думать: кто же я есть на самом деле. Быть цыганенком было заманчиво, но я уже понял, что суровая мама никогда это не разрешит. Но, если его нашли в лесу, он мог быть кем угодно, ведь в лесу много всяких жителей.
Он мог быть троллем. Хотя, тролли очень большие и уродливые. Тогда он мог быть гномом... Нет, гномы маленькие, они носят шапочки с колпачками. Наверное он близкий родственник фей. Феи такие же, как и люди, только красивей. У них тоненький голосок и большие глаза.
Глаза у меня были большие. Даже очень. С длиннущими пушистыми ресницами. В школе меня за эти глаза дразнили, считалось, что такие глаза – девчачьи. Но Валя Семенченко говорила, что глаза у него красивые. И что он сам симпатичный. А Валя была старше его на год, училась уже в третьем классе, и ей можно было верить.
Да, скорей всего я Фей, – подумал я. Не Фея , фея – это девчонка, а фей. Поэтому у меня и нет крылышек. Они растут только у девочек. Значит, я немного волшебник, все феи волшебники. Только меня никто не учит волшебству. Конечно, они простые люди, откуда им знать, что фея надо учить волшебству. Как бы мне встретиться с феями, чтоб они меня поучили? Надо идти в лес.
Но один я до леса не доберусь, продолжал думать я. Мне нужно найти напарника. Надо выбрать кого-нибудь из старших мальчиков. Чтоб он довез меня до леса и подождал, пока я встречусь с феями.
Для этой цели лучше всего подходил Васька Молчалин. Ему было целых 12 лет, про него говорили, что он приемный мальчик, что родители взяли его из детского дома и усыновили. Васька был большой шалун. Кроме того Васька был жадина. И Васька мог гулять где хочет, его не ругали.
Что же такое дать Ваське, чтоб он меня отвел в лес, думал я? Дам я ему ящерицу в спирте, ни у кого во дворе такой нет. Завтра воскресенье, школы нет. Пойду гулять и договорюсь с Васькой. Зато потом, когда феи научат меня чудесам...
Что потом, я представлял себе плохо. Но то, что это будет здорово, не сомневался.
4
Да, если бы я научился чудесам, это было бы здорово. Увы, не научился. Других учил, было. А вот сам так и не освоил начальный курс волшебства. Наверное, потому, что мальчики бывают эльфами, а мальчиков – фей никто еще не встречал. Не там я родился, не там и не тогда. Вот старший брат родился и там, и тогда, поэтому при наступлении перемен быстренько бросил науку и занялся бизнесом. Стал богатым. Живет в Израиле, жена на 40 лет моложе, только от нее у него пять детей, причем последнего пацана сделал в 72 года. И не собирается останавливаться. И прошлых жен с детьми не забывает, помогает материально. А у меня на приличный компьютер денег нету!
Все же гложет меня подозрение, что тогда, много-много лет тому назад, я в поиске фей был недостаточно настойчив.
Когда тебе десять лет, даже маленькие деревья кажутся большими. А большие – громадными. Когда тебе так мало лет, лес загадочен, он похож на сказку.
Я легко уговорил Ваську отвезти его в лес. Васька согласился не только из-за ящерицы, хотя ящерица в спирту была замечательная. Васька и сам был не прочь побывать в настоящем лесу, но один идти туда побаивался. Хотя, никогда не признался бы в этом даже самому себе. С малышом Вовкой, о котором надо было заботиться, о страхе думать не было времени. Да и какой может быть страх, если бояться должен этот пацан, сын доктора Ревокура.
Но пацан не боялся. Ни тогда, когда они ехали на трамвае, ни потом, когда они пересели в автобус, ни, даже, тогда, когда они сошли на остановке "Грибная поляна" и углубились в лес. Это было странно, но мальчишка не боялся, а, наоборот, радовался, вертел головой и то и дело убегал в самую чащобу.
А потом повел себя и совсем странно: попросил Ваську посидеть на пенечке и подождать его.
– Ты че, пописать хочешь? – спросил Васька. – Так писай здесь, че уходить в чащобу?
– Я тебе заплатил, – неожиданно строго сказал пацан, – вот и жди.
Васька хотел дать малявке леща, но потом подумал, что тот действительно ему заплатил. А Васька был хоть и жадный, но честный. Поэтому он только сказал вслед Вовочке:
– Иди, иди, мне-то что, ну съедят там тебя волки, или цыгане украдут...
А я шел по узенькой, едва заметной тропинке и не боялся волков или цыган. Волки днем не опасные, а цыгане уже украли одного Вовочку, теперь я и сам цыганенок, что ж мне бояться цыган.
Я шел и шел и вышел на небольшую полянку, со всех сторон закрытую соснами. Это был такой зеленый шатер с травой и цветами вместо ковра и хвойным потолком с щелочками между иголок. В щелочки светило солнце, поэтому шатер был не просто зеленый, а золотисто-зеленый.
Посреди полянки был пень. Он был невысокий, но с таким гладким срезом, будто обеденный стол. Пень стоял на толстых узловатых корнях, уходивших в землю. По правилам не пне сейчас должен был появиться гном в колпачке и курточке. Но на пне никого не было.
Я подошел поближе. Нет, единственным живым существо на пне был большущий рыжий муравей, который с деловым видом что-то там обнюхивал, шевеля усами.
Я посмотрел по сторонам. Нет сомнений, что этот зеленый шатер – чей-то лесной дом. Именно то место, где положено встретиться с феями. Но феи почему-то запаздывали. Допустить, что они не знали о моем прибытие я просто не мог. Они же – Феи!
Я постоял, впитывая золотисто-зеленое волшебство леса. Казалось, что какие-то прозрачные струны играют невероятно красивую музыку. Играют чуть слышно, для меня одного.
Наверное они сейчас заняты, подумал я, и будут ждать меня в следующий раз.
– Я приду, – негромко сказал я в сторону пня, – я обязательно приду еще...
И пошел обратно.
Васька, увидев возвращающегося пацана, ужасно обрадовался. Ему было очень неуютно одному в лесу. Он чувствовал себя уверено только в городе или во дворе, где все знал.
– Ну че? – спросил Васька и длинно сплюнул сквозь зубы. – Нагулялся? Едем обратно, что ли?
И мы поехали обратно.
5
Еще одним проклятием моего существование была излишняя чувствительность. Дополненная воображением, она, порой, доводила меня до безумия. Я боялся там и того, чего ни один примитивный не боялся, так как прямой опасности не было. Я смеялся там, где нормальные люди не видели ничего смешного, а плакал тогда, когда в общепринятом смысле для слез не было оснований. Даже сейчас, хотя давно зачерствел, перечитывая "Убить пересмешника" расплакался от восторга перед чистотой героев книги, от качества повествования.
Многие эпизоды, связанные с этим недостатком, помню "живьем".
Я, признаться очень любил праздники. Потому что в праздники к родителям приходили гости.
Конечно, если бы я мог сам выбирать гостей, то он многих из них не стал приглашать. Зачем, например, приглашать Клару Ароновну, которая всегда много говорит, все рассматривает, будто пришла в магазин, щиплет меня за щеку, приговаривая пронзительным голосом одну и ту же фразу: "Это кто же у нас тут? Кто этот юный мужчина? Как мы быстро растем, скоро за мной ухаживать будем?". Кроме того от Клары Ароновны пахло с такой силой, будто она вылила на себя целое ведро духов. И она всегда говорила, что ест, как птичка, что у нее совсем нет аппетита, а сама ела, будто пьяный грузчик. (я не видел, как ели грузчики, но бабушка, скорей всего видела, и так говорила про тех, кто ел много и жадно, что они едят, как пьяные грузчики).
Не пригласил бы я и доктора Дубовика, высоченного дядьку с бородкой клинышком. Дубовик работал у папы в больнице, в гостях он всегда стеснялся, поэтому много молчал и часто выходил на балкон курить. Он был скучный взрослый и никогда мне ничего не приносил. Я его жалел, я чувствовал, как ему неуютно, и поэтому мне тоже при нем бывало неуютно.
Честно говоря, я пригласил бы только семью Семенченко. Потому что они были единственные, кто приходил с дочкой Валей.
Естественно, что праздники нравились мне еще и праздничным ужином. Сперва стол покрывали белой праздничной скатертью, потом на скатерть ставили приборы и начинали выкладывать закуски. В круглых тарелках лежали тоненькие кружочки колбас, ветчины, буженины, в продолговатых тарелочках нежились в масле шпроты и сардины. В глубоких мисках горбились разнообразные салаты. Еще были тарелочки с огурчиками, грибами, помидорами. Между ними выстраивались бутылки с вином, водкой и коньяком. Женщины пили вино, Дубовик пил водку, а папа и Семенченко-отец пили коньяк. Семенченко-мама всегда говорила Семенченко-отцу, чтоб он не пил каждую рюмку до конца: "не на поминках, мол". Он кивал ей: "да, милочка", – и все равно пил до дна.
Вино или шампанское наливали и детям – мне и Вале. Чуть-чуть, на донышко. И тогда мы чокались бокалами и рюмками вместе со взрослыми. Бокалы звенели, как хрустальные колокольчики.
Потом закуски убирали, мама торжественно вносила горячее. Иногда это был гусь, иногда – индейка, иногда – жареное мясо с картошкой и зеленым горшком. Мясо бывало зажарено куском и я никак не мог научиться отрезать от этого куска маленькие кусочки тупым столовым ножом. И удивлялся, как это получается у взрослых.
После горячего взрослые вставали из-за стола, мужчины уходили курить на балкон, а женщины шли с мамой на кухню. Мы же с Валей шли в папин кабинет, рассматривали игрушки или возились, как плюшевые медвежата. Валя была сильная девочка, иногда она ухитрялась повалить меня и сесть верхом. Мне не было обидно проигрывать, все же Валя была старше и выше ростом – девочки всегда растут быстрей мальчиков. К тому же, она мне нравилась, а когда человек нравится, ему не обидно проигрывать.
Потом из столовой слышались звоны чайного сервиза, все вновь собирались за столом, и мама вносила блюдо с тортом.
Мама обычно пекла один из трех тортов: наполеон, безе или шоколадный. Наполеон мне не нравился, что вкусного в слоеном пирожном с белым кремом, пускай даже это пирожное огромное и круглое. Безе мне тоже не нравился, я не понимал вкуса сахарных яичных белков, из которых делалась большая часть торта. Зато шоколадный торт я обожал. Это был толстенный торт из нежного бисквита, с тройным слоем крема, а поверх торта лежали неровные куски шоколада.
После чая взрослые начинали прощаться, собираясь уходить. Прощанье обычно затягивалось минут на тридцать, мы с Валей вполне могли еще поиграть. Возиться после такой сытной еды не хотелось, обычно мы тушили свет и рассказывали друг другу страшные истории, держась за руки, чтоб не так было страшно.
Однажды после чая мы с Валей как обычно потушили свет, я начал рассказ-страшилку про живую руку покойника. Я давно приготовил эту историю, услышанную во дворе, и все ждал праздника, чтоб рассказать. Неожиданно свет загорелся, в дверях стоял Семенченко-отец, Валин папа. Он строгим голосом приказал девочке идти одеваться, так как они уже уходят, а, когда Валя проходила мимо него, неожиданно ударил ее рукой по левой щеке.
Я весь съежился. Валя молча проскользнула мимо отца, пошла в прихожую, натянула пальто, обернула воротник шарфом, смахнула этим же шарфом слезы.
А я сидел в папином кабинете и не мог выйти к гостям попрощаться. У меня наворачивались слезы и я сглатывал какой-то комок в горле, который никак не сглатывался. А левая щека покраснела и горела, будто ее прижгли раскаленным утюгом.
Я никому не рассказал об этом случае. Когда мама спросила, "что я тут сижу, накуксившись?", я сказал, что болит живот.
Прошло много-много лет, я вырос, превратился в человека с отчеством. У меня трое своих детей, девочек. Я сам стал собирать гостей на праздники, сидеть во главе праздничного стола, любяще смотреть на своих дочек. Но все равно, вспоминая детство и Валю Семенченко я чувствовал, как начинает гореть левая щека.
6
Мне редко бывало скучно, так как я умел писать без карандаша и ручки, в уме. И писать таким макаром всегда было увлекательно. До сих пор предпочитаю писать в уме. Поэтому издал не так уж и много художественных книг. Все, написанные в уме, гораздо лучше. Они, как сон, что кажется великолепным, хотя детали смыты, расплывчаты. Проснешься, ощущение восторга – его помнишь. А нюансы утеряны.
Именно такое ощущение восторга пережил я при первой встрече с музыкой. Плохо то, что запомнились детали. Они уничтожили откровение радости. Наверное, именно поэтому я так и не научился играть ни на одном инструменте.
Еще до того, как его принесли, я знал, что оно немецкое и с чудесным звуком.
Наконец к дому подъехала грузовая машина; я прилип к стеклу. Нечто огромное, закрытое чехлом выползло из кузова, повисло на веревках и осторожно вжалось в землю.
Четыре мужика в телогрейках взяли предмет с четырех сторон и понесли в подъезд.
Пианино не проходило в дверь, поэтому грузчики сперва сняли дверь с петель и квартира без двери стала какая-то беззащитная, будто кукла без платья.
Топая, как слоны в посудной лавке, грузчики внесли пианино в столовую и установили его рядом с диваном. Чехол сняли, торжественно засияли канделябры из старинной бронзы, приделанные к лицевой части пианино.
Я разрывался между двумя желаниями. Хотелось посмотреть, как едят пьяные грузчики и потрогать пианино за черный лакированный бок. Меня ждало двойное разочарование: кормить грузчиков не стали, а просто дали им деньги. Возможно, в качестве исключения эти грузчики не были пьяными. Грузчики навесили входную дверь на петли и потопали вниз по лестнице. Трогать пианино тоже не дали, сказали, что оно должно остыть, отдохнуть.
Расстроенный я вышел на балкон и стал смотреть на огромный тополь, который доставал верхушкой до третьего этажа. По тополю ползла рыжая кошка, охотилась за голубями. Я шикнул на кошку, она скептически посмотрела на зелеными глазами и, понимая, что ее не достать, продолжила охоту. Тогда я вернулся в квартиру, нашел на кухне щетку с длинной ручкой, вышел на балкон и попытался этой щеткой спугнуть кошку.
Кошку спугнуть не удалось, щетка была слишком короткая. Зато голуби заволновались и взлетели в небо. Кошка проводила их пронзительным зеленым взглядом. Я тоже проводил взглядом голубей и выронил щетку. Щетка упала на тополь, заскользила между ветвей и стукнула кошку щетиной. Кошка взвилась, как ошпаренная, и мигом оказалась на самой верхушке тополя. Щетка проскользила до второго этажа и застряла в сучьях.
Я пошел в комнаты. День сулил столько интересного, а в результате ни грузчиков, ни пианино, ни щетки.
В конце концов все уладилось. Средний брат Ляля спустился вниз и выловил щетку, немного взобравшись на дерево. Папа сел за отдохнувшее пианино и тронул клавиши. Все стояли вокруг пианино и слушали, как папа играет.
Когда папа перестал играть я спросил:
– А мне можно?
– Попробуй, – сказал папа.
Я сел на крутящийся стулик, который купили вместе с пианино. Папа подкрутил сидение этот стулика и я оказался один на один с черно-белыми клавишами. И начал осторожно трогать их пальчиками. И каждая клавиша отвечала на это касание.