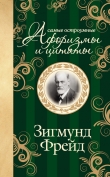Текст книги "Загробный(СИ)"
Автор книги: Владимир Круковер
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
– Вот в этом шкафу юмористическая литература. Ее у нас не слишком много, Земной юмор тут не срабатывает. Сами понимаете, не станем же мы смеяться над плохим слесарем-сантехником, коли тут нужды в сей профессии нет. И над плохим пивоваром тут никто не посмеется. А какую реакцию могут вызвать пародии на политиков, на знаменитых артистов, если отсюда все Земные люди оцениваются лишь, как носители большего или меньшего запаса жизненной энергии. Ну, а о шутках по поводу неверных жен или переполненного мочевого пузыря я и не говорю. Нормальные и при жизни над ними не шибко смеются.
Я с интересом открыл створки шкафа, надеясь встретить там неизвестные человечеству шедевры юмора. Шок при взгляде на корешки книг был таков, что я сперва охнул, а потом расхохотался. Шкаф был заставлен религиозной литературой разнообразного направления: от библии до практической веданты. Рядом с кораном стояло красочное издание евангелия от Иуды, баптистские брошюры соседствовали с красочными изданиями кришнаитов, четки минеи отливали бронзой застежек, свидетели иеговы радовали толстым глянцем переплета.
– Да уж, – сказал я восхищенно, – читать ТУТ всю это белиберду про загробную жизнь забавно. Как там она начинается? Кажется так:
1 В начале сотворил Бог небо и землю. Небо сделал из полиэтиленовой пленки голубоватого цвета. Для земли использовал качественный перегной.
2 Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.
3 И сказал Бог: да будет свет. Повернул рубильник. И стал свет.
4 И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. Процедура достаточно сложная, ныне получившая название: "спектральный анализ".
5 И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. Так были заложены начала лингвистики. И был вечер, и было утро: день один.
_Отменная память. Подобное удовольствие при жизни я получал от книги про похождения Остапа Бендера, – поддержал мой настрой Библиотекарь. – И еще от Терри Праттчера, от его плоского мира, где Смерть – мужчина. Вот, к примеру, нравоучительный отрывок из библии: "Не отдавай жене души твоей, чтобы она не восстала против власти твоей. Не выходи навстречу развратной женщине, чтобы как-нибудь не попасть в сети ее. Не оставайся долго с певицею, чтобы не плениться тебе искусством ее. Не засматривайся на девицу, чтобы не соблазниться прелестями ее. Не отдавай души твоей блудницам, чтобы не погубить наследства твоего. Не смотри по сторонам на улицах города и не броди по пустым местам его. Отвращай око твое от женщины благообразной и не засматривайся на чужую красоту: многие совратились с пути чрез красоту женскую; от нее, как огонь, загорается любовь...", – забавная подборка скудоумия, не правда ли. Вот еще, из корана: "Oни cпpaшивaют тeбя o мeнcтpyaцияx. Cкaжи: "Этo – cтpaдaниe". Oтдaляйтecь жe oт жeнщин пpи мeнcтpyaцияx и нe пpиближaйтecь к ним, пoкa oни нe oчиcтятcя. A кoгдa oни oчиcтятcя, тo пpиxoдитe к ним тaк, кaк пpикaзaл вaм Aллax. Пoиcтинe, Aллax любит oбpaщaющиxcя и любит oчищaющиxcя!"
А вон там, на нижней полке, специальный раздел: "Юмористическая философия Землян".
– Не понял, – сказал я, глядя на сборники сказок. – Что тут философского?
– Ну как же, – Библиотекарь, несмотря на отсутствие эмоций, получал явное удовольствие, – приземленность и однообразие интересов телесного существования нигде так не выражено, как в сказках. Это только кажется, что в них – чудеса. На самом деле любой сюжет сводится к получению примитивного успеха, к торжеству плоти. Дурак на халяву приобретает царскую власть, замарашка – царственного мужа, лягушка – тоже. В большинстве случаев все чудеса сводятся к тому, что главный герой получает блага, пальцев не шевельнув, при помощи щуки, золотой рыбки, джина или горбатого коня.
– А как же, например, Красная шапочка? – возразил я. – Она, ведь, царицей не становится?
– Это другая группа сказок, иллюстрирующих примитивное толкование мироздания. Красная шапка, сиречь – Солнце, путешествует по небу, скрывается за горизонтом (съедается волком) и, спустя ночь, выныривает из взрезанного живота, чтоб вновь совершать движение. Ранняя философия материализма. Точно то же, что и введение в структуру сказок перспектив развития техники: гусли-самогуды, ковры-самолеты, телевизионные зеркала, сапоги-скороходы и прочее, прочее. Но, тем ни менее, основная тенденция сказок – реализация желаний, которые, увы, у существа, орбременного плотью, достаточно убогие.
– У вас так вообще ни плоти, ни желаний, – попытался я вступиться за соплеменников.
– Да, – не стал обижаться Библиотекарь, – одни иллюзии. Но есть гипотеза, что Послежизнь тоже всего этап перед следующим. В смысле, что как после жизни наступает Послежизнь, так и после Послежизни будет жизнь. Этим большинство из нас и живет, в смысле – не живет.
– Слушай, а как насчет сказки "Маша и медведи"?
– Это вообще не сказка.Так же, как: "Три рубля рублями...", – не стихи.
– Какие три рубля?
– Ну, считалка детская. Три рубля рублями, рубль пятаками, три копейки по копеки, рубль и пятак. Сколько получилось?
– А, ты имеешь ввиду, что это развивающие тексты, исполненные в занимательной форме. Большой, средний, маленький. Медведь, медведица, медвежонок. Между прочим, довольно неприятная история про эту Машу, вторжение в чужое жилище, воровство, хулиганство... Бедные медведи.
– Есть сказки вообще ненормальные, – было видно, что Библиотекарь прочно сел на любимую лошадь, – помнишь, про "Мальчика-с-пальчика"? Знаешь, как она начинается:
"Жил был однажды дровосек, и было у них с женой семеро сыновей: два близнеца по десять лет, два близнеца по девять лет, два близнеца по восемь лет и один младшенький семи лет. Он был очень маленький и молчаливый. Когда он родился, то был ростом не больше вашего пальца, поэтому его и назвали Мальчик-с-пальчик. Он был очень умен, хотя родители и братья считали его дурачком, поскольку он все время молчал. Но зато он отлично умел слушать собеседника. Дровосек был очень беден, и семья постоянно жила впроголодь. Однажды случилась засуха, и погиб весь урожай. Везде наступил голод. Однажды вечером дровосек сказал своей жене:
– Что же нам делать? Я люблю своих сыновей, но мое сердце разрывается от боли, когда я вижу, что они умирают от голода. Завтра мы отведем их в чащу леса и оставим там.
– Нет! Это было бы слишком жестоко, – вскричала его жена. Она понимала, что еды достать негде, но без памяти любила своих дорогих сыновей.
– В лесу у них есть шанс спастись, – сказал дровосек. – А дома они уж точно умрут.
Его жена зарыдала и согласилась..."
– Да уж, у это еще тот сказочник! – сказал я. – Помню, какая-то его история начинается вообще чудно: "Умерла бабушка. Внуки положили ее в мешок и повезли на базар продавать...". Вообще, литература деградирует уже давно. Маркиз Де Сад не только отнесен к числу писателей, но даже его имя стало корневым медицинским термином. Не имя Луи Пастера или Артюра Рембо, а имя маньяка, выродка. Расчетливый параноик Стивен Кинг зарабатывает на одной книге больше, чем хороший писатель Уильям Сароян получил за всю жизнь. Убогий позер Эдуард Лимонов на своих графоманских сочинениях имеет больше гонораров, чем имел талантливый Сергей Довлатов. И дело не в том, что толпа охотней пойдет на Петросяна, чем на Лебединое озеро. А в том, что благополучие людей искусства зыждется не на уровне их таланта, а на спросе их продукции. Недоумок Демьян Бедный получил от власти все, а гений Пастернак – фигу с маслом. Спрашивается, кто нынче читает вирши Демьяна? Коммерция и искусство – вещи несовместные. Признав человека талантливым, общество обязано избавить его от забот о хлебе насущном. Вернее, не общество – толпа безмозгла, а те, кто руководит этим двуногим стадом.
Библиотекарь достал откуда-то здоровенный фолиант, окованный металлом, сказал задумчиво:
– Вдумайся, человечество живет процентов на девяносто в плену звериных инстинктов. Поцелуй – доверительное кормление у обезьян изо рта в рот. Озноб при испуге или замерзании вздымает исчезнувшую шерсть – мурашки по коже, чтоб согреть или напугать врага. Потеющие ладони в экстремальной ситуации помогали взбираться по стволу дерева. Врожденная боязнь высоты – лишнее свидетельство того, что обезяноподобные предки жили на деревьях и нередко оттуда падали. Увлечение колекционированием чего-то – память другого звена предков, собирателей. Подростковые конфликты в семье – программа, побуждающая взрослеющую особь отделиться от стаи. Подростковые банды – стадный инстинкт многих молодых животных. Мужская неверность – естественная программа любого самца, заставляющая его стараться оплодотворить множество самок.
То, что считается характером, тоже инстинкты, программы животных, из которых строился человек. Жадность – причудливо преобразованный страх голода, привилегия слабых, внутренне неуверенных, потенциальных изгоев стаи. Обжорство – из той же группы инстинктов, животная привычка наедаться впрок.
И что ты хочешь от такого человечества?
– Ну, – сказал я, опасливо поглядывая на руки Библиотекаря, сжимающие книгу в бронзовой обложке, – я, собственно, сейчас не столько о человечестве думаю, сколько об этом мире, загробном.
– А зря! Мы – часть человечества, большая, кстати, часть. И мы обязаны думать о той бездне, из которой вылупились.
– Тут ты не прав, – сказал я, – Ницше говорил, что чем дольше вглядываешься в бездну, тем пристальней бездна вглядывается в тебя. У тебя можно взять что-нибудь почитать?
– Для того и сидим тут, проходи к столу, надо заполнить формуляр. На руки не больше двух книг. Залог не требуется.
Я сделал было движение к столику, но вспомнил о тяжелом фолианте и резко обернулся. И не зря – Библиотекарь уже поднял свое экзотическое оружие на головой. Моя реакция заставила его фальшиво улыбнуться.
– Смотри-ка, – сказал он, ставя книгу на полку, – привыкаешь. Молодец.
И добавил зачем-то:
– Коль hакавод.
5
Любопытно, что хотя языковых барьеров тут не существовало, речевые различия имели место. Это был не акцент, а, скорей, нечто интонационное. Немного не так примененная грамматическая форма, бедный или богатый набор слов, излишне удлиненные фразы или, напротив, излишне урезанные. Более того, многие вставляли, порой, обороты из родного языка. Так, наверное, звучали в девятнадцатом веке латинизмы в беседе ученых, всякие там "меа кульпа", "дикси", нота бене"... Собеседники слова понимали, но их присутствие было и естественно, и чуждо. Именно так, как прозвучало "коль hакавод" (молодец), разве что иврит в устах гнома был достаточно необычен. Хотя, кто их знает, этих гномов – каким древним наречием они пользовались при жизни и сколько их было этих наречий.
Я осваивался в номере, который ничем экзотическим не выделялся. Он состоял из гостиной и спальни. В гостинной имели место стол, полумягкие стулья и обширный шкаф. Я открыл его, на меня посыпались разнообразные скелеты. Я запихал их обратно и запер дверцу блестящим ключиком. "В спальне было особенно прохладно и уютно. Мне всегда хотелось иметь именно такую спальню, но никак не хватало времени этим заняться. Кровать была большая и низкая. На ночном столике лежал маленький переносной пульт управления телевизором. Экран телевизора висел на высокой спинке кровати, в ногах. А над изголовьем имелась картина, очень натурально изображающая свежие полевые цветы в хрустальной вазе. Картина была выполнена светящимися красками, и капли росы на лепестках цветов поблескивали в сумраке. Я наобум включил телевизор и повалился на кровать. Было мягко и в то же время как-то упруго. Телевизор заорал. Из экрана выско-чил нетрезвый мужчина, проломил какие-то перила и упал с высоты в огромный дымящийся чан. Раздался шумный всплеск. Мужчина скрылся в бурлящей жидкости, а затем вынырнул, держа в зубах что-то вроде разваренного ботинка. Невидимая аудитория разразилась ржанием... Затемнение. Тихая лирическая музыка. Из зеленого леса на меня пошла белая лошадь, запряженная в бричку. В бричке сидела хорошенькая девушка в купальнике. Я выключил телевизор, поднялся и вышел в коридор."
Коридор уходил в бесконечность. Это только снаружи пансионат казался небольшим, на самом деле он вмещал несколько миллионов номеров – технология Воланда. Что не мешало владельцу с каждым постояльцем работать индивидуально. Понятие очередей в Загробном мире отсутствовало напрочь. Сие казалось необъяснимым, но только лишь земной логикой. Библиотекарь пояснил мне, что каждый из очередных слегка смещен во времени, которое, как известно, бесконечно.
В глубине коридора кто-то активно шаркал шваброй. Причем шаркал весьма энергично, приближаясь ко мне с бесконечным постоянством. Некоторые черты энергичного уборщика показались мне интересными, поэтому я дождался, пока он не подшаркал почти вплотную.
– Ну и как работается? – спросил я ехидно, наблюдая за тем, как этот невысокий человечек отжимает швабру и выпрямляет спину, утирая тыльной стороной ладони обширную лысину.
– Благодагю, – ответил уборщик с оптимизмом, – пгекгасно габотается. Я, батенька, всегда мечтал о такой габоте, когда гезультат виден сгазу. Пгекгасное, знаете ли, место – этот Заггобный миг! Тут каждый неживет по способности и каждому неживущему выделяется по потгебности.
– Да уж, – сказал я грустно. Желание побеседовать угасло.
Из стены выплыл мой гид.
– Привет, Уля, – кивнул он уборщику, – ты я вижу цветешь.
– Я всегда неживее всех неживых, – гордо ответил поломой, энергично налегая на швабру. – Я – ваше знамя, сила и огужие.
– Это уж точно, – хмыкнул Мольер. – Владимир, вы отдохнули?
– Да что-то не отдыхается, – сказал я, – никаких следов усталости. Даже удивительно.
– Первое время живые неживые всегда так себя чувствуют, эйфория иллюзорного тела. А перекусить не тянет?
Я прислушался к желудку. Этот важный орган вел себя отстраненно, молчал.
– Тогда приглашаю на прогулку. В каком городе вы хотели бы совершить моцион?
Мольер исчез, а я вышел на площадь трех вокзалов и побрел, отмечая похорошевшее здание Казанского. Было ясно, что переход из социализма в свободный рынок сильно повлиял на быт россиян. Малоподвижные лица, покрытые потом, натруженные руки, закоченевшие в хватке на узлах, чемоданах и, непривычные мне пока, карманники, каталы с шариками или картами. Главное изменение, которое я отметил, заключалось в обилие детей всех мастей: от беспризорников-попрошаек до малолетних проституток. Когда меня повязали, Горбач только пришел к власти, но подобное развитие событий было невозможно вообразить. Невольно вспоминались романы Макаренко, "Республика ШКИД", детский дом имени Дзержинского, фотоаппараты ФЭД. Всплывшие было ассоциации (клифт, котлы, босяки, кусман, "у кошки четыре ноги", "на мою, д-на могилку, да никто не придет"), быстро погасли – нынешнее поколение бомжат было неплохо одето, упитано и не слишком дерзко. Некая расслабленная безразличность наблюдалась в детишках, будто все они обкурились травкой.
– Дед, а дед, – окликнул меня мальчуган лет десяти. – Дай закурить.
Грязноватый, но качественный джинсовый костюм, кроссовки, бесцветное, как бы пыльное, личико, большие темные глаза с выразительными ресницами. И странный запах, вызывающий в памяти стройку или столярный цех.
– Чем это от тебя пахнет, юноша?
– Клеем. Только я сегодня не нюхал, это еще со вчерашнего. Дашь закурить?
Клеем... да, припоминаю, кое-кто из зеков ловил кайф, нюхая клей "БФ". Сейчас его, вроде, переименовали в "Момент". Мерзкая штука, мозги выжигает моментом. Надо же, какой каламбур!
– Жрать хочешь, куряка?
– Я пить хочу. Купишь мне колу?
– Ну, пойдем. Заодно кое в чем меня просветишь, а то я тут первый день.
– Деревенский? Да, наша Москва крутая. Я тут все знаю, могу гидом быть. За стольник в час. Хочешь?
– Тебе сколько лет-то, гид?
– Тринадцать. Это я просто такой мелкий вырос. Потому что курю и нюхаю.
– Да уж! Вот тебе твоя кола, пей. А насчет того, чтоб экскурсоводом поработать, что ж – пошли. Только сперва я пивка выпью, головка еще немного бо-бо.
Мы устроились на открытом воздухе за Ярославским вокзалом в грязной кафушке, разбросавшей пластиковый комфорт вдоль железнодорожных путей. Пацан, выдувший бутылку колы, и от пива не отказался, так что попивали из пузатых кружек с выщербленными краями темное пивко, прикусывали солеными полосками какой-то сухой рыбы.
Вот еще одно, выразительное отличие от советской жизни – ни одна падла не обращала вимания на то, что ребенок пьет пиво наравне с мужиками!
Мне почти похорошело; я уже подумывал – не взять ли грамм двести "Кристалла", когда на аллее появилась эта парочка. Мальчик и девочка, лет четырнадцати, одетые обычно для подростков. Казалось бы, я не должен был концентрировать на них внимание. Но что-то в ребятах дисгармонировало с обыденностью. Шли они как-то пластично, расковано, с некоей грацией, не присущей стандартным людям. Девочка разговаривала по телефону, что не отражалось на плавной красоте движений.
Мы вообще не обращаем внимание на то, как ходим. А, если вглядеться, то станет ясно, что большинство двигается некрасиво, сковано, как-то рванно, грубо. Вон, семенит баба с кошелкой, наклонилась вперед, будто падает, успевая выставлять то одну, то другую толстую ногу. Вон шествует мужичок в шляпе. Будто на ходулях, вокруг тощих икр некрасиво обвиваются потертые брюки. Вон пацан куда-то спешит. Движения неорганичные, аритмичные, сам сутулится, дышит ртом.
Мой гид тоже обратил взор на подростков. Но привлекла его не грациозность, а нечто более меркантильное. Я не успел заметить быстрый его прыжок, а он уже выдернул из руки у девочки мобильник и дал деру.
Спутник девчонки не побежал за воришкой, хотя выглядел парнем крепким. Он сделал левой рукой загребающее движение, и я с удивлением увидел, как любитель нюхать клей с размаху шлепнулся на землю.
Вскочил, рванулся бежать, снова упал, связал поведение непослушных ног с жертвами, беспомощно оглянулся на них.
– Иди сюда, – спокойно и тихо сказал парень, – иди, мы ничего тебе не сделаем.
Как побитая собачка подплелся к ним незадачливый похититель телефонов, отдал мобилу, стоял понуро.
Девочка, будто взрослая дама, погладила его по голове.
– Не бойся, с кем не бывает. Подожди, сейчас я дам тебе немного денег. И не воруй, могут поймать и покалечить.
– Ребята, вы что – экстрасенсы? – не удержался я.
– Каждый человек в какой-то мере экстрасенс, – посмотрел в мою сторону парень. – Но в данной ситуации никакая магия не требуется, все банально до тошноты. А вам не следовало бы пить, у вас давление скачет, инсульт может быть.
Он смотрел на меня серьезно и спокойно. А так как я на время потерял дар речи, добавил:
– Тут тоже никакой магии, у вас лицо покраснело от прилива крови, верный признак повышенного давления.
– Чертовы вундеркинды! – не нашел яничего лучшего.
– Ты чё, – дедуля, – вступила девочка, – стрелы перепутал? Какие тут вурде-киды, тут нормальные пацаны.
Она пластично подсела на соседний стул и бесцеремонно положила ручку мне на ширинку.
– Перепихнуться не желаешь, дядя?
– Вы что, – сказал я сдавленно, – малолетние проституты, что ли?
– Тут спорная семантика, – убрала пацанка руку, – в женском роде логичней говорить о проститутках, а упоминая и женщин, и мужчин – лучше использовать эйфемизм. Например, развратные подростки. Или отроки легкого поведения.
Остатки хмеля испарялись, я совершенно не мог соориентироваться в происходящем. Хотя и славился находчивостью в экстремальных ситуациях.
Мой несостоявшейся гид тоже застыл столбом. Привычные ему стандарты поведения не укладывались в ситуацию. Впрочем, инстинкт беспризорного оказался сильнее разума: он сдвинулся вбок, почесался и припустил в сторону вокзала.
– Ты полагаешь, он может быть нам интересен? – спросила девочка.
– Возможно, – ответил мальчик, – негативный человеческий опыт, инфантильность и внутренняя надежда. Вполне возможно.
Они переговаривались поверх моей головы, это активировало мою сообразительность.
– Одно из двух, – сказал я, не глядя на них, – или вы не дети, или играете роли для кого-то другого.
– Или одно из двух, – подхватил пацан. – Хотите пройти с нами?
– Почему бы нет, – допил я последний глоток из кружки...
Площадь растаяла, ощущение похмелья исчезло, я стоял в бесконечности коридора, вдали шуршал шваброй вечно неживой Уля, из стены вновь материализовался Мольер.
– Аппетит не появился? – спросил он.
Я прислушался к кишечнику. Там была мертвецкая тишина.
6
– Человек – это животное, обремененное разумом. Постоянно подавляя животные инстинкты, мы все больше раздваиваемся, все больше вступаем в противоречия надуманного добра и надуманного зла. Вовлекать в секс детей – зло. Ходить по улицам голым – зло. Чавкать во время еды – зло. Быть патриотом родины – добро. Уступить женщине место – добро. Учить детей грамоте – добро. Вроде бы, все логично. Но прогрессирование маньяков, подростковая ассоциальность, невроз и гиподинамия у горожан – все это и многое другое свидетельствует, что общественные законы не идеальны, диктуются не столько естественным развитием, сколько навязаны элитной группкой для управления толпой. Лучше исходить из единственного критерия: все, что причиняет неудобства окружающим, плохо, все, что не причиняет неудобства другому человеку – хорошо. Следовательно, секс с ребенком допустим по согласию оного, табу на обнаженное тело абсурдно, во время еды, без свидетелей можно и рыгать и чавкать. Понятие патриотизма расплывчато, действенно только для солдат, а любые вооруженные соединения – зло. Женщины выносливей мужчин, уступать им место не следует. Грамота – способ дистанционного общения, не следует ли придумать другой, более естественный способ, чем создавать тысячи вариантов письменногой информации.
Мы с Жаном Батистом сидели в открытом кафе на Монмарте и потягивали из высоких бокалов абрикосовый сок. Льдинки льдисто и звонко тыкались о губы, пытаясь проскочить в рот. Невдалеке у фонтана бесхитростно играли дети. Их голоса звенели в зное, как льдинки в абрикосовом соке.
Ощущения были приятными: иллюзия зноя, прохлаждающая иллюзия напитка, иллюзия детской веслости. Умершие дети, как и взрослые обладали голым разумом, эмоций они были лишены, а следовательно веселиться не умели. Отголоски чувств сохранялись только у нас – преждевременно упокоенных, потенциальных возвращенцев.
– Прогрессивно мыслишь, – прокомментировал я филиппику Мольера. – Даже не верится, что продукт не в нашего века. Что же ты при жизни так из-за инцеста переживал.
– Врут! Врут историки, вовсе я не переживал. Это биографы потом наплели. – Он столь ярко среагировал на мою шпильку, что можно было заподозрить былую эмоциональность. Видимо, его разум, взращенный на чувствах (что естественно для артиста и писателя), обрел некое их подобие. – К тому же, в те годы мы все были одурманены религией, которая кровосмешение осуждала яро.
– Да ладно, – сказал я, – вовсе не хотел тебя обидеть. Я вообще в этих вопросах либерален: если оба хотят, то ни возраст, ни родственность значения не имеет. А ты чувственно себя ведешь, почти как живой. Будто тебе тут нравится.
– А "тебе разве не нравится рай, который ждет всех после смерти?" – спросил Мольер.
"Вместо ответа я нагнулся и сорвал травинку. Сунул ее в рот, прикусил. Травяной сок был горьким... вот только немножко недостаточно горьким. Я прищурился и посмотрел на слонце. Солнце сияло в небе, но его свет не ослеплял. Хлопнул в ладоши – звук был самую малость приглушен. Я вдохнул полной грудью – воздух был свеж... и все же в нем чего-то не хватало. Оставалась легкая затхлость, будто в покинутой квартире..."
– Увы, – сказал я, хотя вопрос и не требовал ответа, – никогда не верил в рай, а в аду жил при жизни. В сущности, любой рай – тот же ад, только растянутый в качестве. В аду мечтаешь об избавлении от страданий, а в раю – о возможности страдать. Ты мне обещал разъяснить иллюзию московской прогулки. Это что, сон был такой? И кто эти детишки странные?
– Это проекция того, что должно было с тобой произойти, если бы тебя не угробили раньше времени. Впрочем, это, возможно, и произойдет после твоего возвращения в жизнь. Если ты будешь возвращен в то же место и в то же время...
– А что, может быть иначе? Но, ведь, тогда будет изменена ткань реальности.
– Никакой реальности не существует. Течение событий завязано лишь на тебя одного. Весь мир, вся реальность наличиствует только в твоем сознании. А восприятие другого индивидума воспринимает другую реальность. Вот, к примеру, стоит стол. Он есть, пока ты на него смотришь, пока думаешь о нем.
– Но я же буду в другом теле! – воскликнул я.
– Тело... Тело – сие частность есть. Суть не в оболочке, а в содержании. Даже, обратись ты негром, элементы твоего бытия будут идентичные, как если б был ты в прежней телесности.
– Ну ладно, ладно, – сказал я поспокойней, – но что это за странные дети все же?
– Остатки ранней расы. Пралюди с генетической памятью. Фантасты их иногда именуют предтечами. Их волнует глобальное потепление, вызванное ошибочными технологиями. Поэтому они намерены вмешаться в человеческое бытие и слегка изменить приоритеты развития. Те, кто с тобой встретиться и кого ты принимаешь за подростков, на самом деле зрелые пралюди. У обладателей генетической памятью процесс физического формирования затягивается на многие десятилетия. Хотя пубертат наступает, как и у современных людей – в десять – двенадцать лет. Это, наверное, из-за того, что генетическая память включается только после пубертатного периода. Так что, у твоих будущих знакомых подростковое тело и тысячелетний разум. Чем-то они похожи на нас – разумных мертвецов.
– Надо же! – сказал я. – И чем же моя скромная персона заинтересовала таких мудрецов?
– Узнаешь, когда вернешься. Я и так сказал тебе больше, чем положено. Вам, временным покойникам, про то, что с вами еще не свершилось, знать не положено. Про то, что я сейчас сказал, ты и так узнал бы минут через пять, после знакомства с пралюдьми, а вот, что дальше будет, – узнаешь, когда оживешь. Официант, счет.
В руках у подошедшего официанта была массивная бутылка с кальвадосом. Я на всякий случай прикрыл голову руками, однообразные шутки старонежилов раздражали. Но официант только посмотрел на меня вожделенно и вручил бутылку Мольеру.
– Это от повара, – сказал он, – презент. Наш повар посещает все спектакли с вашим участием.
– Польщен, – сказал Жан Батист. – Передайте ему, что я польщен и благодарен. Ну что ж, Владимир, пойдемте к Сене. Я проведу вас переулками, в их тишине можно узреть истинный Париж.
Действительно, очарование закулисного Парижа трудно сравнивать. По крайней мере, ни чопорный переулочный Лондон, ни геометричный переулочный Нью-Йорк, ни расхристанный переулочный Рим и, уж тем более, ни тусклый переулочный Санкт-Петербург для сравнения не годятся. Возможно лишь Одесса могла бы чуток выступить на этом соревновании, да и то – та, советская.
Между тем стемнело. Над головой, за фигурными фасетками окон "два женские голоса запели какую-то музыкальную фразу, составлявшую конец чего-то.
– Ах, какая прелесть! Ну, теперь спать, и конец.
– Ты спи, а я не могу,– отвечал первый голос, приблизившийся к окну. Она, видимо, совсем высунулась в окно, потому что слышно было шуршанье ее платья и даже дыханье. Все затихло и окаменело, как и луна и ее свет и тени.
– Соня! Соня! – послышался опять первый голос.– Ну, как можно спать! Да ты посмотри, что за прелесть! Ах, какая прелесть! Да проснись же, Соня,– сказала она почти со слезами в голосе.– Ведь эдакой прелестной ночи никогда, никогда не бывало.
Соня неохотно что-то отвечала.
– Нет, ты посмотри, что за луна!.. Ах, какая прелесть! Ты поди сюда. Душенька, голубушка, поди сюда. Ну, видишь? Так бы вот села на корточки, вот так, подхватила бы себя под коленки – туже, как можно туже, натужиться надо,– и полетела бы. Вот так!
– Полно, ты упадешь.
Послышалась борьба и недовольный голос Сони:
– Ведь второй час.
– Ах, ты только все портишь мне. Ну, иди, иди..."
Опять все замолкло, но мы с Мольером знал слышали иногда тихое шевеленье, иногда вздохи.
– Да, – сказал Жан Батист, – только в Парижских переулках можно услышать такое.
– С чего это русская классика проявляется именно тут? – не понял я.
– Тут все проявляется, Париж есть Париж, – сказал Жан Батист. – Увидеть его и... ожить. Вот представь себе: "Осень. Ночь. Ветер завывает в пустых стволах, скрипят осины, дрожит земля. Глухая голубоватая дымка расстилается над холодным стеклом воды. Осень. Ночь. Полнолуние. Дикий Гон. Трепещи, всё живое! Мертвенная охота выехала на прогулку..."
Я поднял глаза к небу. И увидел, как "мчаться по небу призрачные девы, сжимающие выкованные из тумана копья, несутся прозрачные колесницы, клацают аршинные клыки жеребцов, черных, как сама Бездна, расплавленным железом горят глаза адских гончих. Дикий Гон! Величайшие владетели поднебесных земель, принцы крови, прекрасные юноши, служат здесь простыми загонщиками. Они посмели не бояться Дикого Гона и выехали в ночь похвалиться своей безрассудностью. Теперь они не помнят ничего – ни своих титулов, ни своих друзей, ни собственных земель, ни любовниц и детей. Вечная погоня за ускользающей добычей – вот их удел и смысл небытия. Дикий гон! Адские всадники. Бешеный ветер отстает от них. Бесшумно, но с нечеловеческим грохотом, бестелесно, но неукротимым ураганом, несуществующая, но вездесущая, мчится охота по небесным лесам. Дикий Гон. Они никогда не догонят свою цель. Это их проклятие и радость. Охота не кончится до конца времен. Те, кто раньше был людьми, эльфами, натуанами, животными, купцами, дворянами, сапожниками, королями, мужчинами, женщинами, детьми – будут и будут лететь сквозь тьму в бешеной призрачной скачке за неведомой жертвой. Вновь будут пропадать неосторожные путники, рискнувшие заночевать в лесу. Вновь будет сокол из лунного света садиться на костлявую руку Предводителя, обтянутую почерневшей кожаной перчаткой. Вновь будут ежиться в своих теплых постелях обитатели тех крошечных домиков внизу, на земле, не решаясь зажечь даже лучину. И вновь будут гаснуть звезды, глядя на это бесчинство. Дикий Гон! Лишь раз в году ты сметаешь тот покров, что отделяет нас от Вечности, лишь в эту ночь светит нам Другая Луна, а преграда между мирами истончается так, что мертвые видят те же сны, что и живые, а в не вылитой загодя из всех посудин воде отражаются чужие боги. Дикий Гон! Каждый из твоих охотников свободен – но все они рабы. Дикий Гон, ты прекрасен в своей неудержимости, но и страшен ты своей обреченностью..."