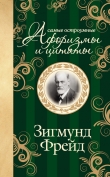Текст книги "Загробный(СИ)"
Автор книги: Владимир Круковер
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
– Ляля, иди сюда, – сдавленным голосом зову я.
– Ну, что там у тебя? – отзывается средний брат. – Я занят, мне собираться надо.
– Миша, – отчаянно зову я.
Старший брат бурчит в ответ нечто нечленораздельное. Ему, как всегда, не до меня.
– Мама, а мама... – безнадежно зову я.
Мама на кухне, она просто не слышит.
Тогда я с трудом отрываю глаза от ПАВЛИНА, который уже прошел мимо дома и удаляется вдоль по улице, ведущей к реке, бегу в комнату и хватаю первого попавшегося – Лялю, тащу его на балкон.
– Да пусти ты, – говорит брат, – вот ошалелый... Ну, что ты тут увидел?
"Вот же, ПАВЛИН сказочный..." – хочу сказать я, но павлина уже нету, ушел, так быстро ушел...
– Да так, ничего, – говорю я, – листочки на тополе уже распустились, лето скоро.
Брат несколько удивленно смотрит на меня, переводит взгляд на чахлые листики, вновь – на меня, недоуменно хмыкает, уходит с балкона и тотчас забывает о странном поведении младшего брата. А я смотрю в пустоту улицы. В ушах еще звучит цокот копыт, безумные краски оперения так и стоят перед глазами. Прекрасная сказочная птица, видением которой я хотел поделиться с родными, всегда будет цокать своими страусиными лапами в моей памяти, вызывая одну только горечь...
12
Читать я научился очень рано, сам собой. Наверное, нельзя не научиться читать, когда у тебя два старших брата, которые не только свободно читают, но еще и тебя этим дразнят: вот мы, мол, какие всезнающие.
Сперва братья не поверили, что я читаю, проверять начали, слова всякие трудные подсовывать. Ан нет, читает мелочь пузатая, и ничего ты с этим не поделаешь!
До сих пор жалею, что научился читать. Если бы не умел, то до сих пор жил спокойно. Работал бы рабочим, на свежем воздухе, а не сидел, скрючившись, за пишущей машинкой или компьютером. Не нахватался бы романтического идиотизма, рыцарских иллюзий, существовал бы себе практично, расчетливо.
К девяти годам у меня уже скопилась приличная библиотека. Тут были детские книжки обеих братьев, они ими уже не интересовались, были книжки которые мне дарили папа с мамой и некоторые гости, была книжка подаренная Валей Семенченко... Вообщем, много было книжек.
Особенно дорога мне была книжка, подаренная бабушкой. Это была большая старинная книжка с очень хорошими рисунками (папа объяснил, что это гравюры известных художников). На рисунках были изображены разнообразные сказочные чудовища. Некоторые были страшные, а некоторые – так себе.
Когда бабушка дала эту книжку внуку, мама проворчала:
– Ничего не выдумала лучше, чем ребенку давать работы Гойя?
На что бабушка ответила:
– Эту книжку ты в детстве в постель с собой клала...
И мама перестала ворчать.
Я любил эту книжку еще и за то, что она нравилась маленькой маме. Хотя представить себе маму маленькой не мог.
Вообще, из-за книг дома часто возникали споры и ссоры. Например, некоторые книги папа не разрешал читать даже старшим братьям, говоря, как они говорили мне – подрасти сначала. Эти книги стояли в шкафу в папином кабинете и створки этого шкафа запирались замочком, ключик от которого папа носил с собой. Я иногда разглядывал запретные книги и никак не мог понять, что же в них такого опасного для детей? Сами по себе книги выглядели скучновато, переплеты у них были без украшений. Не то что мои сказки или шикарная книга-альбом бабушки.
Я не зря заслужил прозвание отчаянного неслуха. Я давно выяснил, что дверку в книжный шкаф можно открыть без всякого ключика. Для этого надо вставит в щель около замка ножик и слегка надавить. Чтобы закрыть дверку надо было снова вставить ножик и плотно дверку прижать.
Однажды, когда никого не было дома, я вскрыл шкаф и стал просматривать книги. На обложках были только имена авторов и номера томов: "Том I? Том II, Том III". Номера были проставлены не привычными цифрами, а старинными, греческими. Фамилии авторов были еще более странные. Ну что, например, означают Эмиль Золя, Жорж Санд? Дяденьки это или тетеньки?
Я выбрал автора с наиболее таинственной фамилией – Ги де Мопассан. И стал читать с самого начала.
Это были рассказы. Но, в отличии от рассказов про Вини Пуха или про Дениску писателя Драгунского эти рассказы были длинными. И в них встречалось множество не вполне понятных слов.
Перескакивая со страницы на страницу, я частично одолел один такой рассказ. Там одна девчонка по имени Жаннета часто ездила в город по делам не телеге парня, который возил уголь. И этот парень, управляя лошадью, то и дело на тетеньку оборачивался и подмигивал ей. Зачем он ей подмигивал, нигде не объяснялось. А, когда они приезжали и ей надо было сходить, он предлагал ей: "Побалуемся, Жаннета". Жаннета отчего-то смущалась, она или боялась родителей или просто не умела играть в мальчишеские игры. А ведь баловаться, это так здорово, никто из знакомых мне пацанов и девчонок, кроме, пожалуй, ябеды Клавки, не отказался бы побаловаться. Особенно во время урока.
Дочитать до конца историю про трусливую девчонку и чумазого парня-баловника я не смог. На всякий случай заглянул и в другие книги, но там были еще более длинные и еще более скучные истории.
Я вставил нож, аккуратно прижал дверцу, чтоб язычок замочка вошел на место и, вздохнув, ушел из папиного кабинета.
Мне было жалко взрослых, которые вынуждены читать такие неинтересные книги.
13
Со смертью сталкиваются многие дети. И остро осознают ее, стараясь, тем ни менее, не признать, не впустить в мысли то, что кажется им несправедливостью. Сейчас, когда я сам дедушка, мысли о смерти меня не пугают. И память, как выясняется, хранит мельчайшие детали первой встречи с тризной. И шершавую, "нечеловеческую" кожу бабушкиного лба, который я зачем-то обязан был поцеловать, и дикарскую нелепость похорон в земле с последующей обильной жратвой, и непомерный вой-плач у могилы, который, по традиции, испускают армянские женщины...
Помню и страх от маминого стенания; настолько это было несовместимо с интеллигентной мамой, обожающей, правда, покрикивать на сыновей и отца, и никогда не плакавшей, не выказавшей горя на людях.
Спустя несколько лет умер отец, и опять мать вопила и рвала свои густые волосы. И это было ужасно!
Рядом с папиным кабинетом была комната бабушки. Вернее, комнатка. Возможно, эта комната была и большая, но из-за бабушкиных вещей казалась маленькой.
Треть комнаты занимал сундук. Такой сундук, в котором можно было бы жить, если б бабушка разрешила. Сундук запирался фигурным ключом, замок был с музыкой: когда бабушка поворачивала ключ, замок играл "Эх, полна, полна коробочка, есть и ситец и парча...".
Сундук был полон сокровищ. Там была жестяная коробка с сосательными конфетами монпансье, вся разукрашенная, как шкатулка. Там было домино из сандалового дерева, это дерево и все, что из него сделано, пахло загадочным запахом. Там был альбом, в котором на коленях молодой бабушки сидела девочка с косой – моя мама. Там была коробочка из под ваксы, на которой был нарисован черт во фраке, изо рта у черта выходила надпись: "Мылся, брился, одевался, Сатана на бал собрался". Там были старинные куклы с фарфоровыми лицами, в которые даже я не отказался бы поиграть, хотя и не был девчонкой. Там была старинная книга в желтом переплете из кожи, которая застегивалась на медную застежку. Бабушка объясняла, что это божественная книга Четки Минеи и трогать ее нельзя. Там была медная ступка с пестиком, в которой бабушка толкла грецкие орехи к праздничному пирогу. Много чего было в бабушкином сундуке, но мне не позволялось туда лазить.
Всю стену комнаты занимал особый шкаф, который бабушка называла буфетом. Это был настоящий замок, с переходами, башенными шпилями, карнизами и балконами. Все было резное, а на каждой дверке и дверочке была блестящая медная ручка. На дверках были вырезаны выпуклые виноградные грозди и листья. В буфете у бабушки тоже хранились разные занимательные вещи. Чего стоила, например, пивная кружка из серебристого металла, сделанная в форме толстого человека. Крышкой для кружки служила шляпа этого толстяка. На балконах и карнизах буфета стояли китайские вазы и фарфоровые гномы.
У бабушки болели ноги и она все время сидела в кресле-качалке с полированными подлокотниками. Кресло было обтянуто розовым бархатом, а на сидение и под головой были подушечные валики. Иногда бабушка вставала, опираясь на клюку и позволяла мне покачаться на своем кресле. Это было здорово.
Сама бабушка была маленькая с громким голосом. У нее было морщинистое лицо, даже нос был с морщинками, а под носом на верхней губе длинные седые волоски. Бабушка была очень старая, но очки одевала редко, только когда читала свои Четки Минеи. Папа и мама были гораздо моложе ее, но очки носили почти постоянно.
Раньше бабушка сама ходила в магазины и на рынок, но потом у нее стали болеть ноги она даже по квартире ходила медленно, постукивая клюкой.
В доме бабушка была главная. Ее слушались и мама, и папа, и старшие братья. Я не хотел слушаться, поэтому часто ссорился с бабушкой. Тогда она называла меня неслухом и говорила, что яблоко от яблони недалеко падает. Под яблоней она подразумевала папу, хотя я считал, что должен гордиться, тем что похож на папу.
(Став старше, я узнал, почему бабушка недолюбливала папу. Дело в том, что мама была армянка, а папа – еврей. И жили они в городе Ростов-на-Дону, где тепло и где, в особом районе Нахичивань, жили одни армяне. А мама училась в филиале Варшавского медицинского института, где папа преподавал. Когда они поженились, то на папу сердились его родственники – евреи, а на маму – ее. И они уехали в Сибирь, на край света. А потом у бабушки все поумирали и она согласилась приехать к маме. Вот такая история, непонятно только, чем евреи хуже армян – и те, и другие носатые, глазастые...)
Бабушка знала множество сказок и других загадочных историй. Однажды она рассказала, как дала самому красному командарму Буденному напиться воды из кувшина, когда его конармия проходила мимо их деревни.
– Охальник, – рассказывала бабушка, – попил и давай руки распускать. Я его огрела, конечно, мокрым полотенцем. А сам, когда с коня слез, маленький и ноги кривые, только усы торчат из под папахи.
Я не знал, как можно распускать руки, но что бабушка здорово дерется мокрым полотенцем, испытал на собственной спине.
...Однажды бабушка несколько дней не вставала с кровати, около нее сидела специальная медсестра, в доме часто собирались папины знакомые врачи, которые надолго уходили в бабушкину комнату, а выходили оттуда озабоченные, разговаривая на латыни.
Потом старший брат Миша взял меня с собой в кино на дневной сеанс. После кино мы не пошли домой, а пошли гулять в парк, где Миша разрешил мне покататься на всех каруселях и качелях. Домой мы вернулись уже вечером. А бабушки уже не стало.
Нельзя же было считать, что та восковая кукла с неживым лицом, которая лежала в длинном ящике, оббитом шелком, – это бабушка.
Потом была печальная музыка, кладбище, где это неживое существо зарыли, и мне сказали бросить в яму горсть земли, и я бросил, стараясь не шевелить почему-то онемевшими губами.
Потом все вернулись в дом, сели за стол и стали есть и пить. Мне тоже положили в тарелку любимые шпроты и буженину, но я не хотел есть. Я соскользнул со стула и ушел в бабушкину комнату, где не было бабушки.
Я трогал руками крышку сундука, резные виноградины на буфете, полированную перекладину кресла-качалки, гладил их. Потом поднял с бабушкиной кровати серый пушистый платок, который всегда был на плечах у бабушки, прижал его к лицу.
Платок пах бабушкой...
14
Никогда не возвращайся туда, где тебе было хорошо! Ей-бо, закон такой, жизненный. Сколько я не пытался вернуть прошлое – все зря. Это, как река, в которую нельзя войти дважды.
За гаражами было место, куда можно было сбегать пописать. Впритык к загоражному закутку находился кусок забора, отделявшего двор от больницы. Как-то я, застегнув штанишки, посмотрел в щель этого куска забора и увидел, что там играют двое мальчишек. Один вглядел чуть помладше меня, а второй – чуть постарше.
Тогда я залез на этот кусок забора и высунул голову над его верхушкой.
Мальчишки меня заметили.
– Здорово, – сказал младший.
– Перелазь к нам, – сказал старший.
Я перелез. И мы начали играть, будто были давным-давно знакомы.
Мы играли в выжигалы, втроем это можно. Мы играли в прятки, на больничном дворе было где спрятаться. Мы играли в замерь старыми монетками. Потом немного устали, уселись в больничной беседке и стали играть в города.
Я выиграл.
А потом стемнело и мальчишки стали торопиться домой. И я вновь перелез через кусок забора в свой двор и побежал домой. Где, конечно, получил лупку от мамы за то, что так поздно пришел и не откликался на ее призывы из окна. Не мог же я объяснить, что маму не слышал, потому что во дворе меня не было. В "своем" дворе.
Назавтра я собирался снова туда пойти и наиграться от души, но мама в наказание меня не пустила на улицу вовсе. Пришлось сидеть дома. Это было не столько скучно, сколько обидно.
Вырасту, думал я, и никогда своим детям не буду запрещать гулять, сколько они хотят!
Лишь послезавтра я смог вырваться на улицу и сразу побежал в загаражный закуток, вскарабкался на кусок забора и спрыгнул в больничный двор.
Мальчишки были там. Но они не хотели играть. Они сидели под деревом, так что их из больницы не было видно, и курили.
Я как-то пробовал курить. Не понравилось. К тому же, я был сыном врача и знал сколько вреда приносит человеческому телу курение.
– Курить будешь? – спросил младший.
– Не-а, – сказал я.
– Что так? – спросил старший.
– Неохота. Недавно курил уже.
– У нас хорошие сигареты, с фильтром, – сказал младший. – В этом фильтре все нехорошее остается, он потом такой желтый становится.
– Все равно не хочу, – сказал я.
– Нам больше останется, – сказал старший.
Странно, подумал я, столько играли, а я не знаю как их зовут. А они – как меня зовут.
Я хотел спросить, а потом передумал. Потоптался с ноги на ногу и сказал:
– Я пойду, наверное...
– Иди себе, – сказал старший.
А младший ничего не сказал, только головой мотнул – иди, мол.
Я медленно пошел к забору. Я все наделся, что меня окликнут. Но они не окликнули. Я перелез через забор в "свой" двор и пошел домой. Расхотелось почему-то гулять.
15
Чем больше я разочаровываюсь в людях, тем больше меня тянет к животным. Несмотря на банальщину этого утверждения, есть в нем и некое зерно. Всегда тянулся к собакам и лошадям. Специально пошел в милицию, чтоб работать с собаками. Стал профессиональным кинологом. На старости лет многое узнал о кошках, полюбил их. Работал с дикими животными, не уставал восхищаться. Одну из первых книг посвятил зооцирку, где тоже ухитрился поработать.
В квартиру Роза вошла на цыпочках. Вежливо приблизилась к хозяйке. Кусочек сахара взяла деликатно, одними губами. (Потом мы узнали, что сахар она терпеть не может). Схрумкала его. Легла на коврик. Поблагодарила хвостом и расслабленно прикрыла глаза.
Розу привел старший брат. Не для себя – мама не разрешила бы заводить собаку, а для учительницы, которая подтягивала Мишу по химии. Он взял ее в питомнике для бродячих собак бесплатно, но дарить учительнице тощую, жалкую псину было неприлично.
Самое удивительно, что старый кот Буська, ненавидевший всех собак на свете, Розу признал. Наверное, он считал ее особой собакой, домашней, хозяйской, не имеющей отношения к диким собакам на улице.
Уже через месяц, она вошла в тело, шерсть лоснилась от сытости и спокойной жизни, глазенки стали озорными и доверчивыми. Забот она не доставляла никаких: гулять ходила всего раз в сутки, сопровождения не требовала. Уж чего-чего, а самостоятельности ей было не занимать.
Я одел Розе на шею громадный бант голубого цвета и ее на машине отвезли в другой конец города.
А еще через десять дней Роза вернулась. Замерзшая, грязная, с четким скелетом под свалявшейся шерстью, ждала она нас в подъезде. Подползла на животе, умоляя нагноившимися глазами. "Недоразумение произошло, – шептали эти глаза, – вы, наверное забыли меня в той чужой квартире".
Как нашла Роза дом, каким образом запомнила дорогу в стремительной машине, чем руководствовалась, возвращаясь?!
Потом жила Роза с в нашей семье долго, много загадок загадала своим поведением, много радости доставила своим существованием. Что-то забылось, что-то помнится.
В маленьком преданном существе было что-то непомерно важное, вырывающее из привычного и заставляющее человека напряженно думать.
Но взрослые есть взрослые, извечная суета заедает их, задумчиво почесывая собаку за ухом, они рассуждают о трудном завтрашнем дне, о семейных неурядицах. И только нечто из ряда вон выходящее приковывает внимание к "меньшему члену семьи". Но ненадолго. За пять лет совсем забылось Розино возвращение, а в остальном она вела себя достаточно обыденно.
Потом изменилось многое. Чувствовала ли она надвигающийся переезд или только напряжение в доме? Хуже стала есть, на улицу просилась только по необходимости и сразу бежала обратно. По дому ходила тихо, не шалила, вопросительно заглядывала в глаза.
Уже нашли ей нового хозяина, человека хорошего, познакомили их, уже собирались передать Розу ему совсем, как обнаружили, как пропала собака исчезла.
Искали долго: любили, привязались, хотели, как лучше – не нашли.
А на вокзале перед самым отходом поезда вдруг увидели ее и не сразу узнали, не сразу поверили.
Роза стояла в пяти шагах от движущегося поезда. Стояла напряженно, скованно. Смотрела на узкую площадку тамбура, где взмахивали руками, бестолково гомонили предавшие ее люди. В глазах собаки что-то стыло, но что – не разглядеть.
А поезд набирал скорость, маленькая рыжая фигурка таяла, исчезала.
Плакал только я, потому что еще не был взрослым.
***
Это был не просто кот. Это был котяра, котище. На задних лапах он доставал мне до живота.
У него были великолепные усы, дымчатая короткая шерсть на всем теле, которая на щеках превращалась в длинные бакенбарды. Как у поэта Пушкина на картинке в книжке "Сказки Пушкина".
Когда Буська мурчал, слышно его было во всех комнатах.
Еще Буська ненавидел собак. Он выходил во двор и принимался смотреть во все стороны, неторопливо поворачивая свою большую голову с блестящими усами и дымчатыми бакенбардами. И, если он видел собаку, то начинал идти в ее сторону странной походкой. Он шел на прямых, пружинистых лапах, как-то боком, а его хвост, раздувшейся, словно полено, бешено бил кота по бокам.
Мало какая собака могла выдержать такую атаку. Папа говорил, что такая атака называется психической. Психическая атака кота Буськи.
Буська никогда не делал свои делишки в доме. Таз с песком напрасно дожидался его визита. Когда Буське требовалось он подходил к входной двери и выразительно говорил: "Мяу-у". Всего один раз. И ждал. Если кто-то из домашних не выходил сразу на его зов, Буська повторял это кошачье слово, только звучало оно немного иначе: "Мя-я-ууу". На этот раз его слышал даже соседи.
Выйдя на улицу Буська сперва проверял двор на наличие собак, а потом уходил в закуток между забором и гаражами. После этого он совершал неторопливый обход всего двора. Он здоровался с людьми – в этом дворе его знали все, высокомерно отвергал попытки погладить, никогда не оборачивал голову на унизительное "кис, кис", реагируя только на свое имя.
Среди других кошек, населявших двор он выделялся, как слон выделяется среди табуна лошадей. И эти кошки всегда выходили его встречать, рассаживались около окошек подвалов и подъездов и смотрели на него, как солдаты смотрят на генерала.
У меня с Буськой отношения были сложными. Во-первых, непонятно было, кто из нас старше. На свете кот прожил столько же, сколько и я, но кошачий год несравним с человеческим, ведь коты живут не больше 12-15 лет. Поэтому, если считать по кошачьи, то Буська был ровесник моему папе. С другой стороны, Буська все же не носил пиджак с галстуком и очки, не имел права поставить меня в угол и не приносил домой зарплату.
Во-вторых, кот относился к мне, если не как папа, то как мамин брат дядя Фадя – строго, но терпеливо. Поэтому я мог иногда встретить в Буське полное желание играть, а иногда кот отгонял меня одним намеком на свои острые когти. Хотя, дальше угроз дело никогда не шло, и если я, разыгравшись, продолжал приставать к коту, тот просто запрыгивал на верхушку буфета и оттуда иронично посматривал на меня.
Особую симпатию Буська питал к бабушке, хотя старушка ни разу его не погладила, и обращалась к нему без всякого уважения, называя кота бабником и лентяем. (Почему, кстати, кот может быть бабником, я так и не понял, а узнать у родителей постеснялся, сам не зная почему. Может потому, что после того злополучного поцелуя меня тоже звали бабником).
Когда бабушки не стало, Буська долгое время ходил сам не свой, часто просился на улицу, а, возвращаясь, сразу бежал в бабушкину комнату. Потом Буська пошел гулять и не вернулся. Его искали по всему двору, кричали, расспрашивали соседей. Кот не нашелся.
Прошло три дня. я ходил кислый, вспоминал, как Буська сам открывал двери, повисая на передних лапах на ручке, а задними отталкиваясь от косяка. Как Буська прыгал иногда ко мне на диван и ложился на колени (полностью он на коленях не помещался, там располагалась лишь передняя часть кота), позволяя чесать бакенбарды и включая свое мурлыканье, напоминающее работу мотоцикла на холостом ходу.
А на четвертый день мы поехали к бабушке на могилку. мне тоже дали цветы и я положил их в изголовье земляного холмика, туда, где стояла деревянная каланча с бабушкиной фотографией.
И, вдруг, из-за памятника раздалось "Мя-у" и вышел Буська. Он похудел, его бакенбарды как-то обвисли, и усы не торчали задорно, а тоже висели. Но вел он себя с прежней независимостью: подошел и сел у маминых ног.
А когда мама наклонилась и погладила его, замурчал, будто заработал мотоциклетный мотор.
16
Васька из моего детства был скверный мальчишка. Его усыновили из детского дома врачи, у которых не могло быть детей. И он, когда немного подрос, приносил им одни огорчения. Вот и не говори о наследственности!
Я встретил Ваську в Ялте спустя лет 20 после детства. Он унаследовал от родителей достаточно, чтоб спокойно жить на море и не работать. А родители умерли рано, считалось, что это он загнал их в гроб.
Сомневаюсь. Он, конечно, был пакостником, но приемных родителей обожал. Этакая смесь любви и благодарности. Хотя, его проступки несомненно ускорили кончину. Так часто бывает, кого любим – того и губим. У меня самого так...
Если бы я знал, я бы никогда не пошел.
Но я не знал, и поэтому, когда Васька таинственно поманил в заброшенный сарай, я зашел туда и начал всматриваться – в сарае после солнечного двора было пасмурно.
Васька звал туда, где громоздились обломки досок и мусор, в самый угол. Из этого угла донесся странный звук, будто пискнул игрушечный мишка с клапаном на животе.
Я пробрался среди обломков сарая, стараясь не наступить тоненькими тапочками на ржавые гвозди. В углу что-то лежало, из этого что-то торчал лом.
Я чисто механически коснулся увесистой палки лома. То, что лежало, шевельнулось и опять издало тот самый звук.
И вдруг я понял, что это кошка. И что лом проходит через ее тело.
– Кто это ее? – спросил я хрипло.
В горле почему-то пересохло, а лицо горело, будто мне надавали пощечин.
– Подыхает, – как-то выразительно сказал Васька, – не будет теперь мяукать под окнами. Ты не бойся, она ни чья, бродячая.
Я попятился. Я пятился, пока не вышел из сарая.
И, когда шел домой, казалось, что я иду задом наперед, что я продолжаю пятиться, и что этот сарай никогда не кончится.
Дома никого не было.
Я вспомнил бабушку и с какой-то взрослой ясностью осознал, что никогда ее больше не увижу. Что она умерла.
Потом решительно прошел в детскую, в комнату братьев, достал из Мишиного шкафа (куда мне было запрещено лазить) пневматическую винтовку (которую мне строжайше было запрещено трогать), коробку пулек, с трудом согнул ствол, чтоб поршень наполнился сжатым воздухом, вставил пульку и пошел на кухню.
Окна кухни выходили во двор. Я подставил табуретку, открыл окно, тщательно прицелился одним глазом, прищурив второй, и выстрелил в Ваську.
Я не мог попасть, с такого расстояния легкая пулька просто бы не долетела. Да и звук от воздушки был тихий, пукающий.
Но я вновь переломил ружье и вновь выстрелил.
И я стрелял бы еще, если бы за моей спиной не появился Миша (я не слышал, когда он вошел).
Миша растерялся от наглости младшего брата, забрал ружье, закрыл окно. Потом он посмотрел мне в лицо и растерялся еще больше. Он впервые видел такое лицо у своего брата, он даже не знал, что у малышей могут быть такие лица.
И Миша не сказал родителям про ружье и про мое преступление.
Потому что Миша, хоть и был на десять лет старше, еще не познал, что такое смерть и что такое ненависть.
У него было легкое детство.
17
Воспоминания – всегда ерш. Из смешного и серьезного, из грустного и светлого, из «да» и «нет», из «ага» и «ого!» Этот ерш, порой, пьянит не хуже вина.
Когда Красная шапочка встретила вместо Волка меня она страшно удивилась.
– Куда идешь, Красная шапочка? – важно спросил я.
– К бабушке, – ответила Красная шапочка по инерции, – она заболела.
– Покушать ей несешь? – продолжил допрос я.
– Естественно, – сбилась с продуманного ответа Красная шапочка.
– А волков не боишься? – грозно спросил я.
– Боюсь, – сказал Красная шапочка, – но что делать, так в сказке.
– Сказка – ложь, но в ней намек, – процитировал я, – добрым молодцем урок.
– Вы что несете? – спросила учительница. – В сказке такого текста нет.
– Но он же не Волк, – возмущенно сказала Красная шапочка, – он – Вовка.
– Вова, ты что делаешь на сцене? – сказала учительница.
– Я хочу играть в пьесе, – сказал я. – Только не Волка, а – себя.
– Так не положено, – сказала учительница. – И вообще, Красную шапочку играет Лиза Застенская, а Волка играет Сидоров. Где Сидоров?
– Тут я, – сказал толстый Сидоров, пряча конфету, полученную от меня за щеку, – мы с Вовочкой поменялись, и у меня зуб болит.
Учительница посмотрела на толстую щеку Сидорова:
– Да у тебя же флюс, тебе к врачу надо.
– Еще чего, – гордо сказал Сидоров и убрал конфету из-за щеки.
– Теперь нету флюса, – жалобно сказала учительница.
– Не будет тебе Волка, – тихо сказал на сцене я Красной шапочке. Глупости все это, волки не разговаривают. Лучше вместо него буду я.
– Но ты же не можешь меня съесть, – заметила Красная шапочка. – Вовочки детей не едят.
– Как знать, – загадочно сказал я, – всяко бывает.
– Где твой флюс? – не унималась учительница.
– Какой такой плюс? – отбивался толстый Сидоров...
...Запись в дневнике: "Ваш сын сорвал репетицию спектакля, прошу родителей зайти в школу".
18
Я в детстве был трусоват. Я и сейчас трусоват. Но несколько раз бывали в моей жизни, когда трусить было еще опасней, чем проявлять смелость. И я ее проявлял. От страха.
Странно устроен человек, когда он маленький. Все смеются, а мне плакать хочется. Бывает наоборот. А иногда, когда волнуюсь, слезы сами текут. Или задыхаться начинаю, особенно, если поплачу. Хочу что-то сказать, а вместе со слезами сопли текут и горло что-то сжимает, одно иканье получается.
Так же и со смехом. Нападет порой смех в такой серьезной ситуации, что все на меня ошеломленно смотрят. А я смеюсь.
Папа говорил, что это истероидный смех, для разрядки нервного напряжения. Но я никогда истеричным не был, истерики – это любимое занятие ябеды Клавки. Как начнет визжать ни с того, ни с чего. Или рыдать, будто на могилке Неизвестного солдата.
Нет, маленький человек устроен не совсем правильно. И странно. Хотя от этих странностей не только вред бывает.
Попал как-то я в неприятность. Мы с Лизой из школы шли, ее портфель нес. И захотел я Лизе стрекоз показать. В старом котловане, где когда-нибудь построят дом, после дождя получилось настоящее озеро, и над ним летали громадные стрекозы с крыльями из слюды. Они летали совершенно бесшумно, не то что мухи или жуки, и выписывали над неподвижной водой разные фигуры. Как будто фантастические самолетики с махающими крыльями. Махолетики.
И тут у самого котлована нас встретило трое больших мальчишек.
Я немного знал этих мальчишек, они водились с Васькой. А Ваську я не любил, побаивался и, после страшного случая с кошкой, вообще обходил его стороной.
Каков Васька – таковы его друзья. Мальчишки сразу окружили нас, дернули Лизу за косичку и стали громко говорить всякие гадости.
– Смотри, какой ухажер, – сказал один, с рыжей челкой.
– Этот пацан из Васькиного двора, – сказал второй. – Он что, девчатник?
– Давайте их в озеро бросим, – сказал третий, – там, говорят, сом живет огромный, а сомы человечину едят.
– Не едят, а сосут, – поправил его с рыжей челкой.
Они так стояли и разговаривали, будто были совсем одни и будто не обо мне с Леной говорили. И это было очень неприятно. У мне внутри все сжалось и я испугался, что описаюсь.
И этот испуг все изменил. Оказалось, что страшней мальчишек, страшней загадочного сома, который сосет человечину, описаться на глазах у Лизочки Застенской.
И я хотел что-то сказать, даже подраться, хотя как бы я дрался с тремя здоровенными мальчишками, и, вдруг, засмеялся.
Я засмеялся, нагнулся, поднял здоровенный булыжник, так что камень едва в руке поместился, и, продолжая смеяться, пошел на того, что с рыжей челкой.
Смех вышиб слезы, сквозь повлажневшие глаза я, как сквозь запотевшее стекло, увидел, что рыжий отступил, и тогда я повернулся к остальным мальчишкам, смеясь все громче, до рвоты...
Очнулся я потому что Лиза вылила мне на голову воду из котлована. Вода была вонючая, пахла тиной и еще чем-то противным. Оказалось, что я сижу прямо на траве и по-прежнему сжимаю в руке булыжник. А мальчишек нет. Убежали.
– Ты их напугал, – сказала Лиза. – Ты так страшно смеялся, будто Кащей Бессмертный.
Я скосил глаза на штанишки. Нет, все нормально, они были сухие.
– Какой еще Кащей? – спросил я.
– Ну тот, из кино, помнишь, про Василису Прекрасную.
– А-а-а, – сказал я.
И подумал, что все-таки маленькие люди устроены странно.
И мы пошли домой, совсем забыв про стрекоз. И уже у самого дома, когда Лизочка помахала рукой и пошла себе, я окликнул ее:
– Слушай, а он что, хороший что ли?
– Кто?
– Да Кащей этот, из кино.
– Нет, что ты. Он противный и страшный. Это я так сказала, для сравнения. Ты не такой. Ты смелый.
19
Когда дочка была маленькая, она как-то рассказала мне про большое дерево, в котором живут маленькие человечки...
Пришел я домой, а там один брат Миша. Сидит, ждет телефонного звонка от кого-то. Скучает.