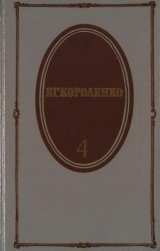
Текст книги "Том 4. История моего современника. Книги 1 и 2"
Автор книги: Владимир Короленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 51 страниц)
Вечером отец рассказывал, что когда они проезжали мимо тюрьмы, повстанцы, выглядывавшие в окна, тоже подумали, что «судью арестовали», и стали громко ругать жандарма…
Отец по должности принимал участие в комиссиях, в которых этот красивый офицер, с приятным, ласковым звоном шпор, был одним из самых свирепых членов. Другие чиновники, с местными связями, были мягче.
Однажды, вернувшись из заседания, отец рассказал матери, что один из «подозрительных» пришел еще до начала заседания и, бросив на стол только что полученное письмо, сказал с отчаянием:
– Я не защищаюсь более… Делайте что хотите… Мой сын ушел в отряд и – убит…
Жандарма и прокурора еще не было… Отец, взглянув на остальных членов комиссии, отдал старику письмо и сказал официальным тоном:
– Заседание еще не открыто, а частные разговоры здесь неуместны.
Через несколько минут вошел жандарм, но старик уже овладел собою и спрятал письмо. Его личное дело окончилось благоприятно, и семья была спасена от конфискации имущества и разорения.
Казней в нашем городе, если не ошибаюсь, было три. Казнили так называемых жандармов-вешателей и примкнувших к восстанию офицеров русской службы.
Я помню только одну. Казнили бывшего офицера, кажется Стройновского. Он был молод, красив, недавно женился, и ему предстояла блестящая карьера. Он был взят на месте битвы, и – «закон был ясен»… Не знаю, стояла ли подпись отца в числе других под приговором или нет, но никто не питал к нему по этому поводу никакой горечи. Наоборот, уже приговоренный, Стройновский попросил, чтобы отец посетил его перед казнью. На этом свидании он передал отцу какие-то поручения и последний привет молодой жене. При этом он с большой горечью отзывался о своем бывшем отряде: когда он хотел отступить, они шумно требовали битвы, но когда перед завалами на лесной дороге появились мужики с косами и казаки – его отряд «накивал конскими хвостами», а его взяли… Умирал он с горечью и сожалением, но мужественно и гордо.
Романтизм, которым питалось настроение восставшей тогда панской молодежи, – плохая военная школа. Они вдохновлялись умершим прошлым, тенями жизни, а не самой жизнью… Грубое, прозаическое наступление толпы мужиков и казаков ничем не напоминало красивых батальных картин… И бедняга Стройновский поплатился за свое доверие к историческому романтизму…
Был яркий светлый день в июне или в июле. С утра было известно, что за Киевской заставой, на пустыре, около боен, уже поставлен черный столб и вырыта яма, поэтому все в этот день казалось особенным, печально-торжественным, томительно-важным. В середине дня в светлом воздухе тяжеловато, отчетливо, ясно прокатился глухой короткий удар, точно в уши толкнулся плотный круглый комок… И с ним как будто раскрылось что-то среди этого ясного дня, как раскрывается облако от зарницы… Облака не было, не было и зарницы; светило солнце. А между тем что-то все-таки раскрылось, и на одно мгновение из-за ясного дня выглянуло что-то таинственное, скрытое, невидимое в обычное время.
Это было мгновение, когда заведомо для всех нас не стало человеческой жизни… Рассказывали впоследствии, будто Стройновский просил не завязывать ему глаз и не связывать рук. И будто ему позволили. И будто он сам скомандовал солдатам стрелять… А на другом конце города у знакомых сидела его мать. И когда комок докатился до нее, она упала, точно скошенная…
Повторяю: я и теперь не знаю, стояла ли подпись отца на приговоре военно-судной комиссии, или это был полевой суд из одних военных. Никто не говорил об этом, и никто не считал этого важным. «Закон был ясен»…
XIII. Кто я?Восстание умирало. Говорили уже не о битвах, а о бойнях и об охоте на людей. Рассказывали, будто мужики зарывали пойманных панов живыми в землю и будто одну такую могилу с живыми покойниками казаки еще вовремя откопали где-то недалеко от Житомира…
В польском обществе место возбуждения заняло разочарование, и, кажется, демократизм сменил романтические мечты о блеске и пышности «исторической Польши». Вместо хвастливого «Jeszcze Polska nie zginela» или «Grzmi pod Stoczkiem harmaty» («Еще Польша не погибла» и «Под Сточком гремят пушки») – молодежь пела мрачную и горькую демократическую песню:
О, честь вам, паны, и князья, и прелаты,
За край, братней кровью залитый…
В это время к отцу часто приходил писатель Александр Гроза, пользовавшийся некоторой известностью в польской литературе того времени. У него вместе с неким Пациорковским была типография, которая была конфискована. Время было простое, печатные материалы были свалены в квартире отца, и я жадно читал их. Тут была, помню, «Хроника Яна Хризостома Паска» и некоторые произведения Грозы. Несколько вечеров он читал у нас свою новую драму в стихах, озаглавленную, если не ошибаюсь, «Попель». Речь шла о борьбе простого народа с рыцарями и князем Попелем. Этого свирепого князя согласно легенде, съели мыши, а простой народ на его место поставил королем крестьянина Пяста. Не могу ничего сказать о достоинстве этой драмы, но в моей памяти осталось несколько сцен и общий тон – противопоставление простых добродетелей крестьянства заносчивости рыцарей-аристократов. Отец слушал чтение очень внимательно, и, когда Гроза окончил, он сказал печально:
– Как я вам завидую… Поэт живет особой жизнию… Он переносится в другие века, далекие от наших тяжелых дней…
Это было первое общее суждение о поэзии, которое я слышал, а Гроза (маленький, круглый человек, с крупными чертами ординарного лица) был первым виденным мною «живым поэтом»… Теперь о нем совершенно забыли, но его произведения были для того времени настоящей литературой, и я с захватывающим интересом следил за чтением. Читал он с большим одушевлением, и порой мне казалось, что этот кругленький человек преображается, становится другим – большим, красивым и интересным…
Случилось так, что русская литература впервые предстала передо мной в виде одного только «Вестника Юго-Западной и Западной России», издававшегося для целей обрусения некиим Говорским. Выписка его была обязательна для чиновников, поэтому целые горы «Вестника» лежали у отца в кабинете, но кажется, что мой старший брат и я были его единственными и то не особенно усердными читателями. По содержанию это была грубо тенденциозная стряпня. Все русские изображались героями добродетели, а из поляков хорошими представлялись только те, кто изменял своим соотечественникам… Все это оставляло в душе осадок безвкусицы и сознательной лжи.
Понятно, что эта литература нисколько не захватывала и не убеждала. В жизни на одной стороне стояла возвышенно-печальная драма в семье Рыхлинских и казнь Стройновского, на другой – красивая фигура безжалостного, затянутого в мундир жандарма… Я думаю поэтому, что если бы кто-нибудь сумел вскрыть мою душу, то и в этот период моей жизни он бы наверное нашел, что наибольшим удельным весом обладали в ней те чувства, мысли, впечатления, какие она получала от языка, литературы и вообще культурных влияний родины моей матери.
Итак, кто же я на самом деле?.. Этот головоломный, пожалуй даже неразрешимый, вопрос стал центром маленькой драмы в моей неокрепшей душе…
В то время в пансионе учился вместе со мною поляк Кучальский. Это был высокий худощавый мальчик, несколько сутулый, с узкой грудью и лицом, попорченным оспой (вообще, как я теперь вспоминаю, в то время было гораздо больше людей со следами этой болезни, чем теперь). Несмотря на сутулость и оспенное лицо, в нем было какое-то особое прирожденное изящество, а маленькие, немного печальные, но очень живые черные глаза глядели из-под рябоватых век необыкновенно привлекательным и добрым взглядом. Мне нравилось в нем все: и чистенькое, хорошо лежавшее на его тонкой фигуре платье, и походка, как будто слегка неуклюжая и, несмотря на это, изящная, и тихая улыбка, и какая-то особенная сдержанность среди шумной ватаги пансионеров, и то, как он, ответив урок у доски, обтирал белым платком свои тонкие руки. Я сразу заметил его среди остальных учеников, и понемногу мы сблизились, как сближаются школьники: то есть оказывали друг другу мелкие услуги, делились перьями и карандашами, в свободные часы уединялись от товарищей, ходили вдвоем и говорили о многом, о чем не хотелось говорить с другими. Иной раз мне просто приятно было смотреть на него, ловить его тихую, задумчивую улыбку… То, что он был поляк, а я русский, не вносило ни малейшей тени в завязывавшуюся между нами детскую дружбу.
Когда началось восстание, наше сближение продолжалось. Он глубоко верил, что поляки должны победить и что старая Польша будет восстановлена в прежнем блеске. Раз кто-то из русских учеников сказал при нем, что Россия – самое большое государство в Европе. Я тогда еще не знал этой особенности своего отечества, и мы с Кучальским тотчас же отправились к карте, чтобы проверить это сообщение. Я и теперь помню непреклонную уверенность, с которой Кучальский сказал после обозрения карты:
– Это русская карта. И это неправда.
Этому своему приятелю я, между прочим, рассказал о своем сне, в котором я так боялся за судьбу русских солдат и Афанасия.
– Ты не веришь в сны? – спросил он.
– Нет, – ответил я. – Отец говорит, что это пустяки и что сны не сбываются. И я думаю то же. Сны я вижу каждую ночь…
– А я верю, – ответил он. – И твой сон значит, что мы непременно победим.
Вскоре выяснилось, что мой сон этого не значил, и я стал замечать, что Кучальский начинает отстраняться от меня. Меня это очень огорчало, тем более что я не чувствовал за собой никакой вины перед ним… Напротив, теперь со своей задумчивой печалью он привлекал меня еще более. Однажды во время перемены, когда он ходил один в стороне от товарищей, я подошел к нему и сказал:
– Слушай, Кучальский… у тебя, верно, случилось какое-нибудь горе?
Он посмотрел на меня печальными глазами и, не останавливаясь, сказал:
– Да, большое горе…
– Почему ты мне не скажешь?.. И почему ты меня избегаешь?..
– Так… – ответил он, – тебе до этого не может быть дела… Ты – москаль.
Я обиделся и отошел с некоторой раной в душе. После этого каждый вечер я ложился в постель и каждое утро просыпался с щемящим сознанием непонятной для меня отчужденности Кучальского. Мое детское чувство было оскорблено и доставляло мне страдание.
Среди учеников пансиона был один, который питал ко мне такое же чувство, какое я питал к Кучальскому. Фамилию его я забыл и назову его Стоцким. Это был низенький мальчик, очень шустрый, шаловливый и добрый, который часто бывал третьим во время наших прогулок с Кучальским. Теперь он подметил наше отчуждение, и я рассказал ему об ответе Кучальского на мои попытки узнать об его горе. Мальчик после этого несколько раз ходил с Кучальским, обуздывая свою живость и стараясь попасть в сдержанный тон моего бывшего друга. Наконец он выведал, что ему было нужно, и сказал мне во время одной из прогулок:
– Он говорит, что ты – москаль… Что ты во сне плакал о том, что поляки могли победить русских, и что ты… будто бы… теперь радуешься…
И он прибавил, что, по-видимому, кто-то из близких Кучальского убит, ранен или взят в плен…
Это сообщение меня поразило. Итак – я лишился друга только потому, что он поляк, а я – русский и что мне было жаль Афанасия и русских солдат, когда я думал, что их могут убить. Подозрение, будто я радуюсь тому, что теперь гибнут поляки, что Феликс Рыхлинский ранен, что Стасик сидит в тюрьме и пойдет в Сибирь, меня глубоко оскорбило… Я ожесточился и чуть не заплакал…
– Я не радуюсь, – сказал я Стоцкому, – но… когда так… Ну что ж. Я – русский, а он пускай думает что хочет…
И я не делал новых попыток сближения с Кучальским. Как ни было мне горько видеть, что Кучальский ходит один или в кучке новых приятелей, я крепился, хотя не мог изгнать из души ноющее и щемящее ощущение утраты чего-то дорогого, близкого, нужного моему детскому сердцу.
Но вдруг в положении этого вопроса произошла новая перемена: пришла третья национальность и, в свою очередь, предъявила на меня свое право.
Случилось это следующим образом. Один из наших молодых учителей, поляк пан Высоцкий, поступил в университет или уехал за границу. На его место был приглашен новый, по фамилии, если память мне не изменяет, Буткевич. Это был молодой человек небольшого роста, с очень живыми движениями и ласково-веселыми черными глазами. Вся его фигура отличалась многими, непривычными для нас особенностями.
Прежде всего обращали внимание длинные тонкие усы с подусниками, опущенные вниз, по-казацки. Волосы были острижены в кружок. На нем был синий казакин, расстегнутый на груди, где виднелась вышитая малороссийским узором рубашка, схваченная красной ленточкой. Широкие синие шаровары были под казакином опоясаны цветным поясом и вдеты в голенища лакированных мягких сапог. Войдя в классную комнату, он кинул на ближайшую кровать сивую смушковую шапку. На одной из пуговиц его казакина болтался кисет из пузыря, стянутый тонким цветным шнурком…
В самом начале урока он взял в руки список и стал громко читать фамилии:
– Поляк? – спрашивал он при этом. – Русский? Поляк? Поляк?
Наконец он прочел и мою фамилию.
– Русский, – ответил я.
Он вскинул на меня свои живые глазки и сказал:
– Брешешь.
Я очень сконфузился и не знал, что ответить, а Буткевич после урока подошел ко мне, запустил руки в мои волосы, шутя откинул назад мою голову и сказал опять:
– Ты не москаль, а козацький внук и правнук, вольного козацького роду… Понимаешь?
– Понимаю… – ответил я, хотя, признаться, в то время понимал мало и был озадачен. Впрочем, слова «вольного козацького роду» имели какое-то смутно-манящее значение.
– Вот погоди, я принесу тебе книжечку: из нее ты поймешь еще больше, – сказал он в заключение.
На следующий же урок Буткевич принес мне маленькую брошюрку киевского издания. На обложке было заглавие, если не ошибаюсь: «Про Чуприну та Чортовуса», а виньетка изображала мертвого казака, с «оселедцем» на макушке и огромнейшими усами, лежавшего, раскинув могучие руки, на большом поваленном пне…
Рассказ велся от лица дворского казака, который участвовал в преследовании гайдамацкой ватаги, состоявшей под начальством запорожцев-ватажков, Чупрыны и Чертоуса. Гайдамаки сделали набег, резали панов, жидов и ксендзов, жгли панские дворы и замки. Польский отряд с помощью реестровых казаков оттеснил их на какой-то остров, окруженный рекой и болотами. Гайдамаки сделали засеки и долго отстреливались, пока ночью реестровый казак не указал полякам какого-то перехода через болото… Наутро польское войско кинулось на засеки, гайдамаки отчаянно защищались, но наконец погибли все до одного; последними пали от рук своих же братьев ватажки «Чуприна та Чортовус»; один из них был изображен на виньетке. Кончался этот рассказ соответствующей моралью: реестровый казак внушал своим товарищам, как нехорошо было с их стороны сражаться против своих братьев-гайдамаков, которые боролись за свободу с утеснителями-поляками…
Брошюрка эта не произвела на меня того впечатления, какого ожидал Буткевич. Рассказ велся от имени реестрового казака, но я не был реестровым казаком и даже не знал, что это такое. Мораль состояла в том, что гайдамаков не следовало истреблять, а нужно было помогать им. Но и гайдамаков нигде уже не было. Не было также и ярких картин и образов, захвативших мое воображение в польском театре. Был только довольно бледный рассказ о том, что гайдамаки пришли резать панов, а паны при помощи «лейстровых» вырезали гайдамаков… Рассказчик от себя прибавлял, что гайдамаки поступали хорошо, а лейстровые плохо, но для меня и те и другие были одинаково чужды.
Одно только последствие как будто вытекало из открытия, сделанного для меня Буткевичем: если я не москаль, то, значит, моему бывшему другу Кучальскому не было причины меня сторониться. Эта мысль пришла мне в голову, но оскорбленная гордость не позволила сделать первые шаги к примирению. Это сделал за меня мой маленький приятель Стоцкий. Однажды мы проходили с ним по двору, когда навстречу нам попался Кучальский, по обыкновению один. Стоцкий со своей обычной почти обезьяньей живостью схватил его за руку и сказал:
– Слушай, Кучальский. Поди с нами. Ведь он не москаль. Буткевич говорит, что он малоросс.
Кучальский на минуту остановился, как будто колеблясь, но затем взгляд его принял опять свое обычное упрямо-печальное выражение…
– Это еще хуже, – сказал он, тихо высвобождая свою руку, – они закапывают наших живьем в землю…
Эта простая фраза разрушила все старания украинца-учителя. Когда после этого Буткевич по-украински заговаривал со мною о «Чуприне та Чортовусе», то я потуплялся, краснел, замыкался и молчал.
Может быть, этому способствовало еще одно обстоятельство. В нашей семье тон был очень простой. У отца я никогда не замечал ни одной искусственной ноты. У матери тоже. Вероятно, поэтому мы были очень чутки ко всему искусственному. Между тем вся фигура нового учителя казалась мне, пожалуй, довольно привлекательной, даже интересной, но… какой-то ненастоящей. Он одевался так, как никто не одевался ни в городе, ни в деревне. Тонкий казакин, кисет на шнурке, люлька в кармане широких шаровар, казацкие подусники – все это казалось не настоящим, не природным и непосредственным, а «нарочным» и деланным. И говорил он не просто, как все, а точно подчеркивал: вот видите, я говорю по-украински. И мне казалось, что если, по его требованию, я стану отвечать ему тоже на украинском языке (который я знал довольно плохо), то и это выйдет не настояще, а нарочно, и потому «стыдно».
В Буткевиче это вызывало, кажется, некоторую досаду. Он приписал мое упорство «ополячению» и однажды сказал что-то о моей матери-«ляшке»… Это было самое худшее, что он мог сказать. Я очень любил свою мать, а теперь это чувство доходило у меня до обожания. На этом маленьком эпизоде мои воспоминания о Буткевиче совсем прекращаются.
Счастливая особенность детства – непосредственность впечатлений и поток яркой жизни, уносящий все вперед, и вперед, – не позволили и мне остановиться долго на этих национальных рефлексиях… Дни бежали своей чередой, украинский прозелитизм не удался; я перестрадал маленькую драму разорванной детской дружбы, и вопрос о моей «национальности» остался пока в том же неопределенном положении…
Но и неоформленный и нерешенный, он все-таки лежал где-то в глубине сознания, а по ночам, когда пестрые впечатления дня смолкали, он облекался в образы и управлял моими снами.
Из этих снов один запомнился мне особенно ярко.
Было раннее утро. Сквозь дремоту я слышал, как мать говорила из соседней комнаты, чтобы открыли ставни. Горничная вошла в спальню, отодвинула задвижку и вышла на двор, чтобы исполнить приказание. И когда она вышла, скрипнув дверью, меня опять захватил еще не рассеявшийся утренний сон. И в нем я увидел себя Наполеоном.
У меня было его лицо, я был в его сером сюртуке, в треугольной шляпе, со шпагой. Я приехал в Россию, чтобы сделать здесь какое-то важное дело и кого-то непременно защитить… Какое это дело и кто ждал моей защиты – это было неясно. В смутном облаке неопределенно болящих ощущений носились и фигуры Рыхлинских, и солдат Афанасий, и моя плачущая мать, и мать Стройновского… Где-то слышались отдельные выстрелы, и крики, и стоны… Я очень долго скитаюсь среди смутной тревоги и опасностей, ища и не находя того, кто мне был нужен. Наконец кто-то берет меня в плен, и меня сажают в тот самый домик на Вильской улице, где, по рассказам, сидела в заключении знаменитая девица Пустовойтова – Иоанна д'Арк «повстанья». В нем еще темно, но в щели ставней проникают яркие лучи дня, а у дверей брякает оружие. И вдруг в комнату врываются солдаты. Они выстраиваются в ряд. Я становлюсь против них и расстегиваю свой мундир. Внезапный грохот залпа, в груди ощущение удара и теплоты, и ослепительный свет разливается от места этого удара…
Я проснулся. Ставни как раз открывались, комнату заливал свет солнца, а звук залпа объяснялся падением железного засова ставни. И я не мог поверить, что весь мой долгий сон, с поисками, неудачами, приключениями, улегся в те несколько секунд, которые были нужны горничной, чтобы открыть снаружи ставню…
Сердце у меня тревожно билось, в груди еще стояло ощущение теплоты и удара… Оно, конечно, скоро прошло, но еще и теперь я ясно помню ту смутную тревогу, с какой во сне я искал и не находил то, что мне было нужно, между тем как рядом, в спутанном клубке сновидений, кто-то плакал, стонал и бился… Теперь мне кажется, что этот клубок был завязан тремя «национа-лизмами», из которых каждый заявлял право на владение моей беззащитной душой, с обязанностью кого-нибудь ненавидеть и преследовать…








