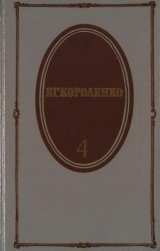
Текст книги "Том 4. История моего современника. Книги 1 и 2"
Автор книги: Владимир Короленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 51 страниц)
Но пока все эти разочарования были еще впереди, а сейчас ново и прекрасно в моей жизни было то, что я студент, хотя и не «настоящий»… В моем воображении роились неясные образы… Среди них, понятно, первое место занимал идеальный образ «настоящего студента»… Я жадно вглядывался в кипучую молодую среду.
В первом томе я уже говорил о близком моем товарище Сучкове… Он уехал в Петербург годом раньше меня, и я ждал, что этот год произведет в нем огромную перемену… Но этого не оказалось… Он был тот же добрый малый, которого я просто любил с детства. Гриневецкий был старше нас обоих и в Петербурге жил уже третий год. С своей эффектной наружностью и пледом он показался мне сначала настоящим буршем. Скоро, однако, я разглядел в нем знакомые черты нашего «ро-венца» и тоже привязался к нему, но без иллюзий, попросту, так сказать, «на равной ноге».
Еще меньше импонировал мне Ардалион Никулин… Он держал себя важно и считал себя знатоком философии, но все движение человеческой мысли представлялось ему в довольно своеобразном виде. Каждый последующий мыслитель заушал и ниспровергал всех предыдущих, и в этом своеобразном спорте для Ардалиона заключалась вся история философии и литературы… Я как-то упомянул о Белинском, Ардалион только фыркнул… Что такое Белинский? Он преклонялся перед Пушкиным. Но Писарев вот как разделал Пушкина… По башке, и к черту (он говорил «пы башке»). Этим самым он ниспроверг и Белинского. Долгое время Ардалион считал величайшим философом Куно Фишера. Но настал день, когда он принес в нашу мансарду поразительное известие: явился новый мыслитель, немец Иоганн Шерр, написавший «Комедию всемирной истории».
– Понимаете, все эти основатели религий, реформаторы, благодетели человечества, революционеры, ученые, философы… Все, понимаете, – комедианты, больше ничего…
– А как же Куно Фишер? – спросил кто-то лукаво…
– Да что там!.. Самого Куно Фишера пы башке!.. И он сделал выразительный жест.
Из всей нашей ближайшей компании один Василий Иванович Веселитский продолжал занимать мое воображение. Все в нем мне нравилось и импонировало: длинные волосы, острая бородка, обрамлявшая полные щеки, чуть заметная улыбка превосходства, подергивавшая под тонкими усами красивые полные губы, и особенно молчаливая сдержанность, полная, как мне казалось, особенно глубокого смысла. Я уже говорил, как он сосредоточенно и углубленно штудировал статистическую часть календаря Гоппе параллельно с уложением о наказаниях. Однажды, в первый месяц нашего сожительства, возвратившись домой, мы о Гриневецким и Никулиным застали Веселитского склонившимся над книгой. Сквозь опустившиеся густые волосы проходил дым папиросы, но Василий Иванович был так погружен в чтение, что не слышал, как мы вошли… Будь я художник, я непременно попытался бы взять эту великолепную фигуру моделью для картины «Занимающийся студент». Но Ардалион прыснул, ударил себя об полу и сказал с сиплым смехом:
– Васька!.. Да ведь он, братцы, ей-богу, дрыхнет… И папиросу не потушил… Васька, сгоришь, смотри!..
Веселитский поднял голову, посмотрел на него с видом презрительного спокойствия, а я решил, что Ардалион просто циник, не способный понять Веселитского…
И я немного гордился, что я-то его понимаю.
Петербургские сумерки… Мелкий дождик или туман с моря застилает куполы церквей, расползается по улицам, поглощая тусклые огоньки фонарей. Я быстро бегу из института или из Публичной библиотеки, куда устал усердно ходить с некоторых пор, совершенно забываясь под шипение газа и шелест переворачиваемых страниц… Когда закрывали библиотеку, я отправлялся домой, меряя быстрыми шагами Садовую, Обуховский и Царскосельский. Вагон конно-железной дороги или дребезжащая щапинская каретка были для нас недоступной роскошью. Шел я быстро и одним духом взлетал по грязной и вонючей лестнице… Дверь, обитая черной клеенкой. Тусклый фонарик освещает медную дощечку с надписью «Федор Максимович Цывенко». Я дома. В нашей комнате темно, Мирочки нет. Веселитский из экономии не зажигает огня. В темной комнате стоит тихий рокот гитары и светятся два кошачьих глаза. Кот Мавры Максимовны очень любит музыку. Веселитский наигрывает персидский марш, арию из «Травиаты», какую-нибудь заунывную волжскую песню. Из-за стены несется приглушенный говор и пьяное пение. В соседней квартире поселился недавно студент-костромич Ванька Рогов, товарищ Веселитского. Он интересен тем, что состоит корректором типографии «Русского мира», газеты Комарова и Черняева. Однажды, зайдя к нему, я увидел тайну изготовления книги: Ванька Рогов, рябой, в красной косоворотке и очках, над корректурным листом, казался мне чуть не Гутенбергом. Каждые две недели, в дни получения жалованья, у него происходили пирушки – шум, крики, пьяные песни. Однажды Веселитский вернулся оттуда несколько помятый. Заметив мой вопросительный и удивленный взгляд, он улыбнулся и сказал:
– Пропадают ребята… Обратился с словом убеждения. – Он опять улыбнулся и махнул рукой. – Куда тут!.. Чуть шею не накостыляли… Главное дело, Пашку мне жалко, Горицкого… Звезда нашей семинарии… Гениальная, брат, голова пропадает…
Он ложился рядом со мной на постели и начинал рассказывать о нравах духовной среды, о гибнущих силах… Я слушал с затаенным дыханием: все это для меня ново, и все из литературы – отголоски «Бурсы». Печаль Васьки о Пашке Горицком еще глубже привязывает меня к моему сожителю и другу.
III. Девица Настя. – Идеальный друг падает с пьедесталаНа третий, кажется, месяц Василий Иванович разбогател. Ему прислали, во-первых, совершенно новую черную пару, сшитую костромским портным, и несколько пар белья, а через несколько дней толстый швейцар Технологического института с благосклонной улыбкой подал Гриневецкому повестку:
– Василию Ивановичу Веселитскому. Возьмете?
Лицо Мирочки просияло – повестка была на семьдесят пять рублей, целое богатство! Наша мансарда точно просветлела. В последнее время Мавра Максимовна часто плакала. Мы задолжали за квартиру, и между супругами происходила драма: Цывенко опять настаивал на строгих мерах, а доброй женщине было жалко прогонять нашу бедствующую компанию. Теперь Василий Иванович стал сразу героем дня. Узнав об этом, Ардалион фыркнул по-своему и сказал:
– Ну, братцы, теперь смотрите… Идите кто-нибудь с ним в почтамт… А то стреканет к приятелю на Бронницкую – только его и видели. Я его знаю…
Веселитский ответил молчаливо-презрительным взглядом, а во мне закипело прямо негодование. На следующее утро, когда Гриневецкий заговорил об этом предостережении Никулина, я восстал против недоверия к товарищу с таким негодованием, что Мирочка, хотя и с колебанием, уступил. Василий Иванович, торжественно облачившись в новую черную пару, отправился в почтамт один, унося с собой наше доверие и наши надежды. Мирочка ушел в институт, а я на этот раз остался дома за чтением Флеровского, принесенного мне Зубаревским.
Я просидел, таким образом, часа полтора, когда раздался звонок. Но вместо Василия Ивановича Мавра Максимовна впустила в комнату незнакомую мне особу женского пола. Это была девушка лет около тридцати, с очень живыми черными глазами и заметными усиками. Одета она была с некоторым щегольством профессиональной модистки, и манеры у нее были очень бойкие. Оглядев комнату, она сказала:
– Что? Еще не пришел?
– Кого вам угодно? – спросил я, сразу сконфузившись.
Она сняла шляпу, положила ее на стол, заперла нашу дверь перед самым носом заинтересованной Мавры Максимовны и уселась бесцеремонно на стул.
– Мне Василия Ивановича… Я подожду…
В нашей комнате наступило молчание. Я старался читать, но это удавалось мне плохо. Все время я чувствовал на себе взгляд черных бойких глаз незнакомки. Самая тишина комнаты меня томила. Тикали часы, из кухни несся стук горшков и возня хозяйки.
– Ах ты господи, тоска какая, – сказала вдруг незнакомка. Я густо покраснел. Я почувствовал в этом восклицании упрек: если бы я был «настоящим студентом», а не мальчиком, то сумел бы занять гостью, и нам обоим было бы интересно… Но я не знал, что сказать, и краска заливала мое лицо.
Вдруг девушка поднялась, прошла легкими шагами через комнату, и я ощутил с изумлением и испугом, что ее руки ерошат мои волосы, а колени касаются моих колен.
– Какой кудрявенький, – сказала она. – Мой Знаменский такой же был. Я – Настя. Слыхали про меня небось. Меня технологи знают… Да что вы, так все и будете читать?
И, взяв у меня из рук книгу, она швырнула ее на кушетку.
– Давайте разговаривать! Да вы не робейте. Что это у вас… Карандаш и бумага? Хорошо. Я вам сейчас напишу записку. Я ведь тоже умею писать. Недаром со студентом четыре года жила.
Она взяла карандаш, помуслила его, придвинула к себе бумагу и наклонилась над ней, забавно сморщив свои густые черные брови.
Я ранее слышал кое-что про эту Настю. Она жила со студентом Знаменским на правах «свободной любви». В прошлом году Знаменский окончил курс, получил место и уехал, бросив Настю так же беззаботно, как и сошелся с ней. Говорили, что она теперь свободна, и многие не прочь были занять место Знаменского, тем более что Настя ему «почти ничего не стоила». Она была прекрасная работница-портниха, и они жили с Знаменским по-товарищески. Теперь эта интересная особа сидела рядом, комично наморщив брови, и писала мне какую-то записку…
Я был, конечно, заинтересован… Но вот после значительных усилий девушка кончила и протянула листок, устремив на меня лукавый взгляд живых черных глаз.
Я взял и прямо оторопел: на листке неровным неумелым почерком, почти каракулями, но все-таки довольно разборчиво была написана откровенно скабрезная фраза. Очевидно, за четыре года беспечный студент только этому и постарался выучить свою сожительницу… Это уже совершенно не соответствовало моим литературным представлениям, и вид у меня был, вероятно, очень глупый. Настя захохотала, откинув голову, вырвала из моих рук листок, разорвала его и бросила в угол, сказав серьезно:
– Прочитает еще кто-нибудь, нехорошо…
В это время опять раздался звонок, и в комнату вошел Гриневецкий. Настя свободно поздоровалась с ним и сказала:
– Здравствуйте! Я вас знаю, вы Гриневецкий. Я пришла к Василию Ивановичу. Мы встретились с ним у Тарасовского переулка. Он обещал одолжить мне денег… Срок за квартиру, а у меня нет… Как вы думаете – не обманет?
Гриневецкий с озабоченным видом почесал в затылке.
– В почтамте давно уже выдача кончилась, – сказал он. – А его что-то нет…
Новый звонок. Вошли Ардалион, Сучков и сожитель Сучкова – Кулешевич, молодой человек, служивший на Варшавской железной дороге. Узнав, что Васьки нет, Ардалион так и покатился:
– Эх вы! Головы с мозгом! Отпустили одного. Бол-ва-ны. Дубье стоеросовое. А все, верно, этот птенец зеленый…
Он грубо смазал меня рукой по лицу.
– Ну, да авось ничего! Я знаю, где его искать… На Бронницкой, у приятеля-чиновника… Пойдем, что ли, со мной.
И они все ушли, а я остался опять с Настей. Прошло около часу томительного ожидания. Неужели Ардалион окажется прав? Не может быть, думал я… Вдруг опять раздался звонок, и в нашу комнату ввалилась шумная ватага. Впереди, подталкиваемый Ардалионом, шел Василий Иванович. Он, видимо, был сконфужен и отчасти пьян. Под мышками и в карманах его пальто виднелись бутылки и свертки.
– Получите вот, – хохотал Ардалион. – На Бронницкой у портерной и поймали дружка…
Увидев Настю, Веселитский немного сконфузился, но тотчас же подтянулся.
– А, Настасья Ивановна… Ну вот отлично… Давайте закусим, самоварчик попросим… Кутить так кутить. А ты, братец, – повернулся он ко мне, – сбегай, пожалуйста, за хорошим чаем к Шлякову… Ничего, что далеко…
Я побежал в магазин за чаем, которого у нас не было. Вернувшись, я застал Настю и Веселитского вдвоем, остальные ушли в «Белую лебедь» сыграть на бильярде. Настасья Ивановна показалась мне навеселе: глаза ее подернулись влагой, щеки разрумянились, она покачивалась и пела какую-то деревенскую песню. Веселитский отвел меня в сторону и сказал, подавая кредитку:
– Сделай одолжение, братец… Ступай тоже в «Белую лебедь».
Там, однако, я не мог избавиться от чувства неловкости, и, поговорив с Гриневецким, мы решили прекратить игру и вернуться всей компанией домой к самовару…
Тут я сразу заметил, что в нашей мансарде произошло что-то нехорошее: Настасья Ивановна сидела в отдаленном конце стола, а Васька помещался на стуле, на почтительном расстоянии, и глядел на нее злобным и язвительным взглядом. Он опьянел совсем, весь как-то опустился, лицо одряблело. Настя, наоборот, казалась в эту минуту совсем отрезвевшей. Она встретила нас пристальным горячим взглядом из-под сдвинутых черных бровей.
– А, здравствуйте, господа студенты! Изволили вернуться наконец? Что ж так скоро?
Она вдруг резко поднялась и, опершись на стол одной рукой в энергичной и красивой позе, продолжала:
– Устроили засаду девушке. Подлецы вы подлецы, а не студенты!
Губы ее с черными усиками как-то жалко, по-детски дрогнули. И вдруг ее глаза остановились на мне.
– А, и этот кудрявенький здесь. Тоже ловкий мальчик… Я и не оглянулась, как и он тоже исчез. Знает, что нужно приятелю… Ах, какие подлецы, какие вы все подлецы…
Ее голова упала на руки, и плечи вздрагивали от рыданий… Я повернулся к тому месту, где сидел Веселитский. На этом месте его уже не было: захватив пальто и фуражку, он быстро прошел через комнаты хозяев и исчез. Ардалион бросился за ним.
Не давая себе еще полного отчета в том, что произошло, я, в свою очередь, спустился с лестницы и вышел на улицу. Фигура Ардалиона быстро исчезала в тумане по направлению к Бронницкой, но Васька оказался гораздо ближе: в нашем доме был грязный темный кабачок. Случайно заглянув в его окно, я увидел за прилавком женщину с ребенком на руках, и тут же на стуле, свесив голову, сидел Васька. Я толкнул дверь. Раздался дребезжащий звонок. Женщина со страхом подняла на меня глаза и, когда я подошел, сказала:
– Я думала, хозяин вернулся… Товарищ вам это, что ли?.. Боюсь я его… Вишь, ввалился… Лыка не вяжет, а требует: наливай ему… Говорит несообразно…
Васька поднял голову и сказал с выражением необыкновенной язвительности в голосе:
– Па-а-звольте. Кто дал вам право рассуждать подобным образом?.. Ни-и капли логики…
Он попытался встать, но качнулся и опустился на грязный пол.
В это время вошел и хозяин, дюжий мужчина мрачного вида. Окинув всю сцену привычным взглядом, он сразу сориентировался в положении и, не обращая на меня ни малейшего внимания, сильной рукой поднял Ваську с пола, подвел к порогу и вытолкнул на улицу. Я поспел как раз вовремя, чтобы Васька не расшиб голову о фонарный столб, и повел его к нашей лестнице. Он шел очень нетвердо, и при тусклом свете фонаря лицо его подергивалось жалкими всхлипываниями. Вести пьяного мне было трудно, но в это время подоспел Ардалион. Прыснув, по своему обыкновению, он подхватил Ваську под другую руку, и мы доставили его наверх, где он тотчас же свалился и захрапел.
Настя все еще была у нас и мирно разговаривала с Сучковым и Гриневецким. Теперь она попросила кого-нибудь проводить ее. Мы с Сучковым оделись и вышли,
Был поздний вечер. Огни фонарей тускло мигали сквозь сетку дождя, который становился все сильнее.
Настасья Ивановна жила довольно близко вместе с матерью, но она не решалась идти домой. Было поздно. Кроме того, на воздухе она вдруг опьянела еще более и боялась прийти в таком виде.
– Проводите меня лучше в Тарасовский переулок, к подруге, – попросила она.
Под густым мелким дождем мы пришли в Тарасовский переулок. Здесь, у первого дома налево, Настя остановила нас и, взойдя на две-три ступеньки подъезда с навесом, повернулась к нам и протянула руку.
– Ну, теперь спасибо. Прощайте, господа. Не взыщите, что давеча обругала вас нехорошими словами. Товарищ ваш крепко меня обидел…
Я попытался подняться на ступеньки, чтобы позвонить, но она помешала мне и, смеясь, оттолкнула назад.
– Я и сама сумею позвонить… А вы идите, идите, идите! Увидят меня с вами, нехорошо. Подумают, бог знает где гуляла… Идите, идите, – повторяла она, пока мы не вышли из ворот и повернули за близкий угол. Однако, пройдя некоторое расстояние, мы оба остановились и повернули назад: поведение Насти нам показалось странным. Дождь лил густо, шумя по водосточным трубам. Тускло светил фонарь. На подъезде виднелась одиноко сидящая женская фигура. Склонив голову на руки, Настя тихо плакала.
– Настасья Ивановна, голубушка. Да что с вами? Почему вы не звоните? Неужто хотите ночевать на подъезде?
Она подняла лицо. Оно показалось мне жалким лицом обиженного ребенка.
– Не могу… Стыдно… Она тоже с матерью живет, со старухой… Как тут придешь, гадкая, пьяная… – И она заплакала еще сильнее.
Обсудив положение, мы решили предложить Настасье Ивановне переночевать в номере гостиницы.
– Только одну не пустят, – сказала она. – Вдвоем тоже зазорно. Пойдем уже втроем, если вы такие добренькие…
Так как у нас денег было мало, то, условившись встретиться на углу Четвертой роты, у «Золотого орла», я быстро побежал домой. Васька спал, Гриневецкий тоже. Растолкав его, я объяснил, в чем дело, и мы вдвоем произвели ревизию Васькиных капиталов. Результат оказался плачевный. Из семидесяти пяти рублей осталось тридцать пять. Гриневецкий отделил часть за квартиру Цывенкам, а часть я взял для уплаты за номер.
На условленном месте я застал Настю и Сучкова. Заспанный половой равнодушно открыл перед нами дверь и, все не просыпаясь, подал самовар. Что он думал при этом о нашей компании – неизвестно. Вернее всего, что ничего не думал. Дело привычное. Несомненно, однако, что редко в этом номере ночь проходила так безгрешно. Настя оказалась очень милой хозяйкой за чайным столом. Она почти протрезвилась, и мы с Сучковым от души хохотали, когда она изображала в лицах любезные подходы пьяного Василия Ивановича… Заснули мы часа в четыре, а наутро расстались с нашей гостьей добрыми приятелями. Помню, что, проснувшись, я торопливо обулся, чтобы Настасья Ивановна не застала меня без сапог.
Я шел домой с совершенно новым представлением. Такую девушку я видел еще в первый раз… Несомненно, что она написала мне скабрезную фразу. Когда мы оставались одни в комнате, она бесцеремонно ерошила мои волосы, прикасаясь своими коленями к моим… После этого с нею как будто все дозволено. И вдруг – она же кидает нам в лицо название подлецов, а мы стоим пристыженные, как школьники… Потом – эта трогательная одинокая фигура на подъезде, эти слезы от стыда и обиды… И, наконец, ночь в номере гостиницы с двумя молодыми людьми в самой предосудительной обстановке… Но здесь она сразу ставит себя так, что у нас не прорывается вольного слова или жеста, точно мы в обществе самой «приличной» из наших знакомых ровенских дам…
Да, все относительно в этом мире! И нравственность тоже относительна. Бедная, милая Настенька. Четырехлетнее общение со студентом дало ей лишь настолько грамотности, чтобы написать скабрезную фразу… Круг нравственных понятий, в котором вращалась эта модистка, был довольно широк: в него вошло многое, что я привык до сих пор считать недозволительным для «порядочной женщины». Но она обвела себе этот круг твердой рукой и держалась в нем прочнее, чем многие приличные дамы держатся в своем… Во всяком случае, оба мы чувствовали, что она нравственнее и чище нас всех…
– Славная Настенька – так обобщили мы, расставаясь с Сучковым, свои впечатления от этой необычной ночи.
Мне предстояло, однако, разобраться в другом, тоже неожиданном впечатлении. Дома я не застал Василия Ивановича. Гриневецкий еще спал, когда Васька исчез, оставив записку на мое имя. В ней он писал, что я обманул его лучшие чувства, став на сторону какой-то шлюхи… Поэтому он прощается со мной навсегда…
Я не мог теперь собрать в одно целое своих впечатлений… Настю я понял, и название «шлюха» меня прямо оскорбило. Но что же такое теперь сам Василий Иванович, перед которым я преклонялся?.. Никулин, предупреждая нас, был, значит, прав?.. Васька просто пьяница, обманувший товарищей, заманивший недостойным образом девушку… Вместо сдержанного, молчаливого, глубокомысленного Василия Ивановича, читавшего календарь и уложение, теперь передо мной выступало дряблое, пьяное лицо Васьки, которого Ардалион ловит у одной портерной, а сиделец выталкивает из другой…
Ах, читатель, я знаю: вам покажется мой глубокомысленный друг совершенно неинтересным и не заслуживающим столь значительного места в моих воспоминаниях… Но эта фигура сыграла значительную роль в моем настроении того времени… Образ великолепного Василия Ивановича с трудом уходил из моей души, оставляя болящее пустое место, а от «циничного» хохота Ардалиона мне было больно до слез.
Через несколько дней Василий Иванович явился в самом странном виде. На нем не было ни пальто, ни присланного из Костромы нового платья. Все это они вдвоем с чиновником успели спустить. По какой-то странной пьяной фантазии Василий Иванович выкупил черную пару моего дяди и теперь явился в ней: он был не выше меня ростом, и потому жилет спускался значительно ниже талии, а фалды сюртука били по пятам. В таком виде, очевидно рассорившись по пьяному делу с чиновником, он пришел к нам с Бронницкой и тотчас же завалился спать…
Я в сумерках вернулся к себе и услышал несшееся из-за перегородки сопение. Я догадался. Пройдя к себе, я зажег лампу и в ожидании Гриневецкого сел за книгу. Через некоторое время сопение затихло, а вскоре затем послышались глухие стоны… Я некоторое время старался не обращать на них внимания, но затем не выдержал и вошел с лампой за перегородку. Василий Иванович сидел на кровати, запустив руки в волосы, и глухо стонал…
Через полчаса состоялось примирение… Конечно – прежнего великолепного Василия Ивановича, предмета моего поклонения, не стало… Передо мной был теперь слабый человек, жертва «бурсы» и духовного быта, но… я все еще любил его. И опять мы лежали рядом на кровати, и опять несколько осипшим с перепоя, но приятно рокочущим голосом он рассказывал мне печальную историю. Да, он тоже заражен этим ужасным бытовым пороком своей среды… Он борется, ему нужна нравственная поддержка (тут он горячо обнял меня)… Ему случалось уже допиваться до чертиков… «Маленькие, понима-ашь, – говорил он своим костромским говором, протягивая окончания, – маленькие, ухастые… Ну, да это наплевать… Бывает страшнее…»
Голос его стал глуше, мне показалось даже, что лицо побледнело.
– Быва-ат, снится: иду будто по лестнице. Лестница широкая, освещенная, всякую пылинку видно… Подымаюсь с трудом, потому знаю: на верхней площадке ждет меня он…Бледный, глаза как угли, и… понима-а-ашь, как две капли похож на меня…
– Ну, и что же?..
– Ну, иду… Рад бы не идти, да онстоит на последней ступеньке и тянет к себе глазищами, дожида-атся. Подхожу вплоть, глаза в глаза… И понима-ашь: вхожу я будто в него,или онв меня входит… Такой это ужас, что кажется, с ума сойдешь…
Мне становится жутко. Лампа притушена… В сумерках мне чудится страшно бледное лицо Васьки или его двойника, и меня охватывает страх за моего друга, упавшего в моем мнении, слабого, но все же как-то жутко дорогого мне. Этот новый образ, уже без ореола, долго еще держится в моем обманчивом воображении.








