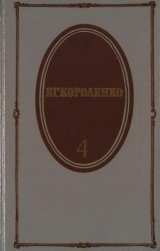
Текст книги "Том 4. История моего современника. Книги 1 и 2"
Автор книги: Владимир Короленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 51 страниц)
Эта песня безотчетно понравилась мне тогда больше всех остальных. Авдиев своим чтением и пением вновь разбудил во мне украинский романтизм, и я опять чувствовал себя во власти этой поэтической дали степей и дали времен…
Гетьмани, гетьмани! Якби то ви встали,
Встали, подивились на свий Чигирин,
Що ви будували, де ви панували!..
. . . . . . . . . . . . . . .
У труби затрубили,
У дзвони задзвонили,
Вдарили з гармати…
Знаменами, бунчуками
Гетьмана у крили…
И я грустил, что это ушло, что этого уже нельзя встретить на этом скучном свете, что уже
Не вернеться козаччина,
Не встануть гетьмани,
Не покриют Украiну
Червонi жупани.
Теперь под влиянием Авдиева это настроение, казалось, должно вспыхнуть еще сильнее… Но… в сущности этого не было, и не было потому, что та самая рука, которая открывала для меня этот призрачный мир, – еще шире распахнула окно родственной русской литературы, в которое хлынули потоками простые, ясные образы и мысли. Без моего сознания и ведома в душе происходила чисто стихийная борьба настроений. И теперь на вопрос Авдиева, понравилась ли мне песня «про бурлаку», я ответил, что понравилась больше всех. На вопрос – почему больше всех, я несколько замялся.
– Потому что… напоминает Некрасова. – И я опять покраснел, чувствуя, что, в сущности, сходства нет, а между тем мой отзыв все-таки выражал что-то действительное.
– Вы хотите, вероятно, сказать, что тут речь идет не о прошлом, а о настоящем? – сказал Авдиев. – Что за современный бурлак и современный хозяин? У Шевченка тоже есть такие мотивы. Он часто осуждал прошлое…
И он прочел несколько отрывков. Я тогда согласился, но в глубине сознания все-таки стояло какое-то различие; такие мотивы были:
Варшавське смiття вашi пани,
Ясновольможнii гетьмани!
Но основной, господствующей нотой все-таки была глубокая тоска об этом прошлом, разрешавшаяся беспредметной мечтой о чем-то смутном, как говор степного ветра на казацкой могиле…
Это я теперь раскрываю скобки, а тогда в душе уживались оба настроения, только одно становилось все живее и громче. В это время я стал бредить литературой и порой, собрав двух-трех охочих слушателей, иногда даже довольствуясь одним, – готов был целыми часами громко читать Некрасова, Никитина, Тургенева, комедии Островского… Однажды, в воскресенье, я залучил таким образом товарища-еврея Симху. У него были художественные наклонности, и я охотно слушал его игру на скрипке. В свою очередь, я угостил его чтением «Гайдамаков». Читал я на этот раз недурно, голос мой стал гибким, выразительным, глубоким. Однако вскоре почувствовал, что живая связь между мной и слушателем оборвалась и не восстановляется. Я взглянул в симпатичное лицо моего приятеля и понял: я читал еврею отом, как герой шевченковской поэмы, Галайда, кричит в Лисянке: «Дайте ляха, дайте жида, мало мет, мало!..» Как гайдамаки точат кровь «жидiвочек» в воду и так далее… Это, конечно, была «история», но от этой поэтической истории моему приятелю стало больно. А затем кое-где из красивого тумана, в котором гениальною кистью украинского поэта были разбросаны полные жизни и движения картины бесчеловечной борьбы, стало проглядывать кое-что затронувшее уже и меня лично. Гонта, служа в уманьском замке начальником реестровых казаков, женился на польке, и у него было двое детей. Когда гайдамаки под предводительством того же Гонты взяли замок, иезуит приводит к ватажку его детей-католиков. Гонта уносит и режет обоих «свяченым ножом», а гайдамаки зарывают живьем в колодце школяров из семинарии, где учились дети Гонты.
У Добролюбова я прочел восторженный отзыв об этом произведении малороссийского поэта: Шевченко, сам украинец, потомок тех самых гайдамаков, «с полной объективностью и глубоким проникновением» рисует настроение своего народа. Я тогда принял это объяснение, но под этим согласием просачивалась струйка глухого протеста… В поэме ничего не говорится о судьбе матери зарезанных детей. Гонта ее проклинает:
Будь проклята мати,
Та проклята католичка,
Що вас породила!
Чом вона вас до схiд сонця
Була не втопила?..
Думалось невольно: ведь он на ней женился, зная, что она католичка, как мой отец женился на моей матери… Я не мог разделять жгучей тоски о том, что теперь…
Не зарiже батько сина,
Свозi дитини
За честь, славу, за братерство,
За волю Вкраiни…
Это четырехстишие глубоко застряло у меня в мозгу. Вероятно, именно потому, что очарование националистского романтизма уже встречалось с другим течением, более родственным моей душе.
Однажды Авдиев, чтобы заинтересовать нас Добролюбовым, прочитал у себя в квартире отрывки из его статей и, между прочим, «Размышления гимназиста». Я вдруг с удивлением услышал давно знакомое стихотворение, которое мы когда-то списывали в свои альбомы… Так вот кто писал это? Вот кто говорил обо мне, об Янкевиче, о Крыштановиче, об Ольшанском? На наше положение прямо и ясно указывала литература и затем уже сопровождала каждый наш жизненный шаг… Это сразу роднило с нею. Статьи Добролюбова, поэзия Некрасова и повести Тургенева несли с собой что-то прямо бравшее нас на том месте, где заставало. Казак Шевченка, его гайдамак, его мужик и дивчина представлялись для меня, например, красивой отвлеченностью. Мужика Некрасова я никогда не видел, но чувствовал его больше. Всегда за непосредственным образом некрасовского «народа» стоял интеллигентный человек, с своей совестью и своими запросами… вернее – с моейсовестью и моимизапросами…
Эта струя литературы того времени, этот особенный двусторонний тон ее – взяли к себе мою разноплеменную душу… Я нашел тогда свою родину, и этой родиной стала прежде всего русская литература… [24]24
Эта часть истории моего современника вызвала оживленные возражения в некоторых органах украинской печати. Позволю себе напомнить, что я пишу не критическую статью и не литературное исследование, а только пытаюсь восстановить впечатление,которое молодежь моего поколения получала из своего тогдашнего (правда, неполного) знакомства с самыми распространенными произведениями Шевченка. Верно ли передаю его? Думаю, верно. Это была любовь и восхищение. Но… стоит вспомнить сотни имен из украинской молодежи, которая участвовала в движении 70-х годов, лишенном всякой националистической окраски, чтобы понять, где была большая двигательная сила… Движение «в сторону наименьшего (национального) сопротивления», как его называет один из критиков-украинцев, вело сотни молодых людей в тюрьмы, в Сибирь и даже (как, например, Лизогуба) на плаху… Странное «наименьшее сопротивление»…
[Закрыть]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Однажды Авдиев явился в класс серьезный и недовольный.
– У нас требуют присылки четвертных сочинений для просмотра в округ, – сказал он с особенной значительностью. – По ним будут судить не только о вашем изложении, но и об образе ваших мыслей. Я хочу вам напомнить, что наша программа кончается Пушкиным. Все, что я вам читал из Лермонтова, Тургенева, особенно Некрасова, не говоря о Шевченке, в программу не входит.
Ничего больше он нам не сказал, и мы не спрашивали… Чтение новых писателей продолжалось, но мы понимали, что все то, что будило в нас столько новых чувств и мыслей, кто-то хочет отнять от нас; кому-то нужно закрыть окно, в которое лилось столько света и воздуха, освежавшего застоявшуюся гимназическую атмосферу…
– А я от вас, кажется, скоро уеду, – сказал вскоре после этого Авдиев с мягкой грустью, когда я зашел к нему.
– Отчего? – спросил я упавшим голосом.
– Долго рассказывать, да, может быть, и не к чему, – ответил он. – Просто пришелся не ко двору…
К нам приехал новый директор, Долгоногов, о котором я уже говорил выше. Все, начиная с огромного инспектора и кончая Дитяткевичем, сразу почувствовали над собой авторитетную руку. Долгоногова боялись, уважали, особенно после случая с Безаком, но… не знали. Он был от нас как-то далек по своему положению.
Можно было легко угадать, что Авдиеву будет трудно ужиться с этим неуклонным человеком. А Авдиев вдобавок ни в чем не менял своего поведения. По-прежнему читал нам в классах новейших писателей; по-прежнему мы собирались у него группами на дому; по-прежнему порой в городе рассказывали об его выходках…
Я почувствовал, без объяснений Авдиева, в чем дело… и прямая фигура Долгоногова стала мне теперь неприятной. Однажды при встрече с ним на деревянных мостках я уступил ему дорогу, но поклонился запоздало и небрежно. Он повернулся, но, увидя, что я все-таки поклонился, тотчас же проследовал дальше своей твердой размеренной походкой. Он не был мелочен и не обращал внимания на оттенки.
Вскоре в город приехал киевский попечитель Антонович. Это был скромный старик, в мундире отставного военного, с очень простыми и симпатичными повадками. Приехал он как-то тихо, без всякой помпы и в гимназию пришел пешком, по звонку, вместе с учителями. На уроки он тоже приходил в самом начале, сидел до конца, и об его присутствии почти забывали. Говорили, что он был когда-то разжалован в солдаты по одному делу с Костомаровым и Шевченком и опять возвысился при Александре II. Он остался очень доволен уроками Авдиева. Пробыл он в нашем городе несколько дней, и в течение этого времени распространилось известие, что его переводят попечителем учебного округа на Кавказ.
Однажды на Гимназической улице, когда я с охапкой книг шел с последнего урока, меня обогнал Авдиев.
– Что это у вас за походка?.. – сказал он, весело смеясь, – с развальцем… Подтянулись бы немного. А вот еще хуже: отчего вы не занимаетесь математикой?
– Я, Вениамин Васильевич, неспособен…
– Пустяки. Никто не требует от вас математических откровений, а в гимназических пределах – способен всякий. Нельзя быть образованным человеком без математической дисциплины…
В это время на противоположной стороне из директорского дома показалась фигура Антоновича. Поклонившись провожавшему его до выхода директору, он перешел через улицу и пошел несколько впереди нас.
– Ну вот, – сказал тихо Авдиев, – сейчас дело мое и решится. – Кивнув мне приветливо головой, он быстро догнал попечителя и, приподняв шляпу, сказал своим открытым приятным голосом: – У меня к вам, ваше превосходительство, большая просьба. Учитель Авдиев, преподаю словесность.
– Знаю, – сказал старый генерал с неопределенным выражением в голосе. – Какая просьба?
– Говорят, вы переводитесь на Кавказ. Если это правда… возьмите меня с собой.
– Это почему?
Авдиев улыбнулся и сказал:
– Раз вы меня запомнили, то позвольте думать, что вам известны также причины, почему мне здесь оставаться… не рука.
Старый кирилло-мефодиевец остановился на мгновение и взглянул в лицо так свободно обратившемуся к нему молодому учителю. Потом зашагал опять, и я услышал, как он сказал негромко и спокойно:
– Ну что ж. Пожалуй.
Мне было неловко подслушивать, и я отстал. В конце улицы Антонович попрощался и пошел направо, а я опять догнал Авдиева, насвистывавшего какой-то веселый мотив.
– Ну вот, дело сделано, – сказал он. – Я знал, что с ним можно говорить по-человечески. В Тифлисе, говорят, ученики приходят в гимназию с кинжалами, тем менее оснований придираться к мелочам. Ну, не поминайте лихом!
– Разве уже… так скоро? – спросил я.
– Да, недели через три…
Через три недели он уехал… Первое время мне показалось, что в гимназии точно сразу потемнело… Помня наш разговор на улице, я подправил, как мог, свои математические познания и… старался подтянуть свою походку…
XXVIII. БалмашевскийНа место Авдиева был назначен Сергей Тимофеевич Балмашевский. Это был высокий, худощавый молодой человек, с несколько впалой грудью и слегка сутулый. Лицо у него было приятное, с доброй улыбкой на тонких губах, но его портили глаза, близорукие, с красными, припухшими веками. Говорили, что он страшно много работал, отчего спина у него согнулась, грудь впала, а на веках образовались ячмени, да так и не сходят…
На одном из первых уроков он заставил меня читать «Песнь о вещем Олеге».
Ковши круговые, запенясь, кипят
На тризне печальной Олега.
Князь Игорь и Ольга на холме сидят,
Дружина пирует у брега…
Когда я прочел предпоследний стих, новый учитель перебил меня:
– На холме сидят… Нужно читать на холме! Я с недоумением взглянул на него.
– Размер не выйдет, – сказал я.
– Нужно читать на холме, – упрямо повторил он. Из-за кафедры на меня глядело добродушное лицо,
с несколько деревянным выражением и припухшими веками. «Вечный труженик, а мастер никогда!» – быстро, точно кем-то подсказанный, промелькнул у меня в голове отзыв Петра Великого о Тредьяковском.
Блеска у него не было, новые для нас мысли, неожиданные, яркие, то и дело вспыхивавшие на уроках Авдиева, – погасли. Балмашевский добросовестно объяснял: такое-то произведение разделяется на столько-то частей. В части первой, или вступлении, говорится о таком-то предмете… При этом автор прибегает к такому-то удачному сравнению… «Словесность» стала опять только отдельным предметом. Лучи, которые она еще так недавно кидала во все стороны, исчезли… Центра для наших чувств и мыслей в ровенской реальной гимназии опять не было… И опять над голосами среднего регистра резко выделялись выкрикивания желто-красного попугая.
Вскоре, однако, случился эпизод, поднявший в наших глазах нового словесника…
Гаврило Жданов, после отъезда Авдиева поступивший таки в гимназию, часто приходил ко мне, и, лежа долгими зимними сумерками на постели в темной комнате, мы вели с ним тихие беседы. Порой он заводил вполголоса те самые песни, которые пел с Авдиевым. В темноте звучал один только басок, но в моем воображении над ним вился и звенел бархатный баритон, так свободно взлетавший на высокие ноты… И сумерки наполнялись ощутительными видениями…
Однажды у нас исключили двух или трех бедняков за невзнос платы. Мы с Гаврилой беспечно шли в гимназию, когда навстречу нам попался один из исключенных, отосланный домой. На наш вопрос, почему он идет из гимназии не в урочное время, он угрюмо отвернулся. На глазах у него были слезы…
В тот же день после уроков Гаврило явился ко мне, и по общем обсуждении мы выработали некий план: решили обложить данью ежедневное потребление пирожков в большую перемену. Сделав приблизительный подсчет, мы нашли, что при известной фискальной энергии нужную сумму можно собрать довольно быстро. Я составил нечто вроде краткого воззвания, которое мы с Гаврилой переписали в нескольких экземплярах и пустили по классам. Воззвание имело успех, и на следующий же день Гаврило во время большой перемены самым серьезным образом расположился на крыльце гимназии, рядом с еврейкой Сурой и другими продавцами пирожков, колбас и яблок, и при каждой покупке предъявлял требования:
– Два пирожка… Давай копейку… У тебя что? Колбаса на три копейки? Тоже копейку.
Дело пошло. Некоторые откупались за несколько дней, и мы подумывали уже о том, чтобы завести записи и бухгалтерию, как наши финансовые операции были замечены надзирателем Дитяткевичем…
– Это что такое? Что вы делаете?
Чувствуя свою правоту, мы откровенно изложили свой план и его цели. Дидонус, несколько озадаченный, тотчас же поковылял к директору.
Долгоногова в то время уже не было. Его перевели вскоре после Авдиева, и директором был назначен Степан Яковлевич. Через несколько минут Дидонус вернулся оживленный, торжествующий и злорадный. Узнав от директора, что мы совершили нечто в высокой степени предосудительное, он радостно повлек нас в учительскую, расталкивая шумную толпу гимназистов.
Степан Яковлевич, откинувшись на стуле, измерил нас обоих взглядом и, подержав с полминуты под угрозой вспышки, заговорил низким, хрипловатым голосом:
– Вы что это затеяли? Прокламации какие-то?.. Тайные, незаконные сборы?..
– Мы… Степан Яковлевич… – начал было изумленный Таврило, но директор кинул на него суровый взгляд и сказал:
– Молчать… Я говорю: тайные сборы, потому что вы о них ничего не сказали мне, вашему директору… Я говорю: незаконные, потому… – он выпрямился на стуле и продолжал торжественно – что на-ло-ги устанавливаются только Государственным советом… Знаете ли вы, что если бы я дал официальный ход этому делу, то вы не только были бы исключены из гимназии, но… и отданы под суд…
Красивые глаза Гаврилы застыли в выражении величайшего, почти сверхъестественного изумления. Я тоже был удивлен таким неожиданным освещением нашей затеи, хотя чувствовал, что законодательные права Государственного совета тут ни при чем.
В это время взгляд мой случайно упал на фигуру Балмашевского. Он подошел в самом начале разговора и теперь, стоя у стола, перелистывал журнал. На его тонких губах играла легкая улыбка. Глаза были, как всегда, занавешены тяжелыми припухшими веками – но я ясно прочел в выражении его лица сочувственную поддержку и одобрение. Степан Яковлевич спустил тон и сказал:
– Пока – ступайте в класс.
В тот же день при выходе из гимназии меня окликнул Балмашевский и сказал, улыбаясь:
– Что? Досталось? Ну ничего! Никаких последствий из этого, разумеется, не будет. Но вы, господа, действительно принялись не так. Зайдите сегодня ко мне с Ждановым…
В тот же вечер мы зашли с Гаврилой в холостую квартиру учителя. Он принял нас приветливо и просто изложил свой план: мы соберем факты и случаи крайней нужды в среде наших товарищей и изложим их в форме записки в совет. Он подаст ее от себя, а учителя выработают устав «Общества вспомоществования учащимся города Ровно».
Вышли мы от него тронутые и с чувством благодарности.
– Не Авдиев, а малый все-таки славный, – сказал на улице мой приятель. – И, знаешь, он тоже не дурно поет. Я слышал на именинах у Тысса.
Записку мы составили. Мне далось очень трудно это первое произведение в деловом стиле, и Балмашевскому пришлось исправлять его. Молодые учителя поддержали доклад, и проект устава был отослан в министерство, а пока сделали единовременный сбор и уплатили за исключенных. Вследствие обычной волокиты устав был утвержден только года через три, когда ни нас с Гаврилой, ни Балмашевского в Ровно уже не было. Но все же у меня осталось по окончании гимназии хорошее, теплое воспоминание об этом неблестящем молодом учителе, с впалой грудью и припухшими от усиленных занятий веками…
Прошло еще лет десять. «Система» в гимназиях определилась окончательно. В 1888 или 1889 году появился памятный циркуляр «о кухаркиных детях», которые напрасно учатся в гимназиях. У директоров потребовали особую статистику, в которой было бы точно отмечено состояние родителей учащихся, число занимаемых ими комнат, количество прислуги. Даже в то глухое и смирное время этот циркуляр выжившего из ума старика Делянова, слишком наивно подслуживавшегося кому-то и поставившего точки над i, вызвал общее возмущение: не все директора даже исполнили требование о статистике, а публика просто накидывалась на людей в синих мундирах «народного просвещения», выражая даже на улицах чувство общего негодования…
В это время мне довелось быть в одном из городов нашего юга, и здесь я услышал знакомую фамилию. Балмашевский был в этом городе директором гимназии. У меня сразу ожили воспоминания о нашем с Гаврилой посягательстве на права Государственного совета, о симпатичном вмешательстве Балмашевского, и мне захотелось повидать его. Но мои знакомые, которым я рассказал об этом эпизоде, выражали сомнение: «Нет, не может быть! Это, наверное, другой!»
Оказалось, что это был тот же самый Балмашевский, но… возмутивший всех циркуляр он принялся применять не токмо за страх, но и за совесть: призывал детей, опрашивал, записывал «число комнат и прислуги»… Дети уходили испуганные, со слезами и недобрыми предчувствиями, а за ними исполнительный директор стал призывать беднейших родителей и на точном основании циркуляра убеждал их, что воспитывать детей в гимназиях им трудно и нецелесообразно. По городу ходила его выразительная фраза:
– Да что вы ко мне пристаете? Я чиновник. Прикажут вешать десятого… Приходите в гимназию: так и будут висеть рядышком, как галки на огороде… Адресуйтесь к высшему начальству…
Мне опять вспомнился тургеневский Мардарий.
Балмашевские, конечно, тоже не злодеи. Они выступали на свою дорогу с добрыми чувствами, и, если бы эти чувства требовались по штату, поощрялись или хоть терпелись – они бы их старательно развивали. Но жестокий, тусклый режим школы требовал другого и производил в течение десятилетий систематический отбор…
Старательный Балмашевский сделал карьеру, а Авдиев умер незаметным провинциальным преподавателем словесности на окраине.
XXIX. Мой старший брат делается писателемСтарший брат был года на два старше меня. Казалось, он унаследовал некоторые черты отцовского характера. Был, как отец, вспыльчив, но быстро остывал, и, как у отца, у него сменялись разные увлечения. Одно время он стал клеить из бумаги сначала дома, потом корабли и достиг в этом бесполезном строительстве значительного совершенства: миниатюрные фрегаты были оснащены по всем правилам искусства, с мачтами, реями и даже маленькими пушками, глядевшими из люков. Потом он внезапно бросал и принимался за что-нибудь новое.
Особенно он увлекался чтением. Часто его можно было видеть где-нибудь на диване или на кровати в самой неизящной позе: на четвереньках, упершись на локтях, с глазами, устремленными в книгу. Рядом на стуле стоял стакан воды и кусок хлеба, густо посыпанный солью. Так он проводил целые дни, забывая об обеде и чае, а о гимназических уроках и подавно.
Сначала это чтение было чрезвычайно беспорядочно: «Вечный Жид», «Три мушкетера», «Двадцать пять лет спустя», «Королева Марго», «Граф Монте-Кристо», «Тайны мадридского двора», «Рокамболь» и т. д. Книги он брал в маленьких еврейских книжных лавчонках и иной раз посылал меня менять их. На ходу я развертывал книгу и жадно поглощал страницу за страницей. Но брат никогда не давал мне дочитывать, находя, что я «еще мал для романов». Так многое из этой литературы и доныне осталось в моей памяти в виде ярких, но бессвязных обрывков…
Однажды – брат был в это время в пятом классе ро-венской гимназии – старый фантазер Лемпи предложил желающим перевести русскими стихами французское стихотворение:
Весь класс отказался, согласились двое. Это был некто Пачковский и мой брат. Последний кинулся на стихи так же страстно, как недавно на выклейку фрегатов, и ему удалось в конце концов передать изрядным стихом меланхолические размышления о листочке, уносимом потоком в неведомые пределы. О стихах заговорили и товарищи и учителя. Брат прослыл «поэтом» и с этих пор целые дни проводил, подбирая рифмы. Мы смеялись, глядя, как он левой рукой выстукивал по столу число стоп и слогов, а правой строчил, перемарывал и опять строчил. Когда наш смех достигал до его слуха, он на время отрывался от вдохновенного творчества, грозил нам кулаком и опять погружался в свое занятие.
Так как французские стихи перевел также и Пачковский, то сначала в классе говорили: «У нас два поэта». Пачковский, сын бедной вдовы, содержавшей ученическую квартиру, был юноша довольно великовозрастный, с угреватым лицом, широкий в кости, медвежеватый и неуклюжий. Перевод его был плох, но все же заслужил некоторое поощрение. После этого Пачковский стал как-то иначе ходить, иначе носил голову, втягивая ее между поднятых плеч и слегка откидывая назад, и говорил, цедя сквозь зубы. Успех брата не давал ему покоя. Он решился затмить соперника, для чего выступил одновременно с «оригинальной поэмой» и сатирой. Сатира имела форму «послания к товарищу-поэту», и в ней под видом лукавого признания чужого первенства скрывался яд. Поэма изображала страдания юной гречанки, которая собирается кинуться с утеса в море по причине безнадежной любви к младому итальянцу. Поэт напрасно взывает к ее благоразумию, убеждая не губить молодой жизни. Гречанка приводит в исполнение пагубное свое намерение и кидается в пучину. Но и жестокосердый итальянец не избег своей участи: «волны выкинули гречанкино тело на берег крутой» именно в том месте, где жил итальянец младой. Поэма кончалась убедительным двустишием:
И он не смог того пережить
И должен был себя жизни лишить.
Брат пустил по рукам стихотворную басенку о «Пачкуне, поэте народном». Эта кличка так и осталась за Пачковским.
Этот маленький полемический эпизод всколыхнул литературные интересы в гимназической среде, и из него могло бы, пожалуй, возникнуть серьезное течение, вроде того, какое было некогда в Царскосельском лицее или Нежинской гимназии времен Гоголя. Но словесник Андриевский был весь поглощен «Словом о полку Игореве», а затем вскоре появились циркуляры, запрещавшие всякие внеклассные собрания и рефераты. Д. А. Толстой заботился, чтобы умственные интересы в гимназической среде не били ключом, а смиренно и анемично журчали в русле казенных программ.
Пачковский принял тон непризнанного гения: с печатью отвержения на челе он продолжал кропать длинные и вялые творения. Когда однажды Андриевский спросил его на уроке что-то по теории словесности, он полунасмешливо, полувеличаво поднялся с места и сказал:
– Для человека с кастальским источником в душе мертвящие теории излишни.
Андриевский ответил обычным удивленно-протяжным «а-а-а!» – и поставил поэту единицу.
К концу года Пачковский бросил гимназию и поступил в телеграф. Брат продолжал одиноко взбираться на Парнас, без руководителя, темными и запутанными тропами: целые часы он барабанил пальцами стопы, переводил, сочинял, подыскивал рифмы, затеял даже словарь рифм… Классные занятия шли все хуже и хуже. Уроки, к огорчению матери, он пропускал постоянно. —
Однажды, прочитав проспект какого-то эфемерного журнальчика, он послал туда стихотворение. Оно было принято и даже, кажется, напечатано, но журнальчик исчез, не выслав поэту ни гонорара, ни даже печатного экземпляра стихов. Ободренный все-таки этим сомнительным «успехом», брат выбрал несколько своих творений, заставил меня тщательно переписать их и отослал… самому Некрасову в «Отечественные записки».
Недели через две или три в глухой городишко пришел ответ от «самого» Некрасова. Правда, ответ не особенно утешительный: Некрасов нашел, что стихи у брата гладки, приличны, литературны; вероятно, от времени до времени их будут печатать, но… это все-таки только версификация, а не поэзия. Автору следует учиться, много читать и потом, быть может, попытаться использовать свои литературные способности в других отраслях литературы.
Брат сначала огорчился, но затем перестал выстукивать стопы и принялся за серьезное чтение: Сеченов, Молешотт, Шлоссер, Льюис, Добролюбов, Бокль и Дарвин. Читал он опять с увлечением, делал большие выписки и порой, как когда-то отец, кидал мне мимоходом какую-нибудь поразившую его мысль, характерный афоризм, меткое двустишие, еще, так сказать, теплые, только что выхваченные из новой книги. Материал для этого чтения он получал теперь из баталионной библиотеки, в которой была вся передовая литература.
– Га! Помяните мое слово: из этого хлопца выйдет ученый или писатель, – глубокомысленно предсказал дядя-капитан.
Репутация будущего «писателя» устанавливалась за братом, так сказать, в кредит и в городе. Письмо Некрасова стало известно какими-то неведомыми путями и придавало брату особое значение.
Из гимназии ему пришлось уйти. Предполагалось, что он будет держать экстерном, но вместо подготовки к экзамену он поглощал книги, делал выписки, обдумывал планы каких-то работ. Иногда, за неимением лучшего слушателя, брат прочитывал мне отрывки изложения. Но тут подвернулось новое увлечение.
На этот раз причиной его явился известный тогда издатель господин Трубников. В то время он только что поставил газету «Биржевые ведомости», которую обещал сделать органом провинции, и его рекламы, заманчивые, яркие и вкусные, производили на провинциального читателя сильное впечатление. «Выписал я, знаете, газету Трубникова…» Или «Об этом надо бы написать Трубникову…» – говорили друг другу обыватели, и «Биржевые ведомости» замелькали в городе, вытесняя традиционный «Сын отечества» и успешно соперничая с «Голосом».
Однажды брату принесли конверт со штемпелем редакции. Он вскрыл его, и на лице его выразилось радостное изумление. В конверте было письмо от самого Трубникова. Правда, текст письма был печатный, но вначале стояло имя и отчество брата… Откуда юркий издатель узнал об его существовании и литературных склонностях, сказать трудно. В письме говорилось о важных «в наше время» задачах печати, и брат приглашался содействовать пробуждению общественной мысли в провинции присылкой корреспонденции, заметок и статей, касающихся вопросов местной жизни.
Брат на время забросил даже чтение. Он достал у кого-то несколько номеров трубниковской газеты, перечитал их от доски до доски, затем запасся почтовой бумагой, обдумывал, строчил, перемарывал, считал буквы и строчки, чтобы втиснуть написанное в рамки газетной корреспонденции, и через несколько дней упорной работы мне пришлось переписывать новое произведение брата. Начиналось оно словами:
Гор. РОВНО (от нашего корреспондента).
За этим следовала бойко набросанная характеристика маленького городка с его спячкой, пересудами, сплетнями и низменными интересами. Общими беглыми чертами были зарисованы провинциальные типы, кое-где красиво выделялись литературные обороты и цитаты, обнаруживавшие начитанность автора. Мне казалось только, что речь идет как будто о каком-то городке вообще, а не о нашем именно, типы же взяты были скорее из книг, чем из нашей жизни. Это мое замечание нимало не смутило автора. Так и нужно. Это ведь «литература»… Всегда немного иначе, чем в жизни.
Корреспонденция была отослана. Дней через десять старик почталион, сопровождаемый лаем собак, от которых он отбивался коротенькой сабелькой, принес брату номер газеты и новое письмо со штемпелем редакции. Брат тотчас схватился за газету и просиял. На третьей странице, выведенная жирным шрифтом и курсивом, стояла знакомая фраза:
Гор. РОВНО (от нашего корреспондента).
Мне показалось это почти чудом. Так еще недавно я выводил эти самые слова неинтересным почерком на неинтересной почтовой бумаге, и вот они вернулись из неведомой, таинственной «редакции» отпечатанными на газетном листе и вошли сразу в несколько домов, и их теперь читают, перечитывают, обсуждают, выхватывают лист друг у друга… Я перечитал корреспонденцию, и мне показалось, что на огромном сером листе она выделяется чуть не огненными буквами. Критика моя перед печатным текстом почтительно смолкла. Это – «литература», то есть нечто гораздо интереснее нашего тусклого городишка, с его заросшими прудами и сонными лачугами… Листок с столбцом бойких строчек, набросанных рукою брата, упал сюда как камень в застоявшуюся воду… Точно вдруг над сонным городом склонился таинственный и величавый фантом: сам господин Трубников из своего прекрасного далека заглядывает в него умным и насмешливым взглядом… И городок начинает копошиться, точно внезапно раскрытый муравейник.
Городок действительно закопошился. Номер ходил по рукам, о таинственном корреспонденте строились догадки, в общих характеристиках узнавали живых лиц, ловили намеки. А так как корреспондент в заключение обещал вскрыть на этом фоне «разные эпизоды повседневного обывательского прозябания», то у Трубникова опять прибыло в нашем городе несколько подписчиков.
Этот эпизод в значительной степени ослабил благотворное действие некрасовского письма. Брат почувствовал себя чем-то вроде Атласа, державшего на плечах ровенское небо. В то время, когда в городе старались угадать автора, – автор сидел за столом, покачивался на стуле с опасностью опрокинуться, глядел в потолок и придумывал новые темы. Он был весь поглощен этим занятием. Корреспонденция летела за корреспонденцией, и хотя печатались не все, но некоторые все же печатались, а однажды почталион принес повестку на 18 рублей 70 копеек. Эта сумма в то время, когда штатные чиновники суда получали по три и по пяти рублей в месяц, казалась целым богатством. Правда, вялый городок доставлял мало тем, но брат был на этот счет изобретателен. Наибольшее волнение в городе было вызвано его письмом о вечере в местном клубе, куда были допущены гимназисты. Корреспондент изобразил их успех несколько преувеличенными красками. «Питомцы Минервы (гимназисты) решительно оттеснили сынов Марса (гарнизонные и стрелковые офицеры), и прелестная богиня любви, до тех пор благосклонная к усам и эполетам, с стыдливой улыбкой поощрения протянула ручку безусым юношам в синих мундирах». Офицеры обиделись и заговорили об «оскорблении военной чести». Полковник ездил объясняться с директором… Городок долго не мог успокоиться… В качестве практического результата – гимназистам посещение танцевальных вечеров было воспрещено…








