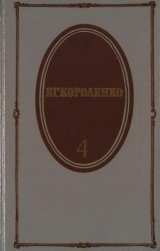
Текст книги "Том 4. История моего современника. Книги 1 и 2"
Автор книги: Владимир Короленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 51 страниц)
Я приехал к концу рождественских каникул, и некоторое время мне оставалось только жадно наблюдать новую обстановку. Улицы, дворики, крыши были покрыты снегом, и товарищи посоветовали прежде всего заказать себе длинные сапоги. Мерку пришел снимать молодой сапожник, бледный чахоточный крестьянин. Поздоровавшись со мной за руку, он наморщил брови и важно спросил:
– Вельфис ур ис ее? [31]31
Который час? ( искажен. нем.:Wieviel Uhr ist es?) – Ред.
[Закрыть]
На мой удивленный взгляд товарищи, смеясь, объяснили, что это он говорит по-немецки.
– Шпрехен зи дейч? [32]32
Говорите ли вы по-немецки? ( нем.:Sprechen Sie deutsch?) – Ред.
[Закрыть]– все так же важно пояснил он и, вынув часы, прибавил – Ее ис дрей ур… [33]33
Три часа… ( нем.:Es ist drei Uhr.) – Ред.
[Закрыть]
– Это его обучили старые студенты – для шутки, – пояснили после товарищи. Молодой сапожник любил щеголять знакомством с прежними студентами, а к новым относился пренебрежительно. «Измельчал народ, – говорил он, – нет теперь настоящего студента. Вот Иван Семенович был… Кулаком двери в один раз вышибал… Собаку, бывало, за хвост поймает, сейчас на древо зашвырнуть норовит… Теперь таких уже и нет…»
Действительно, новый устав резко изменил и возрастной состав, и физиономию петровского студенчества. От прежних осталась только небольшая группа, которую так и называли – «старые студенты».
Через несколько дней после моего приезда в номерах происходила пирушка этих старых студентов. Они пили, пели песни и шумно спорили. Часам к десяти вечера этот шум достиг необычных размеров, а через некоторое время послышалась возня.
– Гонят Орехова, – пояснил пришедший к нам сосед, смеясь. – Теперь начнется история.
В этой компании были два приятеля, отношения которых странным образом напоминали отношения Горицкого и его друга-врага Белавина. Вольфрам с Ореховым были оба кавказцы, гимназические товарищи. Большие друзья в трезвом виде, они становились врагами, как только напьются… Начинал обыкновенно Орехов, который по мере опьянения становился язвительно остроумен и придирчив. Вольфрам сначала уступал, а потом лез в драку… Товарищи знали, что Орехов необыкновенно силен, а пьяный вдобавок свирепеет, и вступались общими силами за Вольфрама. На этот раз тоже кончилось тем, что Орехов общими силами был извергнут из номера.
– Теперь пойдет по Выселкам и будет искать, с кем подраться, – пояснил тот же наш сосед.
Мне нужно было за чем-то в лавочку, и я вышел в коридор. Внизу горела тусклая лампочка. Едва я сошел вниз, ко мне из-под лестницы внезапно выбежал рослый красавец Орехов. Он был строен, необыкновенно широкоплеч и тонок в стане. Выскочив из темного угла, он вдруг схватил меня за плечи, но затем, вглядевшись в мое лицо черными глазами, горевшими на бледном лице, сказал:
– Вы кто такой?.. Вы не от них?.. Нет?.. А, это новичок!.. Ну, извините… У меня нет с вами никаких счетов…
И, выйдя вслед за мной, он скоро исчез в снежной зимней тьме… На следующий день стало известно, что он учинил большую драку в фабричном поселке, верстах в двух от Выселок.
А пирушка продолжалась долго за полночь… Под утро я проснулся от разговора в соседнем номере. Надежда Ивановна, сожительница Вольфрама, укладывала его в постель. Он плакал и говорил, что ему надо идти разыскать Орехова… Орехов оскорбил ее, Надежду Ивановну, а он, Вольфрам, не позволит никому оскорблять ее. Правда, он сам по отношению к ней – неблагодарное животное… В этом году кончает курс и бросит ее… Откровенно говорит, что бросит… Ему нужно начать новую жизнь… Совсем новую… иначе и он погибнет, и она с ним… Но все-таки он – скверное животное… Впрочем, все люди животные, и Надежда Ивановна тоже… И не то что животные, а просто машины… Конечно, машины… А вы этого и не знали?.. Думали: душа и прочее… Пустяки… Человек – машина, и кончено!.. И вы машина… О, да какая вы умная машина вдобавок… Успела уже стащить сапоги…
И долго еще он говорил что-то, куда-то порывался, и порой ему отвечал женский голос, кроткий и печальный. Вскоре, очень заинтересованный, я познакомился с Вольфрамом и Надеждой Ивановной, а потом и с Ореховым. Вся компания напомнила мне петербургских знакомых-костромичей, и особенно Пашу Горицкого. Это были последние могикане прежней академии. В их лице сходило со сцены целое поколение нигилистического периода.
III. Разрушитель ЭдемскийБыла и еще одна чрезвычайно характерная фигура из этих старых студентов. Это был некто Эдемский. Он поступил еще при старом уставе, потом был исключен, как привлеченный к нечаевскому делу, отбыл ссылку и поступил вторично при новом уставе. О своем «нечаевском» прошлом он говорить не любил. В академии вообще мало говорили об этой истории, хотя в мое время еще существовали развалины «Ивановского грота» и были люди, которые знали действующих лиц этой трагедии. По всем рассказам, которые мне пришлось слышать, Иванов, убитый нечаевцами, был прекрасный человек, и не могло быть никакого сомнения, что он не собирался донести о заговоре, как в этом уверял Нечаев. Он просто разглядел приемы Нечаева и решил уйти из организации, а Нечаев, в свою очередь, решил убить его, чтобы «скрепить кровью» свою первую конспиративную ячейку. Он думал, что можно всю Россию охватить сетью таких отдельных конспиративных кружков, связанных железной дисциплиной, хотя бы цементом явился только обман…
Каждый член кружка обязуется основать такой же кружок. Таким образом, «революция» растет в геометрической прогрессии. В известный день приказом сверху, от центрального кружка, – в России объявляется свободный строй. Приказ идет от кружка к кружку, не знающих даже друг друга, и страна вдруг узнает, что она чуть не вся революционна и свободна… Впоследствии, уже в Сибири, мне довелось встретиться с людьми, которыми этот человек успел овладеть теми же приемами, то есть обманом и кровью. Но об этом мне придется говорить в другом месте, а пока скажу лишь, что нечаевское дело было характерно для нигилистического периода. Никакой веры, на которую могло бы опереться это поколение, – как последующее, например, верило в народ… У них был только крайний рационализм и «математический расчет», более наивный, чем любая, самая наивная вера.
Эдемский был великоросс и, кажется, бывший семинар. У него было лицо дегенерата, с резко выдающейся нижней челюстью и черными, горящими глубокой страстью глазами. Он ходил в каком-то охабне вместо пальто, с суковатой палкой. В обыкновенное время молчаливый и угрюмо-сдержанный, он дружил только с двумя-тремя товарищами много моложе себя. По временам он напивался и тогда становился страшен. У него являлось странное красноречие, и он с пламенным пафосом произносил речи о необходимости всеобщего разрушения. При этом он ломал попадавшиеся ему под руку картины, фотографии, зеркала. Однажды, навязав на кнут камень, он пошел бить выпуклые стекла в здании академии. В другой раз, наготовив кучу ядер из снега, он сделал вечером засаду и с диким криком засыпал ими подъезжавшего на извозчике студента, ничего дурного ему не сделавшего. Однажды он рвался пьяный к приятелю с ружьем в руках и, наверное, застрелил бы его, если бы его не схватили сзади. Любимой темой его мрачных разговоров была необходимость кровавого террора и «миллиона голов».
По этому поводу рассказывали, что однажды удивленный собеседник заметил:
– Слушай, Эдемский, пожалуй, ты уничтожишь все человечество и останешься один…
Эдемский мрачно сверкнул глазами и, разбив об стол пивную бутылку, ответил:
– Уничтожу подлое человечество!.. Один останусь, черт возьми, и новый человеческий род произведу!..
К счастью, несмотря на устрашающий вид и неразлучную суковатую палку, он был слаб, как куренок, и все его разрушительные попытки усмирять было нетрудно. Однажды, именно в тот раз, когда он разбушевался с ружьем, кто-то пригласил ночного сторожа, и Эдемского связали. После этого дня два он ходил такой мрачный, что приятелю, позвавшему сторожа, советовали остерегаться. Казалось, это может кончиться убийством, но кончилось благополучно. Эдемский потребовал третейского суда, явился на него очень торжественно и прочел длинное пламенное заявление, написанное с присущим ему мрачным пафосом.
Он начал с самообвинения… Да, он признает себя виновным: к лучшему другу он, в увлечении принципиальным спором, рвался с ружьем и хотел его убить. Он признает, что заслужил какой угодно отпор, более того: если бы его убили, застрелили из его собственного ружья, размозжили ему голову каблуками, он не сказал бы ни слова. Но с ним поступили гораздо хуже: призвали подлого альгвазила, представителя грубой силы, слугу деспотического порядка, представителя власти – той самой, которая…
За этим следовало несколько страниц, на которых а тем же мрачным красноречием излагались все преступления русского правительства, начиная чуть ли не с Иоанна Грозного.
Третейские судьи переглядывались с недоумением, но приговора, кажется, даже не потребовалось: изложив с большим волнением и искренностью обуревавшие его чувства, Эдемский как будто истощил при этом весь запас гнева и всю жажду мести. Он заплакал и протянул руку бывшему другу.
Забегая вперед, скажу, что этот странный человек кончил тоже довольно странно. В ссылке, где-то в Архангельской губернии, он женился на простой необразованной девушке, и у него пошли дети. По окончании срока он поселился в Нижнем Новгороде и по нужде поступил на место ярмарочного смотрителя с ничтожным жалованьем.
– Конечно, при этом бывают сторонние доходы от купечества, – простодушно пояснил мне человек, передавший эти сведения.
Я собирался посетить бывшего товарища, но через некоторое время узнал, что он умер.
IV. Новые студенты. – Григорьев и ВернерВскоре я, конечно, перезнакомился со своими сверстниками и товарищами. Жизнь петровского студенчества и теперь резко отличалась от жизни других заведений… Через некоторое время мы переселились из Выселок на шоссе, наняв втроем комнату на так называемой «архиерейской даче». Прямо против ее ворот стоял густой сосновый бор, и однажды волк нагло утащил у нас собаку. Самая дача, собственно, была нежилая зимой и страшно холодная. Мы покрывались всем, чем могли, и все-таки страшно зябли. Такие же дачи, только лучше приспособленные для зимы, были раскиданы и в других местах в стороне от шоссе и в лесу. На Выселках жили два жандарма, но, разумеется, никакой возможности уследить за этими уединенными дачками у них не было, и сходки происходили часто. Помню, как в первый раз я с интересом пробирался по запорошенной свежим снегом тропинке. Огонек светил сквозь стволы деревьев, и в замерзшие окна все-таки были видны очертания многочисленных фигур. Никто не боялся выслеживания: забраться сюда сыщикам было бы небезопасно. Помню, как меня в этот первый раз поразила на сходке живописная фигура студента семинара Владимирова, который явился с револьвером на красной перевязи и, кажется, еще с кинжалом. На первый взгляд – длинные лохматые волосы, борода, высокие сапоги и это оружие придавали ему вид настоящего разбойника, но, в сущности, это был самый добродушный человек, впоследствии с честью занимавший видное место в лесном департаменте. Сам он, кажется, относился шутливо к своему воинственному виду, и, когда у него спрашивали, зачем он это делает, он отвечал, улыбаясь, цитатами о карбонарах, приходивших на лесные сходки «вооруженными до зубов». У него была необыкновенная библиографическая память, и даже спорил он не иначе, как цитатами…
Вообще, ничего серьезного на этих сходках не происходило. На этот раз говорили о том, что Королев старается ввести школьническую дисциплину и относится к студентам как к ученикам той гимназии, где он был директором. Некоторые «ораторы» призывали к протесту, но все понимали, что это не серьезно, как не серьезен револьвер Владимирова, которым стрелять, наверное, не придется…
На пирушках громко пели революционную «Дубинушку»:
Чтобы барка шла ходчее,
Надо гнать царя в три шеи…
Эй, дубинушка, ухнем,
Эй, зеленая, сама пойдет,
Пой-де-ет…
Или:
Отречемся от старого мира,
Отрясем его прах с наших ног…
Песня разносилась далеко, отдаваясь в парке… Ходили по рукам революционные издания вроде «Отщепенцев» Соколова и «Анархии по Друдону» Бакунина. Многое тут было очень «крайне» и даже свирепо. Бакунин прямо предлагал соединиться с «ворами и разбойниками русской земли», как с элементом инстинктивно революционным и анархическим… Мне кажется теперь, что это являлось тоже остатком прежнего нигилистического периода и совершенно не имело почвы в психологии новой молодежи. Студенты читали книжки об анархии, пели революционную «Дубинушку», произносили общезажигательные речи, потом получали дипломы и сливались со средой, как будто все это ни к чему их не обязывало. И сходка в занесенной снегом даче не произвела на меня большего впечатления, чем в свое время тайное собрание в Измайловском полку.
Правда, еще в Петербурге, уже во второй год моего пребывания в Технологическом институте, в редкие дни, когда я заходил на лекции, я не мог не заметить некоторого особенного оживления в студенческой среде. Между прочим, оно сказывалось на своеобразной литературе объявлений в рекреационной зале. Среди обычных объявлений о подписке на лекции, «ищут сожителя в удобной комнате» и т. д., теперь замелькали рассуждения, обличения, даже полемика. Помню, например, «вопрос о зеленых околышах». Формы тогда у технологов не было. «Но мы так пропитаны казенщиной, – писали какие-то обличители, – что не можем обойтись хотя бы без околыша. Такого-то числа компания молодых интеллигентных саврасов устроила грандиозный скандал в таком-то ресторане, причем была оскорблена женщина… Как вы думаете, товарищи: не было ли там зеленых околышей?» и т. д.
К этой литературе начальство сначала относилось снисходительно. Но вот однажды я увидел около одного листка густую толпу, сквозь которую старался пробиться кто-то из академической администрации с двумя педелями. Я тоже пробился к стене и увидел стихотворение, озаглавленное, кажется, «К бою». Оно призывало к открытому, громкому протесту против деспотизма и кончалось следующим четырехстишием:
И если деспот мощною рукою
Тебя за горло схватит наконец
И ты не в силах будешь кликнуть к бою,
То молча плюнь в лицо ему, боец.
Стихотворение быстро разошлось по рукам. Я тогда уже был в своем скептическом периоде, и на меня оно не произвело впечатления. Через несколько дней я зашел к одному из своих земляков-ровенцев. Этот бедняга попал в полосу вроде нашей, но вдобавок не отличался ни выносливостью, ни энергией. Вскоре он совершенно оголодал, позеленел и даже распух от постоянного лежания в кровати. Но у него были тоже фантазии. Поднявшись и став в позу, он неожиданно задекламировал «К бою», и это окончательно убило стихотворение в моих глазах…
В Петровской академии в этот первый год у меня продолжалось то же настроение. Я ожил, поздоровел, повеселел, но на всю массу студенчества смотрел уже без прежнего интереса и прежних ожиданий. Старые студенты будили во мне хотя бы художественное любопытство. Их фигуры были колоритнее, и у них чувствовался некоторый драматизм. В новом студенчестве я не видел и не хотел видеть даже этого.
Год подошел к концу, и весь наш ровенский кружок, в том числе и Сучков, потерявший, как и я, время в Технологическом институте, отлично выдержали экзамены. Я не только перешел на второй курс, но и получил стипендию (которых тогда было много) и собирался съездить в Кронштадт к матери. Но ранее отъезда у меня произошла одна встреча, которая имела самое решительное влияние на мое настроение и послужила началом горячей дружбы, оставшейся на всю жизнь.
Как-то в жаркий день начала лета, проходя по площадке мимо академии, я увидел молодого офицера, шедшего под руку с маленькой старушкой. Он только что вышел из канцелярии и теперь оглядывался как человек, совершенно незнакомый с местностью. Увидев меня, он вежливо поклонился и спросил, можно ли теперь осмотреть академию. Мне делать было нечего, и я предложил пойти с ними. Я провел их обоих по пустым аудиториям и кабинетам, а затем предложил осмотреть и парк. В парке тоже было почти пусто, и мы разговорились. Оказалось, что его зовут Василий Николаевич Григорьев, а старушка – его мать. Он офицер инженерной академии, второго курса, но сейчас подал прошение о приеме его в Петровскую академию. С ним поступает также его товарищ, Константин Антонович Вернер.
Это вызвало во мне внезапный интерес и глубокую симпатию. Эти офицеры не удовлетворены своей обстановкой и ищут чего-то, как и я искал когда-то. Найдут ли?.. И меня точно вдруг прорвало. Мы подошли в это время к Ивановскому гроту… Теперь это была только развалина. Вершина холма обрушила потолок, и часть грота засыпало. Место было глухое, в стороне от больших аллей. Поблизости сочился ручеек и шумели деревья. Каждый раз, когда я заходил сюда, меня охватывало чувство какой-то особенной тоски. Под шорох деревьев и тихое журчанье ручья я старался угадать значение мрачной драмы. При этом личность погибшего Иванова будила во мне странную симпатию. Может быть, он изверился, как и я…
Это ощущение нахлынуло на меня и теперь, и вот перед этим незнакомым человеком, возбудившим во мне внезапную симпатию, я неожиданно для себя излил всю горечь, накопившуюся за эти годы. Я рассказал ему о старых студентах с их драмой, и о Паше Горицком, и о нашем поколении, которое казалось мне таким мелким и неинтересным…
Григорьев слушал внимательно, и в его серых глазах, глядевших на меня из-под крутого лба, я видел глубокий интерес и участие. Но мне казалось, что этот интерес вызывается не столько самым содержанием рассказа, сколько моим настроением. Я чувствовал, что все, что я рассказывал, не ново для этого молодого офицера, что он меня понимает, но что у него есть уже на все это какой-то свой ответ. Я, в свою очередь, перешел к вопросам, но Григорьев был очень сдержан. Он рассказал только, что, окончив инженерное училище, несколько лет служил в армии. Служба его не удовлетворила. Поступил в инженерную академию, но пришел к заключению, что и это не его дорога… И вот – поступает к нам…
Было что-то в этом новом знакомом, что меня влекло к нему и вместе импонировало. Несмотря на минувшие уже двадцать лет, я совсем еще и не видел жизни и порой чувствовал себя мальчиком. А передо мной был человек, немногим старше, но уже повидавший жизнь. Я угадывал в нем свое настроение, только… Он как будто видел еще что-то, чего я не вижу. И это-то придает такую твердость и определенность взгляду его серых глаз.
В одну из последующих встреч Григорьев по какому-то поводу процитировал из Писарева: «Скептицизм, переходящий за известные пределы, становится подлостью». У Писарева это сказано несколько иначе, но мысль та же, и именно в этой форме в устах Григорьева она произвела на меня сильное и неизгладимое впечатление. И мне показалось, что я слишком самонадеянно стал преподавать ему уроки своего скороспелого разочарования.
Григорьев поступил в академию, и, так как я отправился в Петербург и Кронштадт, он просил меня непременно побывать у его друга, К. А. Вернера, и передать ему программу и письмо. Вернера я разыскал в мансарде на Пушкинской улице. Это был молодой офицер в форме инженерной академии, в обтрепанном мундирчике с талией, короткой не по росту, с буйными волосами и вообще совершенно не военного вида. Мне показалось, что, прочитав письмо, он с любопытством взглянул на меня. Мне он понравился.
Вернер также поступил в академию, и, вернувшись с каникул, я близко сошелся с обоими, особенно с Григорьевым. С этих пор многое, что происходило выдающегося в дальнейшем, мы переживали уже вместе.
Этот второй академический год отмечен для меня близким участием в студенческой жизни. В академию поступило несколько архангельцев, в том числе два брата Пругавины и Личков. В Архангельске жил в эти годы в ссылке Василий Васильевич Берви (Флеровский), в доме которого бывало много молодежи, и архангельцы явились с значительным «настроением». Кроме того, у Григорьева была особенная способность сходиться с людьми, и через некоторое время он сообщил мне, что среди наших студентов он встретил несколько человек очень интересных. И он рассказал, что именно в них интересно. Я их не заметил ранее вследствие своего предубежденного взгляда, и теперь те же люди представились мне уже в другом свете. Поэтому и интерес к студенческой жизни возрастал. Я бывал на сходках, которые продолжались по-прежнему, но дело теперь пошло гораздо живее. Взносы в студенческую кассу утроились, а неофициально существовавшая библиотека значительно обогатилась. На сходках обсуждались конкретные вопросы быта, и это придало им живой интерес, привлекший значительные круги прежде равнодушного студенчества. Но этим не ограничилось.








