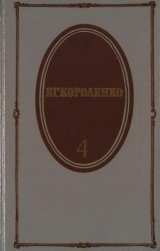
Текст книги "Том 4. История моего современника. Книги 1 и 2"
Автор книги: Владимир Короленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 51 страниц)
Под конец этого первого моего петербургского года наша компания внезапно разбогатела. В последние годы в гимназии после смерти отца я и мой брат были зачислены «стипендиатами его величества». Теперь мать писала мне, что благодаря стараниям друга моего отца, местного священника Барановича, знакомого с графиней Блудовой, эта стипендия может быть продолжена и в высшем учебном заведении. Мне нужно сходить к графине Блудовой в Зимний дворец, а она уже укажет, куда следует обратиться дальше. Она, наверное, все уже сделала… «Смотри же, непременно сходи!» – прибавляла мать.
Года два спустя я, не колеблясь, отверг бы этот проект. Но в то время мои политические понятия были так же смутны и непоследовательны, как и литературные… Я готов был работать в газете Комарова, хотя сочувствовал Добролюбову, и я не видел ничего предосудительного в стипендии его величества, хотя мечтал о республике… Мать писала, что сходить к Блудовой прямо необходимо. Мне очень не хотелось, но я пошел. Товарищи общими усилиями снарядили меня в приличный сборный костюм, и, не веря себе, я вошел с одного из маленьких подъездов со стороны Невы внутрь Зимнего дворца. Широкие лестницы с коврами, лакеи в дворцовых ливреях и гвардейские солдаты, то и дело откидывающие от плеча ружья, приставленные прикладом к ноге. Графиня, маленькая, полная женщина, довольно некрасивая, встретила меня очень добродушно, сказала, что она получила все сведения от Барановича и кое-что уже сделала. Мне следует отправиться с ее карточкой к князю Голицыну, в канцелярию прошений, подаваемых на высочайшее имя. Это был как раз приемный час, и князь Голицын принимал. Он уже знал о моем деле и очень ласково объяснил мне, что стипендию сейчас выдать нельзя. Суммы исчерпаны.
– Но, – продолжал князь, – мы, несколько добрых знакомых графини, узнав о заслугах вашего отца и о положении семьи, позволили себе (он так и сказал) выразить свое сочувствие и участие сбором некоторой суммы, которую вы можете получить сейчас.
Дежурный чиновник подал князю конверт, который тот протянул мне.
Кровь бросилась мне в лицо. Отдернув руку, я сказал с волнением, что я не просил и не рассчитывал на милостыню, а только на официальную стипендию, налагающую известные обязательства по будущей службе. Наскоро откланявшись, я ушел с некоторым облегчением… «Ну вот – побывал и с чистой совестью напишу матери, что дело кончено…»
Но через несколько дней в нашу квартирку позвонился дворцовый курьер и подал официальное приглашение – явиться в такой-то день и час в ту же комиссию. Там опять встретил меня князь Голицын. Это был очень красивый высокий блондин, с мягкими чертами и мягкими манерами. На этот раз вид у него был официальный и несколько суровый. Он тут же усадил меня за стол, продиктовал текст прошения, под которым следовало подписаться: «Вашего величества верноподданный студент такой-то», и сказал официально:
– Ваше прошение удовлетворено, и вот за полугодие… Выдайте, Иван Иванович, а вы распишитесь.
Я расписался в получении ста семидесяти пяти рублей.
Никогда еще в жизни у меня сразу не было таких огромных денег. По пути домой я зашел на Малой Морской в кондитерскую и купил целую кучу сладостей.
Благополучие это пришло для нас слишком поздно: год все равно был потерян. Мы только исправили изъяны наших костюмов, расплатились с Цывенками, с некоторыми другими долгами и… совершили несколько экскурсий увеселительного характера, впрочем, довольно невинного свойства, а затем все уехали на каникулы.
Таким образом, первый год моей петербургской жизни закончился.
Чем и как?..
По дороге домой я опять заехал к дяде в Сумы, и дальше мы поехали вместе. За этот год он сильно исхудал, огромные глаза его горели зловещим лихорадочным огнем. Он очень любил меня с детства и теперь опять встретил радостно, но через несколько времени я заметил, что его печальные глаза все чаще останавливаются на мне пытливо и тревожно.
– Ты изменился за это время, – говорил он.
Да, я изменился. Я был уже не тот, который год назад так глупо загорался от декламации Теодора Негри. Теперь я не дурак, меня этим не проведешь! Я многое увидел в жизни, розовый туман передо мной рассеялся. Я узнал, что под самой умной наружностью «настоящего студента» может скрываться Васька Веселитский, что в «Отечественных записках» может писать бедняга Наумов, а «извлеченные из мрака заблуждения» девицы оказываются наумовскими Лизочками… Столичная жизнь за этот год не подняла меня к себе. Наоборот – мне казалось, что она опустилась до моего уровня. Я тускл и неинтересен… И она тоже… Пусть… Я как будто гордился этим своим теперешним «умом»… «Настоящих», «идеальных» нет совсем, и я не хуже, а может, и умнее многих…
Однажды, уже в деревне, в саду я случайно услышал обрывок разговора дяди с матерью.
– Да, это правда, – говорил дядя, – он возмужал, стал развязнее, пожалуй, остроумнее… Не краснеет при каждом слове, как прежде. Но, как хочешь, прежде он мне нравился гораздо больше… Теперь он стал хуже…
Мне стало больно от этих слов. Я очень любил этого своего дядю и сознавал с печалью, что он прав: я был лучше, когда жизнь для меня была в розовом тумане. Еще на днях мы с Сучковым съездили на несколько дней в деревню к Гриневецкому и в качестве петербургских студентов вели себя там такими развязными дураками – может быть, именно от природной застенчивости, – что еще теперь, спустя более сорока лет, мне становится стыдно при этом воспоминании. И вот теперь этот отзыв дяди, печально суровый и правдивый…
«Ну ничего, – сказал я себе, тряхнув головой. – Будущий год все это поправит».
X. Корректурное бюро Студенского. – Я принимаю внезапное решениеНи следующий, ни начало третьего года ничего не поправили. В этот год вся наша семья переехала на север. Мы были очень дружны с моим двоюродным братом, сыном того самого капитана, о котором я так много говорил в первом томе этой правдивой истории.
Этот двоюродный брат, артиллерийский офицер, долго жил в нашей семье, и теперь его перевели в Кронштадтскую крепостную артиллерию. Мой старший брат решил тоже переехать в Питер, а затем и мать, чтобы быть ближе к нам, решилась поселиться вместе с племянником в Кронштадте. Младший брат поступил в Петербурге в реальное училище.
Приходилось думать о заработке. Я продолжал рисовать атласы, брал еще чертежи, рисовал географические карты для печати, вместе с старшим братом переводил для Окрейца романы по семи рублей с печатного листа и вообще занимался подобной черной работой. Раз в неделю для отдыха мы с братьями садились на кронштадтский пароход и воскресенье проводили у матери.
Так прошел второй год, так же начинался третий.
Осень этого года застала меня в корректурном бюро некоего Студенского. Это было для меня самое тяжелое время. Мой старший брат, кажется, первым пристроился к корректуре, стал работать у Демакова, а затем поступил на постоянную работу к Студенскому.
Это была фигура оригинальная, в чисто диккенсовском роде. Высокий, худой, желтый, лицо почти безусое и дряблое, все в мелких складках и морщинках, светлые, неопределенного цвета глаза, производившие впечатление мутных льдинок, и при этом – прекрасные волнистые светло-каштановые кудри, в рамке которых странно выступала эта безжизненная маска.
Он предложил брату постоянное жалованье и комнату. Брат принял предложение, а затем Студенский предложил то же и мне. Для первого знакомства он поднес нам свое литературное произведение. Это была небольшая брошюрка с очень длинным заглавием: думаю, что память мне не изменяет, – оно было следующее:
ЦИТАЦИЯ И ТОМИЗАЦИЯ ЗАКОНОВ В ПРИМЕНЕНИИ К ТИПОГРАФСКОМУ ИСКУССТВУ
а равно
Произведение это предлагает
новое расположение светил небесных
и букв в азбуке
Другое его произведение носило не менее оригинальное заглавие:
ФИЛОСОФ, КОКЕТКА
и упраздненный третий
Что касается содержания обоих этих творений, изложенных безукоризненно в грамматическом и корректурном смысле, то это было какое-то запутанное слово-извитие, лишенное всяких признаков здравого смысла.
– Изволили прочитать? – спросил он меня на следующий день.
Я прочитал, заинтересованный заглавием, но затруднился дать какой-либо отзыв.
– Да, это требует некоторой философской подготовки, – самодовольно заметил автор.
Вначале я просто подумал, что имею дело с сумасшедшим маниаком, и на меня напала легкая жуть. В особенности когда он сообщил, что, кроме полистной работы, у нас будет еще особая работа по часам над некоторым его личным учено-литературным начинанием.
– Я осуществляю оригинальнейшую мысль, – говорил он своим тусклым, мертвым голосом, – издаю русско-французский словарь, в котором слова будут расположены не по начальным буквам, а по окончаниям.
Однако оказалось, что этот человек с такими фантастическими идеями отлично устраивал свои практические дела. Он основал бюро, в котором сосредоточил корректуру нескольких более или менее крупных предприятий. Он корректировал «Родник», «Неделю», «Французско-русский словарь» Макарова, какой-то научный еженедельник, все, что печаталось в огромной типографии Демакова и еще в нескольких маленьких типографиях. Сам он был корректор превосходный, очень быстро применялся к индивидуальным корректурным требованиям каждого издания и каждого отдельного автора. Но работал он чрезвычайно медленно и, конечно, не мог бы справиться с такой массой работы. Поэтому он раздавал ее по рукам нуждающимся молодым людям и девицам, причем отлично оценивал ту степень горькой нужды, которая отдавала их в его руки. Редко он платил им половину того, что получал сам.
Не могу вспомнить без содрогания об этих двух-трех месяцах моей жизни, когда мы с братом жили у Студенского. Квартира его помещалась в узком Демидовском переулке, почти против пересыльной тюрьмы. Под нею в подвальном этаже находилась шоколадная фабрика. Из нее несся вместе с пряным удушливым запахом постоянный глухой гул машины, от которого слегка вздрагивали полы и окна. Когда мы открывали окна, выходившие в Демидовский переулок, волны пряного пара врывались порой в комнату. Отделывая квартиру по своему странному вкусу, Студенский распорядился оклеить ее темно-синими обоями. Двери и карнизы были черные, даже потолок довольно темного цвета. В общем, комната напоминала гроб. От времени до времени черная дверь приоткрывалась, в ней показывалось лицо-маска, и длинная сухая рука Студенского протягивала в щель большой корректурный лист, резко и траурно белевший на темном фоне… На меня нападала невольная оторопь.
За вычетом довольно высокой платы за комнату, мы зарабатывали с братом рублей по пятидесяти. Но для этого приходилось работать с раннего утра до поздней ночи, едва урывая час, чтобы наскоро пообедать в какой-нибудь дешевой кухмистерской и пробежать там номер газеты. Если выдавались какие-нибудь промежутки в основной работе, Студенский тотчас же старался заполнить их работой «по часам». Это значило, что он снимал со стены длинные полосы «словаря по окончаниям», и нам приходилось тянуть эту бесконечную и бессмысленную канитель. Это была работа «хозяйская», очень дешевая (что-то копеек по шести в час) и совершенно бессмысленная, а потому особенно тяжелая. Человек с мертвой маской вместо лица и с тусклыми ледяными глазами держал нас все это время в цепких костлявых руках, точно фантастический вампир. Оказалось вдобавок, что сердце его доступно обычным человеческим слабостям. Поэтому он иногда прикомандировывал к нам в качестве «чтицы» некую барышню, совершенно не способную даже к этой нехитрой работе.
Мы становились под влиянием обстановки болезненно-нервными, а брат, обладавший вообще нетерпеливым темпераментом, часто выходил из себя.
– Тут не так, – говорил он, пока еще сдержанно, ожидая, что «чтица» поправит неправильность по рукописи. Но бедная помощница давно потеряла текст и теперь тщетно старалась найти требуемое место. Брат начинал терять терпение:
– Я жду, – говорил он, уже волнуясь, но помощница, потеряв всякую надежду найти в рукописи требуемое место, вдруг подымала глазки к потолку и с наивно-любознательным видом произносила:
– Вот что. Я давно хотела спросить вас: что такое «сквоттер» и «фермер»?
Брат окончательно терял терпение, хватался за голову, начинал топать ногами и произносил с бешенством:
– К черту сквоттеров!.. К дьяволу фермеров!.. Ко всем чертям всех вместе!.. Давайте рукопись и сидите молча… Я буду читать один…
Глаза бедной барышни расширялись от испуга, и на них появлялись слезы…
– Погодите, она разовьется, – говорил Студенский, до слуха которого доходили эти вспышки…
Вскоре в этой обстановке и в этой тяжелой атмосфере, насыщенной глухим вздрагивающим гулом и удушливыми парами, у меня повторились припадки нервной астмы, которой я был подвержен с детства. Она всегда повторялась в периоды тяжелой жизни, исчезая с переменой настроения…
Подошла ясная, теплая осень, тот период, когда на петербургских улицах в полусумраке увеличивающихся вечеров начинают зажигать фонари. Однажды в такой сумеречный час я только что вернулся из кухмистерской. Брата не было, на столе еще не лежала корректура. Открыв окно, я лег на подоконнике и высунулся в переулок. Было свежо и приятно. Резкий ветер от взморья освежил воздух, дышалось легко. Мимо нашего окна быстро пробежал фонарщик с лестницей на плече, и вскоре две цепочки огоньков протянулись в светлом сумраке…
Я почувствовал, как внезапная, острая и явно о чем-то напоминающая тоска сжала мне грудь. Она повторялась в эти часы ежедневно, и я невольно спросил себя, откуда она приходит. В ресторане я прочитывал номера «Русского мира», в котором в это время печатался фельетоном рассказ Лескова «Очарованный странник». От него веяло на меня своеобразным простором степей и причудливыми приключениями стихийно бродячей русской натуры. Может быть, от этого рассказа, от противоположности его с моею жизнью в этом гробу – веет на меня этой тоской и дразнящими призывами?
Я взглянул вдоль переулка. Цепь огоньков закончилась. Они теперь загорались дальше, наперерез по Мойке и Малой Морской. Я вдруг понял: моя тоска от этих огней, так поразивших меня после приезда в Петербург. Тогда были такие же вечера, и такие же огни вспыхивали среди петербургских сумерек. С внезапной силой во мне ожило настроение тогдашней веры в просторы жизни и тогдашних ожиданий. А затем быстро пронеслись в памяти эти два года: мансарда на Малом Царскосельском, голод, бессмысленная работа над атласами, Веселитский, Паша Горицкий, чертежная доска в институте, Ермаков, целый ряд разочарований… И вот теперь этот гроб…
Тихо скрипнула дверь, показалось мертвое лицо Студенского, и сухая рука протянула полосы словаря. Я подошел к дверям и как-то неожиданно для себя сказал:
– Я прошу вас рассчитать меня: через несколько дней я уезжаю в Москву.
Наша компания первого года вся рассеялась. Гриневецкий перешел в Горный институт, поселился в самых дальних линиях Васильевского острова, не показывался оттуда к прежним товарищам и упорно занимался, вновь получая деньги от родителей. Сучков уехал в Москву, где поступил в Петровскую академию. Там же было в это время еще несколько земляков, в том числе Мочальский, один из лучших моих товарищей. Получив как-то мое грустное письмо, он предложил бросить все в Петербурге и приехать в академию. Меня примут, хотя год уже начался. На первое время я поселюсь с земляками, а там, наверное, со своим рисованием опять найду работу.
Сначала мне это показалось совершенно невыполнимым, но теперь эта острая тоска по чему-то дорогому, потерянному, странный язык этого полусумрачного вечера с огоньками фонарей – сказали другое. Через неделю, получив у Студенского несколько десятков рублей, я съездил в Кронштадт, чтобы попрощаться с матерью. Она даже обрадовалась моему проекту. Впереди ей рисовалась для меня карьера лесничего, скромный лесной домик, в котором под ее крылышком вновь соберется наша семья…
Через несколько дней я был уже в Петровской академии.
Часть третья
В Петровской академии
I. Первые впечатленияВ этом месте моих воспоминаний на меня точно веет струя свежего воздуха, и прежде всего в прямом, не переносном смысле. Уже от Москвы дорога пролегла лесными аллеями с запахом свежего снега и сосны. Пустые дачки среди леса, потом красивое здание академии, церковка, парк, плотина, пруд под снегом в одну сторону, открытые дали в другую и своеобразный поселок с двухэтажными Ололыкинскими номерами (незадолго перед тем переименованными в номера Благосклонного). Всюду только фигуры крестьян и студентов. Понятно, как все это подействовало на меня после Демидовского переулка, комнаты с темными обоями и черными дверьми и «корректурного бюро Студенского». С этого времени начинается для меня новый период жизни и новое настроение…
Петровская академия была открыта 21 ноября 1865 года во дворце, принадлежавшем когда-то Разумовскому. Ровесница крестьянской реформы, академия отразила на первом уставе своем веяния того времени. По этом уставу никаких предварительных испытаний или аттестатов для поступления не требовалось. Лекции мог слушать каждый по желанию – какие и сколько угодно. Кроме постоянных слушателей, допускались и посторонние с платою по шестнадцати копеек за лекцию. Первые три лекции, если разрешал профессор, могли быть и бесплатными. Переходных курсовых испытаний не полагалось, а были лишь окончательные экзамены для лиц, желавших получить диплом. Курс был трехгодичный, но экзамены можно было сдавать в какие угодно сроки… Группа студентов заявляла о своем желании, и профессор назначал день экзамена. По выдержании экзаменов по всем предметам выдавался диплом на степень кандидата. На слушателей смотрели «как на граждан, сознательно избирающих круг деятельности и не нуждающихся в ежедневном надзоре».
Все надежды, оживлявшие интеллигенцию освободительного периода, отразились в этом уставе, нашли в нем свое выражение. Свобода изучения и вера в молодые годы обновляющейся страны – таковы были основания устава. Наука не искала усердия по принуждению. Развертывая перед жаждущими все свои средства, она с достоинством ждала всего от любви к знанию и верила в эту любовь, не гоняясь за нею с контролем и регламентацией… Таинственное покрывало Изиды, делающее из науки что-то вроде профессиональной тайны для посвященных, снималось. Все призваны, и каждому предоставляется судить о своей пригодности. Дипломы не дают знания, а истинное знание найдет себе применение и без казенного диплома.
Таковы были основные идеи этого устава, который просуществовал только семь лет. В 1872 году последовало преобразование, приблизившее академию к обычному типу высших учебных заведений. «Слишком либеральный устав» не выдержал испытания…
Один мой земляк, студент Петербургского университета Гродский, нарочно пришел ко мне, чтобы рассказать о Петровской академии. Он был много старше меня, учился ранее в Московском университете и хорошо знал нравы петровцев. Он был юморист, и рассказы его были проникнуты насмешкой над либеральным уставом. В академию налетели отовсюду лентяи, не одолевшие в гимназии бездны премудрости, помещичьи сынки, выгнанные из низших классов, которым родители пожелали наиболее легким способом дать звание студента. Вообще, по словам Гродского, академия представляла из себя что-то вроде студенческой казачьей вольницы… Рассказчик с большим юмором рисовал картины «вольной жизни» петровцев. В роще, в парке, по уединенным дачам в лесу, над прудами, в весенние и летние ночи от зари и до зари гремели песни, шли попойки, и Москва была полна рассказами о необыкновенных выходках петровских студентов, вроде, например, внезапного появления перед публикой, гуляющей по главной аллее парка, какого-нибудь гуляки, выходящего из пруда в костюме Аполлона Бельведерского. Отсутствие контроля и принуждения повело к тому, что некоторые студенты экзаменовались много раз, зная лишь часть курса, в надежде на то, что наконец попадется счастливый билет… Гродский с большим юмором рассказывал о каком-то казаке, который на вопрос о центре тяжести задумался, потом хватил себя по лбу и радостно воскликнул:
– А, знаю, знаю… Центр тяжести… это если тело повесить на нитке…
На недоуменное замечание профессора – он подтвердил безапелляционно:
– Не говорите мне… Я теперь верно вспомнил: если тело повесить на нитке, то это и будет центр тяжести. Посмотрите сами у Гано!..
Другой сообщал, что клеточки размножаются при помощи яйцекладов, а насекомые – посредством самозарождения от нечистоты и т. д. Гродский рассказывал и о том, как «Московские ведомости» вели против академии систематическую кампанию, а идеалисты профессора, участвовавшие в создании устава, не находили теперь аргументов в его защиту…
Еще недавно тон Гродского мне бы очень не понравился, и я бы назвал его «циником», каким считал когда-то Ардалиона Никулина. Теперь два года петербургской жизни оставили в моей душе скептический осадок… Либеральный устав был, очевидно, основан на вере в «настоящего студента». А я знал, что такого идеального студента нет на свете, а есть только Васьки Веселитские или такие малоинтересные молодые люди, как я сам.
Теперь устав изменен, и отлично. Я поеду туда в качестве скромного ученика, буду аккуратно посещать лекции, получу диплом, поступлю на службу… Конец романтическим мечтам!.. И только еще где-то в дальнем уголке души таилась надежда: в лесном домике я напишу повесть… А там… В этом сосредоточились и притаились мои отдаленные мечты, а пока я наслаждался новыми впечатлениями и радостью встречи с товарищами.
Прошение мое о приеме в число студентов академии я послал еще из Петербурга. Если бы мне отказали, то я решил приготовиться в полгода и держать на второй курс. Но меня приняли. Товарищи сказали, что мне нужно сходить к директору Филиппу Николаевичу Королеву. В директорском кабинете меня принял седой старик небольшого роста, с большой головой, крупными чертами лица и суровым выражением. До получения этой должности он был директором одной из московских гимназий, известной своей дисциплиной. Кажется, ему покровительствовал Катков, как человеку, который способен «подтянуть академию». Он встретил меня совершенно по-директорски. Сурово и сухо он сообщил мне, что совет согласился зачислить меня в середине учебного года условно: если я не перейду на второй курс, меня исключат. Я поклонился и вышел, чувствуя себя вновь точно гимназистом.
Когда вместе с одним из товарищей я вышел на расчищенную дорожку в парк, нам навстречу попалась компания: в центре ее обращал внимание старик с седыми пышными кудрями и моложавым лицом. Товарищ поклонился, и старик ответил, скользнув по нас взглядом живых печальных глаз.
– Это профессор земледельческой химии, Ильенков, – сказал товарищ. – Один из творцов прежнего устава.
Я с любопытством оглянулся на эту фигуру типичного шестидесятника, и мне невольно вспомнился Ермаков. И действительно, в отношениях Ильенкова к студенчеству, вежливых и холодных, чувствовалось какое-то отчуждение, и, идя к нему впоследствии на экзамен, я боялся: вдруг он взглянет по-ермаковски и скажет: «Так и знал»…
Я все-таки был очень доволен, что меня приняли. За эти годы я стосковался по правильным занятиям, и мне было приятно опять аккуратно посещать лекции, составлять записки, «подзубривать», чувствовать себя наконец неплохим студентом.
Вся обстановка академической жизни приводила меня прямо в восторг. Все кругом было своеобразно и интересно, и особенно интересно было соседство этого студенческого быта с простой жизнью Выселок. Тотчас же за плотиной находилось большое двухэтажное строение, номера Благосклонного. Это было довольно дряхлое здание, стены которого как будто навсегда пропахли табаком и пивом. В нем было два коридора (вверху и внизу), в которые выходили двери отдельных номеров. Акустика была такая, что слово, сказанное громко в одной комнате, отдавалось всюду. Кроме этих номеров, студенты ютились также в маленьких «дачках», и вся жизнь студенчества, как и жизнь «выселковцев», шли параллельно, были на виду.








