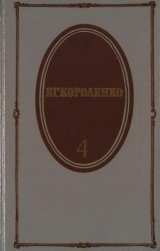
Текст книги "Том 4. История моего современника. Книги 1 и 2"
Автор книги: Владимир Короленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 51 страниц)
Однажды Григорьев дал мне прочитать номер нелегальной заграничной газеты (кажется, «Набат») со статьей Ткачева. Ткачев был довольно известный писатель, работавший в благосветловском «Деле», и эмигрировал после нечаевского процесса, к которому привлекался вместе с своей «гражданской женой», Дементьевой. В нечаевском процессе оба они занимали особое место, и тогда много говорили по их поводу, между прочим и о «гражданском браке». Статья Ткачева, которую дал мне Григорьев, была полемическая и была направлена против Лаврова, который тоже бежал из ссылки (в Вологодской губ.) и основал за границей журнал «Вперед». Я знал Лаврова по его «Историческим письмам», печатавшимся в «Неделе» и потом вышедшим отдельной книгой, которая была изъята цензурой (в нашей неофициальной библиотеке она вся была сброшюрована по номерам «Недели»). Ткачев полемизировал против программы Лаврова, звавшего молодежь «в народ» для пропаганды социалистических идей. При этом он ставил пропагандистам требования предварительной умственной подготовки, требовавшей значительного труда и времени. Ткачев считал это лишним. Его точка зрения была другая. Он звал тоже в народ, но звал идти в революционном порыве для проповеди немедленного восстания. В центре своей статьи, написанной очень красиво и страстно, он поставил образ народа-страдальца, распятого на кресте. И вот, писал он, нам предлагают изучить химию, чтобы исследовать химический состав креста, ботанику, чтобы определить породу дерева, анатомию, чтобы определить, какие ткани повреждены гвоздями. Нет, мы не в состоянии исследовать… Мы охвачены одним страстным желанием – снять жертву с креста сейчас, немедленно, без предварительных и ненужных изысканий.
Я цитирую на память и не могу, конечно, передать горячего пафоса Ткачева. Помню, что сначала статья произвела на меня впечатление именно этим своим пафосом. Мне казалось, что так должен говорить истинный революционер. Григорьев ничего не возразил, но вскоре дал мне «Вперед», в котором была программа и еще статья Лаврова: «Разговор последовательных». Я прочел все это залпом и был совершенно захвачен стройной системой революционного народничества. Небольшая статейка Ткачева нравилась мне просто как красивое литературное произведение. Программа и статьи «Вперед» сразу всколыхнули глубоко слагавшиеся в уме мысли и чувства, которые отлагались из всех непосредственных впечатлений жизни и литературы.
Я не стану много распространяться о народничестве… Теперь нетрудно подвести итоги и той моральной правде, которую, впрочем, многие склонны теперь отрицать, и ошибкам этого направления. Среди последних, конечно, главнейшая – это наивное представление о «народе» (под этим словом в то время еще разумели преимущественно крестьянство), о его потенциальной, так сказать, мудрости, которая дремлет в его сознании и ждет только окончательной формулы, чтобы проявлять себя и скристаллизовать по своему подобию всю жизнь…
Представление о «народе» со времени освобождения занимало огромное место в настроении всего русского общества. Он как туча лежал на нашем горизонте, в него вглядывались, старались уловить формы, роившиеся в этой туманной громаде, разглядеть или угадать их. При этом разные направления видели разное, но все вглядывались с интересом и тревогой и все апеллировали к «народной мудрости». Не говоря о славянофилах, в системе которых народ занимал такое огромное место, но даже Катков и консерваторы указывали на «мудрость народа», который, по их мнению, вполне сознательно поддерживает устои существующего строя… Для Достоевского народ был «богоносец», а Иван Аксаков еще в восьмидесятых годах любил в своей газете прибегать по разным поводам к речениям «русских мужичков», хотя бы эти «мужички» были, в сущности, толстосумы из крестьян, давно и с большим успехом перешедшие в купеческое звание. Это все равно. Уже самое происхождение из народа давало своего рода патент на обладание истинно народной мудростью. В одном рассказе Златовратского («Золотые сердца») выведен интеллигент из крестьян, медик Башкирцев. Он говорит почти нечленораздельно, но все чувствуют, что он знает что-то не известное мятущимся интеллигентам; и когда заговорит в нужную минуту, то скажет какое-то новое настоящее слово.
Невольно напрашивается сближение между этим героем довольно слабой народнической повести и Каратаевым из «Войны и мира», одного из величайших произведений русской литературы. Каратаев тоже не может связать правильного предложения, но его краткие изречения Пьер Безухов вспоминает всю жизнь, стараясь истолковать их в каком-то таинственном и почти мистическом смысле. Это же отношение к каратаевщине, несомненно, было присуще и самому Толстому, а с ним чуть не всем русским критикам, касавшимся «Войны и мира».
Вот почему система революционного народничества так быстро и всецело овладела умами нашего поколения. В социальной жизни есть свои предчувствия. Туча действительно лежала на горизонте нашей жизни с самого освобождения. Она еще не шевелилась. В ней одно время не видно было даже зарниц и не слышно даже отдаленных раскатов, но загадочная тень уже ложилась на все предметы еще светящейся и сверкающей жизни, и взгляды невольно обращались в ее сторону. Молодежь, наиболее впечатлительная и чуткая часть общества, сделала свои выводы.
Социальная несправедливость была фактом, бьющим в глаза. От нее наиболее страдают те, кто наиболее тяжко трудится. И все, без различия направлений, признают, что в этих же массах зреет, или уже созрело, какое-то слово, которое разрешает все сомнения.
Вот что тогда было широко разлито в сознании всего русского общества и из чего наше поколение – в семидесятых годах подходившее к своему жизненному распутью – сделало только наиболее последовательные и наиболее честные выводы. Если общая посылка правильна, то вывод действительно ясен: нужно «отрешиться от старого мира», нужно «от ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови», уходить туда, где «работают грубые руки» и где, кроме того, зреет какая-то формула новой жизни.
Это было наивно? Да, но эту наивность разделяли наименее романтические представители русского культурного общества того времени. Часть литературы легальной и вся нелегальная сделала из этого логические, нравственно наиболее честные выводы. А молодежь внесла присущий ей энтузиазм. И вот «революционное народничество» готово. Старик Лавров и совсем еще молодой Михайловский нашли для этого настроения ясные формулы. «О, если бы я мог, – писал в семидесятых годах Михайловский, – утонуть, расплыться в этой серой, грубой массе народа, утонуть бесповоротно, но сохранив тот светоч истины и идеала, какой мне удалось добыть насчет того же народа… О, если бы и вы все, читатели, пришли к такому же решению, в особенности те, у кого светоч горит ярче моего… Какая бы это вышла иллюминация и какой великий исторический праздник она отметила бы собою. Нет равного ему в истории…»
В этой пламенной тираде – все настроение того поколения и вся теория «хождения в народ», которую «Отечественные записки» проводили в легальной литературе, а «Вперед» приносил нелегальными путями из-за границы. Через некоторое время я весь был захвачен последовательностью, стройностью этой программы, которая вносила порядок во все жизненные и литературные мои впечатления. Народничество внесло в наше поколение то, чего недоставало «мыслящим реалистам» предыдущего: оно вносило веруне в одни формулы, не в одни отвлеченности. Оно давало стремлениям некоторую широкую, жизненную основу.
В Москве и в академии собирались теперь кружки, горячо обсуждавшие лавровскую программу. В это же время я увлекся статьями Михайловского и пропагандировал их между товарищами, указывая на прямую непосредственную связь его мыслей с тем, что мы обсуждали только на тайных сходках… Теперь я нашел то, чего напрасно искал в Петербурге: в наших тайных собраниях мы дружески и просто говорили о том, как нам жить честно и что надо делать. Я уже не искал настоящего «идеального студента». Этот неуловимый образ заменился более широким и более заманчивым образом великого, таинственного в своей мудрости народа, предмета новых исканий и, может быть, новых иллюзий… Наряду с этим я нашел многое, чего искал ранее в студенческой среде, только пришло оно проще и по-иному.
VI. ГортынскийМне вспоминается, между прочим, один случай. В то время я был библиотекарем, и у меня в номере так называемых казенных номеров в широком шкафу помещалась вся наша нелегальная библиотека. Однажды ко мне пришел студент одного из младших классов, Гортынский, и спросил какую-то книгу славянофильского направления, кажется Страхова. Выдавая ее, я не удержался от замечания, что эта книга «односторонняя». «Вот затем я и беру ее, чтобы не быть односторонним», – ответил он.
Я с любопытством посмотрел на него. Он был одет с каким-то странным щегольством, в новенькой кургузой тужурке. Усы у него были подвиты в концах, держался он с почти военной выправкой и вообще по наружности мне не понравился. На щеках горел подозрительный румянец.
Когда я сказал Григорьеву о его замечании, тот заинтересовался, а через некоторое время, вернувшись из Москвы, рассказал мне эпизод, который, как это бывает порой, сразу запал в мою память как нечто важное и определяющее.
На небольшой сходке в частной квартире обсуждались нравственные вопросы в связи с растущим революционным настроением. Поставили вопрос, может ли цель оправдывать средства. По этому поводу говорилось тогда много, в том числе много пустяков, но это все-таки не было пустым разговором. Между прочим, в тот раз кто-то поставил вопрос конкретно: предстоит, скажем, украсть «для дела». Можно это или нельзя? Сразу общее настроение выразилось ясно: красть для доброго дела не следует, даже с утилитарной точки зрения. Кража раскроется, и тому самому делу, для которого она предпринята, будет нанесен огромный нравственный удар. Один из присутствовавших, человек последовательный, привыкший додумываться до конца, тотчас же постарался лишить собеседников этого легкого аргумента. Допустим, что кража никогда не откроется, и в этом существует полная уверенность. Например, слабоумный Плюшкин, не знающий счета собственным деньгам, раскидал на столе свои сокровища при внуке, которому вполне доверяет. Он выходит на время из комнаты, и внуку, настроенному радикально, представляется дилемма: взять для дела, которому как раз в это время нужны деньги до зарезу, – или воздержаться… Дед даже не узнает о пропаже. Никто не страдает. А для дела так нужно!
После некоторого молчания стали «подавать голоса». Один за другим, одни легко, другие с некоторым усилием отвечали:
– Взял бы… Взял бы… Взял бы…
Когда очередь дошла до Гортынского, румянец на его щеках загорелся сильнее. Он подумал еще и сказал:
– Да, вижу: надо бы взять… Но лично про себя скажу: не смог бы. Рука бы не поднялась.
На меня этот ответ и тогда произвел сильное впечатление, и впоследствии его «рука не поднимается» вспоминалось много раз. Россия должна была пережить свою революцию, и для этого нужно было и базаровское бесстрашие в пересмотре традиций, и бесстрашие перед многими выводами. Но мне часто приходило в голову, что очень многое было бы у нас иначе, если бы было больше той бессознательной, нелогичной, но глубоко вкорененной нравственной культуры, которая не позволяет некоторым чувствам слишком легко, почти без сопротивления, следовать за «расколыгаковскими» формулами. Это «рука не поднимается» сыграло впоследствии важную роль в некоторых случаях моих колебаний… Да, русские руки часто слишком уж легко подымались и теперь подымаются на многое, на что бы не следовало.
Я припомнил свое первое впечатление от Гортынского и устыдился. Это все еще были поиски идеального студента. Идеал – значит, уж во всем, до костюма и усов… И вот человек в куцей тужурке и с подкрученными усами говорит такое слово, которое драгоценным камнем падает в душу и остается в ней навсегда…
Гортынский умер рано от чахотки…
VII. Министр и студентыСреди описанного настроения кончился второй год моего пребывания в академии. Я перешел на третий курс. Сходки на лесных дачках продолжались. Кроме того, происходили порой собрания в Москве с техниками и студентами университета. Сказывалось ощути? тельно движение «в народ». То и дело кто-нибудь оставлял академию и исчезал. То и дело появлялись приезжие из Петербурга, собирали небольшие собрания в Москве или академии, звали с собой и «устанавливали связи». Однажды в Москве я увидел знакомого медика Харизоменова. Он шел с двумя рабочими в картузе и поддевке и, остановясь, усердно крестился на церковь. Он сделал знак, и я не узнал его. Вместе с этим усилились аресты и параллельно возникло какое-то особенное беспокойство в студенческой среде.
Как-то в начале летних каникул академию вдруг посетил министр П. А. Валуев.
Мы имели уже удовольствие и честь видеть у себя этого знаменитого государственного деятеля. Однажды во время экзаменов случилась неожиданность: профессор Ильенков, экзаменовавший нас по земледельческой химии, прервал экзамен и вдруг прочитал лекцию о каком-то новом способе пудлингования стали, недавно примененном на уральских заводах. Мы переглядывались: специальные способы пудлингования стали не имели никакого отношения ни к земледельческой химии, ни к нашей будущей деятельности как агрономов или лесоводов… Ильенков, не пускаясь в разъяснения, попросил нас просто запомнить то, что он говорит, и приступил к продолжению экзаменов.
Вскоре дверь химической аудитории раскрылась, и в нее в сопровождении академической администрации и своих чиновников вошел Валуев. Высокий, сухой, важный и даже несколько напыщенный, он уселся за профессорским столом, провожатые расселись на скамейках, и экзамен пошел обычным порядком. Но вдруг Валуев вежливо попросил у Ильенкова позволения, с своей стороны, предложить несколько вопросов. Ильенков поклонился. На серьезном лице профессора промелькнула чуть заметная ироническая улыбка. Загадка странной лекции для нас объяснилась. Его превосходительство сразу заинтересовался вопросом: известны ли студентам обычные способы пудлингования стали? Обычные способы оказались известными. А не известны ли вдобавок новейшие способы, применяемые на уральских заводах? Студент повторил то, что сейчас слышал от Ильенкова, и при этом сделал некоторые ошибки. Это доставило видимое удовольствие министру. Он авторитетно исправил ошибки и ушел, видимо удовлетворенный, после чего Ильенков стал продолжать экзамен. Мне казалось, что старому профессору несколько совестно глядеть на своих молодых слушателей.
Посещения Валуева заканчивались порой и менее благополучно. Он явился как-то на экзамен физики к профессору Цветкову. Яков Яковлевич Цветков был человек чрезвычайно оригинальный. Одновременно с профессорством в академии он исполнял обязанности тутора катковского лицея и на лекции в академию (за десять верст) ходил всегда пешком, невзирая на погоду. В записках какого-то туриста, напечатанных со временем в «Неделе», была отмечена встреча с Цветковым за границей. Там он тоже путешествовал пешком, и так же у него были загрязнены и обтерханы нижние края брюк. Его считали страшно скупым, но когда он умер, то узнали, что свои средства он расходовал на стипендии. Так вот, на экзамене этого оригинала Валуев тоже вдруг предложил студенту какой-то вопрос. Студент молчит. Валуев предлагает тот же вопрос в новой форме. То же недоуменное молчание. Министр поворачивается к профессору с видимым ожиданием, что тот какими-нибудь наводящими вопросами выведет студента из затруднения. Но птичья физиономия Цветкова с длинным носом, напоминавшая несколько профиль молодой галки, на которую бы надели очки, сохраняет бесстрастное молчание. Положение становится неловким.
– Студентам это неизвестно? – произносит наконец министр, глядя в упор на Цветкова.
Тот пожимает плечами и говорит бесцеремонно:
– Мне тоже неизвестно. Если известно вашему превосходительству – просим…
Министр, не считая нужным скрывать обиды, поднялся и вышел из аудитории.
Теперь Валуев явился к нам в неурочное время. Экзамены были уже закончены, и большая часть студентов разъехалась на каникулы. Остались только те, кто совсем не уезжал домой и у кого были практические работы. Академические сторожа бегали по полям, паркам и дачам, приглашая студентов явиться поскорей в рекреационную залу. В высоких сапогах, в блузах, как были на работах, мы явились в академию. Через некоторое время дверь раскрылась. Вошел Валуев. За министром, как-то боком, точно маленькая лодочка, зачаленная к кораблю, перегнув стан в направлении его высокопревосходительства, шел чиновник особых поручений, а за ним в мундире и при шпаге – Ф. Н. Королев и инспектора. Валуев шел прямо, величавой поступью и, не дойдя шага на четыре, остановился перед толпой студентов. Затем, повернувшись пренебрежительно к директору и администрации, сказал:
– Господа, прошу оставить меня наедине со студентами.
Ф. Н. Королев, почтенный на вид старик с белой бородой, почтительно, даже робко, на цыпочках удалился с инспекторами. Затянутая в вицмундир фигура министерского чиновника приняла совершенно балетную позу: верхняя часть корпуса устремлялась к министру, ноги готовы были унести его вслед за директором. Это было так комично, что среди непочтительной молодежи пронесся волной легкий смешок. Валуев, вероятно, отнес этот смех к нашему начальству. Своему чиновнику он милостиво кивнул головой и сказал:
– Вы останьтесь…
Фигура чиновника застыла в том же грациозном перегибе. На лице его выразилось восторженное внимание. Он кинул на нас взгляд, который, казалось, говорил: «Мы присутствуем при историческом событии…»
Министр начал… Он нарочно удалил наше начальство, чтобы иметь возможность свободно говорить с нами. Он понимает молодежь и надеется, что и мы тоже поймем его. В последнее время ему сообщают о прискорбных событиях в жизни академии. Для него не тайна, что академия в этом отношении не составляет исключения: среди учащейся молодежи вообще распространилось антиправительственное направление, и это ведет к самым прискорбным результатам. Студентов арестуют, ссылают… Карьера прерывается или даже гибнет… Государство лишается полезных работников… Вот он и приехал нарочно, чтобы, «просто, по-дружески» поговорить с нами об этих явлениях.
Голос у Валуева был густой, сочный и проникнутый самодовольством. Он видимо любовался собою и кокетничал своим ораторским искусством. Ему, привыкшему говорить перед царями, задача на этот раз казалась легкой. Он продолжал:
– Господа… Вы видите, борода моя поседела в трудах, которые, поверьте, далеко не всегда были мне приятны…
Тут случилась маленькая заминка: высокопоставленный оратор в этом месте речи поднес руку к предполагаемой бороде. Оказалось, что она свеже и гладко выбрита. Из толпы студентов опять послышался легкий смешок. На лице чиновника проступило выражение испуга, негодования, ужаса… Министр продолжал.
Он не станет говорить нам о том, что, получая образование в учреждениях, содержимых правительством, мы обязаны благодарностью царю как его главе… Мы можем возразить ему, что средства на учебные заведения дает русский народ и, значит, мы обязаны благодарностью только ему, а не правительству…
Он не станет также говорить о тех ожиданиях, которые наши родители, воспитатели, опекуны возлагают на наше учение, на тот диплом, который является формальной целью окончания курса. Опять мы можем возразить, что служить народу можно не только на поприще, которое требует дипломов. Далее.
Речь оратора журчала плавно, сочно и неудержимо. Но от того ли, что до его слуха все-таки доносились те маленькие смешки, которые уже два раза пробегали среди малопочтительной аудитории, или просто он, как соловей, слишком заслушался собственного пения, только фигура отрицания увлекла его слишком далеко. Он отрицал один аргумент за другим, кокетничая «знакомством с нашей точкой зрения» и подготовляя какой-то последний непобедимый довод. Но когда наконец ему пришлось перейти к положительной части аргументации и нанести нам этот последний удар, то оказалось, что он неосторожно исчерпал все свои аргументы и все опроверг «с нашей точки зрения». Для положительной части не осталось ничего. Оратор остановился в видимом затруднении. На выразительном лице его чиновника проступило страдание.
Прошла четверть минуты томительного молчания, и оратор понял, что ему, привыкшему говорить в высоких учреждениях, – на этот раз трудно выбраться с честью, а главное, нельзя закончить в том же либеральном тоне… Поэтому он вдруг заговорил с каким-то суровым ожесточением:
– Я все-таки должен вам сказать, господа, что так как вы воспитываетесь в заведении, обязанном своим существованием государю императору, то уже одно это обязывает вас уважать его правительство и подчиняться ему.
Легкий холодный поклон, и министр величаво удалился. Слушатели, несомненно, не были на этот раз расположены ни к какой демонстрации, но ироническое движение заметной волной пробежало опять по молодой аудитории. Министр был уже за порогом, но грациозный чиновник оставался и кинул порицающий и даже враждебный взгляд. Он, без сомнения, увозил с собою в Петербург самое ужасное представление об этих блузах, высоких сапогах и об этой ужасной непочтительности…
Я нарочно восстановил в такой подробности этот небольшой эпизод, перед тем как говорить о разразившихся вскоре студенческих беспорядках, хотя он к ним не имел прямого отношения. Как-то, года через два после этого, мне случилось прочитать в газете отзыв одного англичанина о начавшейся в России волне студенческих беспорядков. «У нас, – говорил этот англичанин, – молодежь не вмешивается в политику. Она молчит и ждет своей очереди, предоставляя говорить Гладстонам и Дизраэли»…
Это мне тогда же показалось очень метким. Полное отсутствие уважения к официальным представителям политической власти, распространенное в русском обществе, играло, конечно, большую роль в волнениях молодежи. В первом томе я рассказал небольшой эпизод, когда среди взрослых я, тогда еще гимназист младших классов, услышал впервые осуждение царя Александра II за «классическую систему». Такими разговорами была полна наша повседневная жизнь. Все, в сущности, порицали правительство; поводы для этого встречались на каждом шагу. Молодежь только экспансивнее отзывалась на это настроение. И вот – перед нами наш российский Гладстон, приехавший убеждать нас. Мы не знали его как государственного человека. Слышали неопределенно и глухо, что с вступлением Валуева, заменившего Ланского, началась в России реакция… Его личные выступления у нас, это явное и легковесное кокетство ни в каком случае, конечно, не могло содействовать престижу власти среди молодежи…








