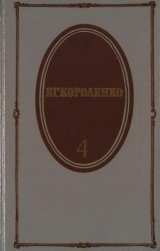
Текст книги "Том 4. История моего современника. Книги 1 и 2"
Автор книги: Владимир Короленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 51 страниц)
Все эти мысли роем неслись за мной по дороге под скрип полозьев и звон колокольчика. Под вечер мы ехали меж двух стен дремучих темных лесов. Они тянулись по обеим сторонам дороги, молчаливые и таинственные, а мой разговорчивый провожатый рассказывал мне о том, как он, когда был помоложе, ходил в команде с исправником по этим лесам и разорял кельи лесных скитников. Ходили на лыжах, проникали в глухие трущобы, где находили избушки на курьих ножках, из которых хозяева по большей части успевали скрыться. Порой у иконы еще теплились лампадки. Избушку разоряли, из бревен складывали костер, кидали туда же всю утварь, иконы и лампадку, костер зажигали, а сами уходили.
– А что же хозяева, – спросил я, – как же они?
– А уж это как бог… Иной добредет до деревни или жительства – ну, тот счастлив. А который не успеет, захватит его мороз в лесу или пурга в поле, так и замерзнет. Нашли такого одного: сидит старче под деревом, закуржавел весь. Глаза открыты, и на глазах снег. А пальцы сложены двуперстием…
– И вы не чувствовали, что это грех? – спросил я, взволнованный этим рассказом.
Рассказчик слегка вздохнул.
– По приказу начальства… Конечно, может, и грех. С начальства и взыщется… Ну, и начальству тоже нельзя иначе. Тоже и им приказывают – потому много и из скитников этих беспаспортных бродяг, беглых солдат, даже так, что и разбойников с каторги.
Мы ехали дальше. Опять скрипели полозья, звенел колокольчик, глухо шумели отодвигавшиеся назад леса, давно утонувшие в ночном сумраке. А в голове, такие же сумрачные и значительные, плыли мысли. Может быть, и теперь в этих чащах теплятся огоньки перед иконами, и таинственные старцы, удалившиеся от грешного мира, молятся, вздыхая о правде. Замечание рассказчика о том, что среди них бывают бродяги и даже разбойники, как-то проскользнуло мимо моего внимания, как когда-то проскальзывали «циничные» замечания Ардалиона о Веселитском… Темный умом, преданный суеверию, но светлый духом – таким рисовался мне образ лесного скитника. И душой я был с ним против гонителей, в том числе и таких, как мой провожатый, не ведающий, что творит…
Мы ехали всю ночь, чтобы захватить еще остатки разрушающейся дороги. На следующий день, выехав с одной из почтовых станций, мы вскоре остановились в большой деревне. Тут жила семья везшего нас с этой станции ямщика, и он на минуту забежал в свою избу. День был яркий, солнечный и теплый. Вдоль широкой и длинной улицы стояли просторные, по большей части. двухэтажные, избы. На них лежал еще снег, но кое-где чернели уже темные пятна тесовых крыш, и вдоль всей улицы, прохваченной горячими весенними лучами, сверкала веселая живая капель. Нигде ни садика, ни длинного забора. Мне вспомнилось, что природу нашего севера назвал кто-то золотушной.
Из избы, куда за ямщиком ушел мой провожатый, вышел хозяин, вероятно отец ямщика. Он был высок и моложав. У него были светлые рыжеватые волосы, такие же небольшие рыжеватые усы и бородка. Он был широкоплеч и, по-видимому, силен, с большими рабочими руками, но грудь у него была впалая, и вся фигура странно гармонировала с этой кипящей жизнью, но все-таки золотушной, северной природой. Он был без полушубка и без шапки и в руках нес большой жбан… Подойдя к саням, он поклонился мне с какой-то истовой и важной ласковостью.
– Испей, приятель, не побрезгуй: на праздник варили… – И он подал мне жбан с брагой.
Я выпил и от души поблагодарил его. Когда он ушел, меня вдруг охватило какое-то особое ощущение, теплой и сильной волной прилившее к сердцу, ощущение глубокой нежности и любви к этому человеку, нет, ко всем этим людям, ко всей деревне с растрепанными под снегом крышами, ко всей этой северной бедной природе, с ее белыми полями и темными лесами, с сумрачным холодом зимы, с живой весенней капелью, с затаенной думой ее необъятных просторов… Судьба моя сложилась так, что это захватывающее чувство мне пришлось пережить на севере. Случись такая же минута и при таких же обстоятельствах на моей родине, в Волыни или на Украине, может быть, я бы почувствовал себя более украинцем. Но и впоследствии такие определяющие минуты связывались с великорусскими или сибирскими впечатлениями…
Теперь все, что я читал у Некрасова, у Тургенева, во всей народнической литературе, внезапно вспыхнуло и осветило ощущение этих дней и особенно этой дороги между двумя стенами дремучего леса, под рассказы о пустынных скитах и их разорителях. И над всем как будто поднялся облик этого высокого, но точно изможденного богатыря, подходящего с величавым поклоном и приветливым словом к незнакомому гонимому человеку…
V. Царская милость. – Встреча с товарищами-петровцами. – Статья исправника в «Голосе»Мы приехали в Вологду.
Опять та же дежурная комната в полицейском управлении и тот же радушный полицеймейстер. Приехал я к вечеру, а ночью ко мне неожиданно ворвался мой брат. Узнав о беспорядках в академии и о том, что я был депутатом, он тотчас же бросился в Москву. Товарищи в академии дали ему указания, и он поехал в Вологду. Здесь он сделал такой стремительный натиск на дежурного чиновника, что тот растерялся, и я неожиданно проснулся в объятиях брата. Мы оба хохотали, когда наутро этот чиновник, небольшой субъект с круглым лицом и усами, как у таракана, успевший уже зарядиться, по случаю праздника или для храбрости, говорил мне:
– Напугал меня, знаете ли, ваш любезный братец, знаете ли!.. Ворвался, знаете ли: где, говорит, мой брат? Я уже думал: не мазурик ли, знаете ли? А это, оказывается, не мазурик, а ваш любезный братец…
Явившийся утром полицеймейстер только головой покачал, узнав об этом неожиданном вторжении. Это было тоже проявление сравнительно благодушных нравов тогдашней ссылки, совершенно невозможное впоследствии…
В тот же день ко мне вторично явился губернатор Хоминский с моим заявлением о желании вернуться в Кронштадт в руках.
– Но разве Кронштадт ваша родина? – спросил он.
Я ответил откровенно, почему написал о Кронштадте. Если туда нельзя, то я предпочитаю Усть-Сысольск. Хоминский подумал и махнул рукой.
– Хорошо, я удовлетворюсь вашим ответом и препровожу вас в Петербург. Но согласятся ли там – это вопрос. Вас все-таки могут отправить в Волынскую губернию…
Дня через два мы отправились в обратный путь по узкоколейной вологодской линии в сопровождении прилично снаряженного, даже щеголеватого городового. Брат, конечно, ехал со мной в том же вагоне.
В Москву мы приехали утром. Поезд на Петербург отправлялся, кажется, часа в четыре, и мы уже условились с моим благодушным провожатым, что я поеду повидаться с сестрой в институт, а он тоже повидает в Москве каких-то своих родственников и затем явится на вокзал. Мы так и сделали, но, по-видимому, у полицейского явились все-таки некоторые сомнения, и вместо вокзала он приехал за мной ранее в институт. Его появление и мой уход в сопровождении полицейского произвел в институте настоящую сенсацию. В окнах мелькали любопытные юные лица, а почтенный швейцар провожал меня изумленным и как будто шокированным взглядом. Это был, вероятно, в летописях института первый случай такого посещения.
Брат присоединился ко мне уже в поезде, при остановке у платформы Петровской академии, в двенадцати верстах от Москвы. Вместе с ним в вагон ввалилась гурьба студентов-петровцев, узнавших о моем проезде. Мы горячо обнялись, но я заметил какое-то облако в их настроении. Помню, тут был, между прочим, поляк Керсновский. У него были прекрасные волнистые волосы. Теперь он был низко острижен. На мое шутливое замечание по этому поводу он угрюмо отвернул голову, и густой румянец показался на его тонком и нервном лице.
– Надо было совсем обрить голову, – сказал он. – Дались в обман, как последние идиоты.
Они рассказали мне о том, что происходило в академии после нашего отъезда из Москвы. Профессора убеждали студентов подчиниться. Особенно горячо говорили профессор богословия священник Головин, известный в Москве красноречивый проповедник, а также профессор Иванюков. Видя, что со всей массой справиться трудно, так как некоторые курсы влияют на остальных, администрация потребовала, чтобы студенты разошлись и решали по курсам отдельно.
На этом одно время сосредоточилась вся борьба. Несколько раз начинали уже расходиться, но каждый раз это течение останавливал Эдемский. Стоя на окне большого рекреационного зала, возбужденный, с мрачно сверкающими глазами, он несколькими окриками удерживал уходящих, и толпа шарахалась назад. Она была охвачена невероятным возбуждением. Богослов-священник произнес горячую речь, в заключение которой заплакал. Слово его произвело некоторое впечатление, но в это время из рядов выбежал маленький белобрысый студентик, бывший семинарист. Это было незаметное, бледное, тщедушное существо. Он жил как-то уединенно, ни с кем не сходясь. Вероятно, в какой-нибудь отдаленной бурсе он много натерпелся от духовного начальства, и в его сердце накипела болезненная ненависть. Выбежав вперед, он истерическим голосом выкрикнул, в свою очередь, какой-то текст из пророка и продолжал:
– А, вы почувствовали, что пришел конец вашему царству, царству Велияла… Да, пришел, пришел конец!
И он как сумасшедший выбежал из рекреационного зала. Одним из главных аргументов сторонников подчинения было соображение о судьбе депутатов. Аргумент был хорошо рассчитан, и толпа наконец подалась, сначала разошлась по курсам, а затем один курс за другим стал посылать к Ливену депутации с повинной.
Результат был достигнут, но какой ценой? Когда нас все-таки выслали, вся эта молодежь почувствовала себя обманутой, а представители того государства, которому они скоро будут служить, явились в ее глазах обманщиками.
Студенты провожали меня на протяжении двух-трех станций. Если я был «вредным смутьяном», то в этой встрече, в горячих чувствах, ею вызванных, сказалось несомненное моральное торжество «смуты» над официальным «порядком».
И сколько поколений русской молодежи проходило и ранее, и после этой истории через ту же волну горячечного подъема. Глубокая моральная болезнь существующего порядка сказывалась в этом. Не вопросы о столовых или землячествах, не частные вопросы академического быта, а полное отсутствие уважения к основам строя – вот что периодически потрясает нашу молодежь. Молодость бескорыстна и великодушна. Еще не связанная путами житейской практики и личными интересами, становясь у порога жизни, она колеблется отдать свои силы на службу тому строю, в основании которого она чувствует неправду. И вот в первом порыве, по любому поводу, в наиболее доступной ей форме она готова открыто высказать эти свои чувства. Силой, непомерными репрессиями или лукавством и хитростью, как в нашем случае, достигается формальное подчинение «порядку». А потом, пережив этот опасный период, – молодежь втягивается в служебную лямку, из которой ей нет уже выхода. Но входит она туда часто с глубоким надломом. Поговорите с любым состарившимся на службе чиновником, и в минуту откровенности вы непременно откроете в его душе уголок, своего рода часовенку, где, как некие реликвии, он хранит воспоминания о том, что «и мы были молоды, и мы увлекались». И это прошлое, когда он стоял еще на рубеже жизни и чувствовал себя противником строя, которому теперь служит, он, наверное, считает лучшим периодом своей жизни…
Товарищи передали мне, что Вернер выслан в Глазов, Вятской губернии, а Григорьев – в Пудож, Олонецкой. Кажется, смягчая мою участь, государь (Александр II) захотел отметить разницу между ими и мною: как бывшие офицеры, они должны были нести более суровое наказание. Этим я и был обязан предложением отбыть ссылку на родине.
Поезд, с которым я ехал, был какой-то медленный, и в Петербург, в здание градоначальства, меня привезли довольно поздно. В канцелярии давно уже никого не было, и меня провели какими-то ходами в комнату в нижнем этаже. Здесь мне пришлось дожидаться довольно долго, пока мою бумагу носили к секретарю градоначальства, если не ошибаюсь, Фурсову.
Брат мой был юноша предприимчивый: прямо с вокзала он отправился к одному из наших близких товарищей, земляку Бржозовскому, и оба они по свежим следам отправились в градоначальство. Здесь, не знаю уже каким путем, им удалось проникнуть в ту комнату, где я дожидался, и мы дружески беседовали втроем, когда неожиданно входная дверь открылась и в комнату вошел секретарь. Это был мужчина высокого роста, одетый в штатское, с большими пушистыми усами. Видно было, что его подняли с постели, что он недоволен, даже сердит. Войдя, он остановился в изумлении.
– Эт-то что еще за компания? Как вы сюда попали, кто вас сюда пустил? Я вас сейчас арестую.
Он быстро открыл дверь, чтобы позвать кого-нибудь, а я в это время в другую дверь выпроводил брата и Бржозовского. Когда Фурсов вернулся с каким-то полицейским, их и след простыл. Он накинулся на моего вологодского провожатого, но тот мог только сказать, что один из посетителей мой брат и приехал вместе со мной, а другого он не знает. На гневный вопрос, обращенный ко мне, я ответил спокойно, что не вижу никакой надобности называть ему моего товарища.
Это привело его в совершенную ярость. Пробежав бумагу от вологодского губернатора, он сказал:
– Ну, это дудки-с! Что за место ссылки Кронштадт! Нет-с, батюшка! Ваша родина Волынская губерния?.. Ну так вот, сейчас же в пересыльную и в Житомир.
Он поднялся по узкой винтовой лестнице наверх.
– К Трепову пошел, – прошептал полицейский, которого Фурсов привел с собой, чтобы арестовать моих посетителей. – Плохо ваше дело: разбудит… Генерал осердится… Не иначе, в пересыльную отправит…
Однако через полчаса сердитый господин спустился по той же лестнице и, проходя через комнату, обронил, пожимая плечами:
– Странно. Генерал находит возможным… Кронштадтский пароход отходит завтра, в девять часов утра, но раньше идет поезд на Ораниенбаум. Выбирайте. А ты, – обратился он к вологодскому полицейскому, – повезешь до места и сдашь кронштадтскому полицеймейстеру. Сейчас получишь бумагу.
Я решил ехать на Ораниенбаум, и мы отправились на вокзал дожидаться поезда. Ранним утром с ораниенбаумским пароходом мы высадились на кронштадтской пристани.
Таким образом, мой первый ссыльный путь был кончен.
Чтобы покончить также и с нашей академической историей, мне приходится сказать еще несколько слов. После известных крупных студенческих беспорядков в конце 60-х годов и после нечаевского процесса заметные движения среди молодежи стихли, студенческих беспорядков не было… Начиналось что-то в Медико-хирургической академии, но быстро стихло. Среди этого затишья наша, в сущности, незначительная история разразилась, как гром среди ясного неба. О ней много говорили в обществе, но не решались писать в газетах. Появились только самые краткие сообщения с упоминанием трех наших фамилий. Газеты ждали, вероятно, правительственного сообщения, но его тоже не было. Наконец «Голос» Краевского решился напечатать заметку об этом деле, вероятно, потому, что она исходила из самого «благонадежного» источника: ее прислал знакомый уже нам старый балагур, исправник Ржевский. Он изложил ее по-своему. Студенты подали ребяческое заявление, в котором, между прочим, «требовали себе женщин». Они волновались и не хотели принести извинения, но, к счастью, тут случился местный исправник, человек опытный и знакомый с нравами молодежи. И вот достаточно было нескольких простых и сердечных слов, сказанных этим стариком, любящим молодежь и любимым ею, чтобы беспорядки сразу стихли.
Брат доставил мне эту заметку уже в Кронштадте. Он и еще несколько студентов являлись в редакцию для объяснения, и там им сообщили, что заметка напечатана именно потому, что написана исправником. В обществе ходят толки и слухи, а печатать ничего нельзя. Газета поэтому «рискнула» поместить сообщение из «благонадежного источника». Так как при этом были упомянуты фамилии депутатов, в том числе и моя, то я счел своим формальным правом послать «письмо в редакцию», в котором с юным негодованием опровергал измышление исправника. Но мне ответили, что последовало положительное запрещение касаться этой истории.
Этот эпизод оставил во мне накипь презрительного негодования к «либеральной» газете Краевского. Я написал новое письмо, хотя уже не для печати, в котором говорил, что газета, поместившая «гнусную клевету из полицейского источника», нравственно обязана снять ее, не считаясь с запрещением…
Разумеется, ответа не последовало.
VI. В Кронштадте. – Полицеймейстер ГоловачевКронштадт и тогда был на особом положении: управляли им моряки. Полицеймейстером был капитан Головачев, а комендантом, вроде губернатора, адмирал Козакевич. Головачева прозывали в городе Капитаном Носом, так как нос его заканчивался большими синими желваками. Это был нестарый человек, в морском мундире, с кортиком, подвижной, деятельный, экспансивный и предприимчивый до такой степени, что в скором времени попал под суд по обвинению зараз в тридцати двух преступлениях. Одно из них состояло в том, что, выйдя на базар за пять минут до окончания церковной службы и увидя, что торговцы вопреки приказу поторопились открыть уже свои лавки, он стал среди площади и крикнул зычным голосом:
– Братцы матросики… Грабь их в мою голову. Чтобы помнили закон…
Толпа не заставила повторить себе этот приказ. Матросы разных наций кинулись на лари с криком: «Ура! Капитан Нос приказал», – и, кажется, еще до конца службы базар был разграблен.
Это было уже слишком громко, и решительный полицеймейстер был наконец отдан под суд. Но в то время, когда я прибыл в Кронштадт, он был еще в полной силе, и его темперамент совершенно соответствовал взглядам высшей морской администрации.
Моряки были тогда народ либеральный. Пробежав бумагу, Головачев галантно пожал мне руку и сказал:
– А, знаю. Ваша фамилия упоминалась в газетах… Ну что ж, добро пожаловать… Сейчас мы отправимся к адмиралу.
Моего провожатого отпустили, а мы с полицеймейстером отправились на его лошадях в адмиральский дворец. Было еще довольно рано, и мне пришлось дожидаться в гостиной, где мебель была покрыта чехлами. Наконец адмирал вышел вместе с Головачевым. Последний имел такой вид, как будто привез к начальнику некоторую редкость, которая должна ему доставить удовольствие. Адмирал, по-видимому поднятый с постели, имел вид несколько заспанный, но встретил меня радушно.
– Добро пожаловать, – сказал и он. – Очень рад с вами познакомиться… Жалею, что знакомство произошло при таких обстоятельствах. Ну, да авось недолго. Надеюсь, мы с вами ссориться не будем. Теперь вы свободны.
Выбежав из дворца, я нанял извозчика и поехал на квартиру двоюродного брата.
Мать была нездорова и лежала в постели. Болезнь ее была чисто нервная, а в последние дни она замечала, что от нее что-то скрывают, и догадывалась, что это относится ко мне. Она широко открыла глаза, когда я в сопровождении двоюродного брата и его жены вбежал в ее комнату и обнял ее, весело смеясь. Она удивилась и обрадовалась. Пользуясь этим моментом радостного возбуждения, я сразу сообщил ей, что ее мечты о хозяйстве в лесном домике разлетелись прахом, но зато мы будем жить вместе. Она смеялась и плакала в одно и то же время.
Итак, я зажил «на подзоре», по выражению моего ярославского тюремного товарища, в Кронштадте. Сестра моя кончила институт, и мы решили поселиться отдельно от двоюродного брата на своем хозяйстве. Младший брат в это время поступил вольнослушателем в строительное училище и жил в Петербурге. Старший продолжал работать в корректуре, но уже самостоятельно. Он тоже вырвался из цепких когтей Студенского. Младшая сестра жила с матерью. Мне пришлось искать работу в Кронштадте, и я сделал объявление в местном «Вестнике», что «студент ищет занятий». При этом я перечислил: уроки, чертежи, рисунки и… корректуру.
В тот же день я получил экстренное приглашение к Головачеву.
– Батюшка… Что же вы это со мной делаете? – И он указал на объявление. Я удивился, что же именно приводит его в такое негодование – уроки, чертежи, корректура?
– Вот, вот, она самая. Уроки – ничего, но кор-рек-тура!.. Это невозможно! Вот чертежи другое дело. Можете ли вы, кстати, начертить нам для полицейского управления пожарный обоз нового образца?.. Да чтобы краски как в натуре… Можете?.. Превосходно. Едем сейчас же в часть…
И стремительный полицеймейстер повез меня в одну из частей, где стоял пожарный обоз нового образца, какой один раз мне уже был продемонстрирован в Вологде. Я его зачертил, вымерил, и через неделю весь обоз, с бочками, насосами, телегой для пожарной лестницы и багров, ярко раскрашенный суриком и синею краскою, был доставлен Головачеву, а еще через неделю, вставленный в изящные рамы, он украсил стены полицеймейстерского кабинета в управлении.
– Вот это так, – говорил Головачев в восторге, – это не кор-рек-тура-с. Этим занимайтесь сколько угодно… А можете вы составить план спасательной станции?
– Это уже не по моей части, – сказал я. – Я не архитектор.
– Ну, пустяки… Съездите в Ораниенбаум, срисуйте там спасательную станцию, как вы срисовали обоз, и дело в шляпе.
– Но ведь с меня взята подписка о невыезде за черту города.
– Наплевать! Ездите сколько угодно, только не попадите в какую-нибудь историю. Скандальчик какой-нибудь, знаете, с протоколом или что-нибудь в этом роде – тогда, конечно, неприятность. А сейчас поедем посмотреть выбранное мною место. Я уже его и огородил… Думские подлецы подали ябеду за самовольный захват. Крючкотворы!.. – Он вздохнул. – Думаете, мы не боремся? Боремся, батюшка, не хуже вашего.
На этот раз «думские крючкотворы» восторжествовали, и наша станция не состоялась.
Однажды Головачев опять пригласил меня и сказал:
– Есть у меня приятель, начальник минного офицерского класса, Владимир Павлович Верховский. Я ему говорил об вас и показывал рисунки пожарного обоза: хотите поступить в минный класс чертежником?
Я несколько удивился неожиданному предложению: Головачева испугала корректура, и он же предлагает работу в таком учреждении. Впрочем, может быть, я удивляюсь задним числом: тогда террор еще не разгорелся, химия и взрывчатые вещества не играли никакой роли в революции, и вскоре я стал проводить утренние часы за чертежной доской в минном офицерском классе.








