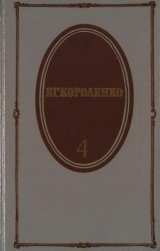
Текст книги "Том 4. История моего современника. Книги 1 и 2"
Автор книги: Владимир Короленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 51 страниц)
Расставаясь на этом маленьком эпизоде с «Новостями» и их редактором, я должен прибавить, что при своем особом чисто издательском таланте Нотович сумел и меня однажды запрячь в свою колесницу в качестве дарового сотрудника. У него в газете и появились мои первые печатные строки.
Это случилось в первых числах июня 1878 года. Под вечер я шел по Садовой с товарищем Мамиконианом. Около Сенной мы заметили в уличной толпе какой-то особый интерес, обращенный в сторону к Невскому. Туда многие шли торопливо, расспрашивая встречных. Оказалось, что около Апраксина рынка происходит «бунт». Мы с Мамиконианом тотчас же сели в конку, отправлявшуюся в ту сторону. Мы сошли у Апраксина переулка, где увидели большую толпу, запрудившую вход в переулок. Когда мы стали пробираться сквозь нее, нас останавливали, уверяя, что идти туда опасно, что там происходит настоящий бунт, что прошли войска, которые будут стрелять. Да и самая толпа опасна. В переулке, узком и тесном, живет много чернорабочих и прочего люда, кормящегося при Гостином дворе, и теперь они-то и подняли бунт. В те времена массовых вспышек в России совсем не бывало. Волна крестьянских беспорядков после 1861 года всюду улеглась, а в городах все было спокойно. Нас подстрекнули эти рассказы, и мы проникли в глубь переулка. Здесь, приблизительно около середины переулка, у большого семиэтажного дома № 5, стоял отряд жандармов, державших лошадей в поводах. Какой-то военный генерал выслушивал полицейский доклад. Обстановка напоминала военный бивуак. Ворота дома были заперты. Во дворе происходило что-то глубоко интересовавшее всю толпу. Порой в этой толпе, отжатой полицией и жандармами от дома с запертыми воротами, раздавались крики «ура». Тогда среди полиции проявлялось беспокойство. Городовые, околоточные, жандармы кидались туда, и крики стихали.
Мы с товарищем проникали всюду в собиравшиеся кучки народа и слушали рассказы. Оказалось, что в доме № 5, сплошь населенном беднотой, восемь дворников, и все татары. В день происшествия они хотели отправить в часть какого-то матроса. Сидевшие напротив в трактире мастеровые выбежали из трактира и не дали матросика в обиду. Дворники вооружились подметельниками и стали бить вступившуюся публику. «Били по чем попало», – рассказывали в толпе. Толпа освирепела и с криком: «Татары бунтуют!» – кинулась на дворников. Они убежали во двор, кинулись по лестницам и квартирам. Их ловили. Одного кинули с шестого этажа во двор.
– На сцене вопрос национальный, – предположил Мамикониан.
Но тут я увидел несколько человек, стоявших у самых ворот дома № 5. Это, очевидно, были жильцы, которых не пускали во двор. У одного в руках был каравай хлеба и селедка, очевидно купленные в лавочке, после чего он уже не мог попасть к себе. Другие были в том же роде. Я обратился с расспросами к этой кучке, и человек с хлебом рассказал мне всю историю по-своему.
– Дворники сильно притесняют… Придешь попозже – ворота заперты. А станешь стучать – впустят и зададут встряску, особливо если выпивши… Ограбят, да и бока намнут. Жаловались полиции, да что… – Рассказчик только махнул рукой.
– Полиция с ними заодно. – Свой своему поневоле брат. – Делятся, конечно… – возбужденно комментировали другие.
Все это вызывало раздражение. До дворников добирались давно. Случай с матросом послужил сигналом. Первые кинулись на дворников мастеровые, жильцы дома. Быстро собравшаяся у ворот толпа не позволяла полиции заступиться за дворников. Приехавшего пристава схватили за грудь с криками:
– Смотри, тебе то же будет. Вы с ними заодно!
Часов около одиннадцати ночи жандармы сели на лошадей и уехали. Во двор были введены солдаты, которые остались на ночь. Толпа редела… Говорили об одном убитом дворнике и нескольких раненых.
В последующие десятилетия такие явления все учащались, но в те годы они еще были невиданы, и апраксинский погром вызвал интерес тревожный и сильный. На следующий день в газетах ничего не было, но я знал, что на месте с полицейскими присутствовал «корреспондент». По наружности я догадывался, что это Юлий Шрейер, которого тогда называли «королем репортеров». Главным источником сведений служили ему всегда отличные отношения с полицией, которая через него и «освещала события».
Мы с Мамиконианом пробыли до ночи и потом ушли. На следующий день с утра я опять был у Нотовича все за тем же, то есть за деньгами. Я застал его в большом волнении.
– Вот, не угодно ли! Вчера, говорят, был чуть не бунт в Апраксином, а тут ни одного моего репортера не дождешься.
«Мои репортеры» – это было, пожалуй, слишком громко: и для репортажа Нотович тогда пользовался случайным сотрудничеством и перепечатками. Я улыбнулся и сказал, что я вчера был на месте и знаю, что было в Апраксином переулке. Он схватился за меня.
– Голубчик, выручите, напишите!..
– Хорошо, Осип Константинович, – ответил я. – Но только с условием: я знаю, как вы редактируете поступающие к вам заметки. Я напишу с уговором, что вы напечатаете без перемен.
– Что еще за условие? Вот еще Шекспир нашелся!..
– Как хотите.
– Ну, ну, пишите скорее.
Я написал заметку и отдал ему. На следующий день она еще не появилась, хотя была набрана. Ждали первых сообщений Юлия Шрейера. Когда я увиделся с Но-товичем, он был очень недоволен моей заметкой. Прежде всего плохое начало: нужно, чтобы было видно, что у газеты свои репортеры и что они вовремя на месте. А тут какой-то случайный очевидец. Вообще видно, что вы неопытны. Необходимо проредактировать.
Я на это не согласился, и, как ни трудно было Нотовичу удержать свой редакторский карандаш, он все-таки удержал. Затем, 7 июня кажется, заметка моя появилась одновременно с циркулярно разосланным отчетом Юлия Шрейера, отдавшего его сразу в несколько газет. Шрейер изображал вспышку национальной ненависти против татар и вообще сведения сообщал в чисто полицейском освещении.
– Вот что называется репортерским отчетом… – с завистью говорил Нотович, у которого не было средств приобрести для себя «короля репортеров».
Но уже через некоторое время он изменил свое мнение. Оказалось, что заметка «Новостей» (подписанная моими инициалами) обратила внимание.
– Да, да, – говорил после этого Нотович. – Статейка вам удалась. Вот и Суворин опирается на нее в полемике с Полетикой… Наша газета изменила взгляд всей печати и доказала, что апраксинская вспышка вызвана не национальной ненавистью, а притеснениями полиции и дворников… Удачно, удачно…
Я купил номер «Новостей», еще пахнувший типографской краской, и вот при каких условиях я испытал известное авторам ощущение первых печатных строк. Я, конечно, был очень доволен своим «шекспировским условием». Иначе мой отчет стал бы похожим на идеальный отчет «короля репортеров».
При расчете Нотович, разумеется, и не подумал уплатить корректору авторский гонорар за случайную статейку. Да я и не требовал.
XIV. Панихида по Сидорацком«Большой процесс» (так называли иначе «процесс 193-х») не только не ослабил движения в народ, но на некоторое время даже усилил его. Это естественно: его прямые, совершенно отрицательные результаты и их уроки не могли обсуждаться широко и свободно, а события самого процесса окружили участников ореолом. Наш тесный петербургский кружок разделял это настроение, и мы с братом, а также Григорьев решили устроить свою дальнейшую жизнь по-новому. Григорьев был свободен от семейных обязанностей, для нас с младшим братом задача сильно усложнялась. Мы были «лавристы» и смотрели на «хождение в народ» не как на революционную экскурсию с временными пропагандистскими целями, а как на изменение всей жизни. Григорьев не только разделял эти планы, но, быть может, более всех определял их. На ближайшее время мы с братом решили задачу таким образом: если представится случай участвовать в каком-нибудь предприятии, сопряженном с опасностью ареста, то участвует только один, а другой остается «в семейном резерве».
Такой случай представился вскоре после дела Засулич: во Владимирской церкви предполагалась панихида по Сидорацком. Можно было ожидать побоища и арестов. Мы бросили жребий, который выпал брату. Когда он ушел, в нашу квартиру забежал Григорьев и сказал мне:
– Приехала из Москвы Душа Ивановская. Я думал, что вы пойдете на панихиду. Она тоже будет. По очереди пошел брат?.. Ну, делать нечего… Прощайте пока. – И он спешно ушел.
Ивановская была наша общая знакомая. В последний год наш кружок в академии значительно расширился, и у нас происходили регулярные собрания в Петровке, в квартире женатого студента Марковского. Кроме того, мы часто собирались в разных местах в Москве. На одном из таких собраний мне бросилась в глаза высокая девушка, которую знакомые называли просто Душей. В нашем провинциальном городишке мы привыкли к особому тону отношений с девушками: мы сходились для танцев, влюблялись, переживали маленькие сердечные драмы, но девушки являлись нам лишь в известной «обстановке», по большей части среди музыки и цветов. Петербургская жизнь ничего не дала мне в этом отношении, и только здесь, в Москве, я увидел собрания, на которые со студентами приходили и девушки. В собраниях они выступали редко, но в более тесных кружках обсуждали все, о чем говорилось, и мнение многих из них приобретало большой вес в наших глазах.
Я был вообще застенчив, но к тому времени я уже свободно говорил в собраниях студентов, и мое имя, наряду с Григорьевым и Вернером, приобретало некоторую популярность в кружках. Однажды, придя довольно поздно на одно из собраний у Марковского, я поздоровался с двумя-тремя знакомыми и остановился. Недалеко я увидел Ивановскую. Мы бывали вместе на двух-трех собраниях, но нас никто не представлял друг Другу, я еще ни разу не говорил с нею и не знал, как держаться. Может быть, заметив мое легкое замешательство, девушка подошла сама, протянула руку и сказала просто «здравствуйте», назвав меня по фамилии. Это сразу подкупило меня, и мы затем уже встречались запросто. Я узнал, что есть три сестры Ивановские и что брат их, земский врач, носивший в кружках прозвище «Василья Великого», был арестован и убежал из московской Басманной части. Сестры были «на замечании» у полиции, и после нашей встречи Ивановская тоже была арестована. Ходили слухи, что она в заключении заболела. У меня при этих известиях сжималось сердце.
Теперь я узнаю, что она здесь, что я сейчас мог бы ее увидеть, если бы не случайность жребия. Брат с нею не знаком, и я уверен, что, если бы я раньше узнал об ее приезде, он уступил бы мне свою очередь. Но его нет. А между тем бог знает что может случиться после этой панихиды.
Я решил пойти к Владимирской церкви, разыскать брата и смениться с ним очередями. Подходя к церкви, я увидел, как отряд жандармов проехал на рысях по Владимирской и въехал в один из дворов против церкви, после чего ворота наглухо закрылись. В соседних домах ворота тоже были закрыты; можно было предполагать, что и там есть засада. Я решил произвести небольшую рекогносцировку. Местами, подальше от церкви, в соседних переулках, вдоль стен и в проходах под воротами стояли кучки людей в сибирках и высоких сапогах. На некоторых были надеты фартуки, а в руках они держали метлы. Стояли они все точно на каком-то дежурстве. Я понял: полиция узнала о цели панихиды и готовила свой «народ» для расправы с крамольниками в помощь полицейским.
Когда я вошел в переполненную церковь, панихида была уже на исходе. В волнах кадильного дыма и в торжественных звуках прекрасного пения мне чудилось особое настроение: мало кто из этих молодых людей и девушек знал покойного Сидорацкого. Но вот вскоре, быть может, не один и не одна из этой толпы подвергнутся его участи.
Недалеко от входа, у задней церковной стены, я увидел Григорьева, делающего мне знаки, и я пробился к нему через толпу. Рядом с ним стояла приезжая. Так же просто приветливо она поздоровалась со мной и через некоторое время сказала:
524
– Послушайте, Короленко, так нельзя стоять в церкви.
Я действительно стоял спиной к алтарю, а лицом к ней.
Когда панихида кончилась, толпа повалила из церкви, но остановилась у паперти, очевидно ожидая чего-то. Минута была критическая. Темная кучка людей, человек в пятьсот, казалась такой маленькой на этой площади под величавым порталом Церкви. Незнакомцы в передниках и с метлами сбегаются из переулков… А кругом глядят слепые пятна закрытых ворот, скрывающих вооруженную засаду.
Над толпой поднялся молодой человек и начал говорить со ступеней церковного крыльца. Это был Лопатин (не Герман и не Всеволод, имена которых были уже известны в радикальных кружках). Сказав несколько слов о Сидорацком и о значении панихиды, он стал горячо убеждать толпу ограничиться этим мирным выражением своего отношения к погибшей жертве и разойтись по домам без дальнейших демонстраций. Речь была сказана хорошо и оказала действие: после некоторого колебания плотная толпа как будто дрогнула. Ожидали возражений, слышались отдельные недовольные восклицания, но, вероятно, по предварительному плану распорядителей, речей в другом смысле не было. Кучка за кучкой стали отрываться от компактной массы, и вскоре толпа расплылась в разные стороны. До Невского и в начале Литейного она была все-таки довольно густа, но далее стала смешиваться с безразличной толпой, хотя все еще местами привлекала удивленные взгляды встречной публики. В конце Литейного, у самого спуска к реке, произошел небольшой шум. Кто-то заметил или просто только заподозрил шпиона, и кучка студентов делала вид, что хочет бросить его в полынью на Неве у берега. Дело, однако, кончилось благополучно.
Я провожал Ивановскую и здесь попрощался с ней. Пройдя несколько шагов, я оглянулся. Какая-то дама, очень нарядная, только что встретилась с девушкой и тоже оглянулась. На лице ее появилась насмешливая улыбка, значение которой я понял; высокая худощавая фигура девушки была далеко не нарядна: на ней было темное пальто, точно с чужого плеча, а. на голове круглая клеенчатая шляпа с лентой, падавшей сзади на плечи вместе с косой.
Читатель вспомнит первую детскую, но довольно продолжительную любовь «моего современника», начавшуюся среди музыки, детской игры и танцев. И вот теперь, в лице этой нарядной красавицы, прошлая любовь как будто смеялась над настоящей. И он подумал:
«Да, эти клеенчатые шляпы ужасны… Но… Как я люблю ее…»
XV. Убийство Мезенцева. – Второй арест. – В третьем отделении«Большой процесс», выстрел Засулич, вызвавший общее и очень широкое сочувствие, ее оправдание, заявление ее об уважении к суду присяжных и готовности ему подчиняться – все это были мотивы, казалось, устанавливающие некоторое взаимодействие между широкими общественными течениями и стремлениями революционной молодежи. Но это длилось недолго. Впечатление дела Засулич постепенно сглаживалось в обществе и прессе, а жестокие репрессии, которыми правительство ответило на наивные попытки народнической молодежи, вызывали ожесточение. Движение начало сворачивать на путь изолированной борьбы революционной интеллигенции, на путь террора.
Вера Засулич не была террористкой в прямом смысле. Ее поступок был непосредственным порывом и оттого, быть может, вызвал такое общее сочувствие. Сама она всю остальную жизнь оставалась принципиальной противницей террора. Но вскоре после ее дела появилась брошюра Кравчинского, в которой последний восторженно приветствовал ее подвиг и звал к его продолжению.
И продолжение не замедлило.
4 августа 1878 года убит шеф жандармов Мезенцев. Во время обычной своей прогулки в сопровождении генерала Макарова он встретился на Михайловской улице с двумя изящно одетыми молодыми людьми, которые отделили его от спутника. Один из встречных прижал Макарова к стене, а другой в это время ударил Мезенцева кинжалом. За неизвестными шагом ехала пролетка, в которую они сели и скрылись бесследно. Это было среди белого дня на одной из центральных улиц столицы.
Исполнителями террористического акта были Кравчинский и Баранников. Лошадью правил Адриан Михайлов. В прокламации, выпущенной по этому поводу, выставлялся мотив, близкий к мотиву Веры Засулич: месть за погубленных товарищей. Кроме того, в стихотворении А. А. Ольхина, самом сильном из всего, что им когда-либо было написано, упоминалось о том, как
Угасает в далекой якутской тайге
Яркий светоч науки опальной…
По закону Н. Г. Чернышевскому, окончившему срок каторжных работ, предстояло выйти на вольное поселение. Но вместо этого он вновь был заключен в особой тюрьме в Вилюйске. И говорили, что это благодаря Мезенцеву.
Вечером в день этого убийства я долго засиделся в типографии. Возвращаясь поздней ночью в свою квартиру (мы жили тогда на углу Подольской улицы и Клинского проспекта), я был поражен обильным ее освещением. Подозревая недоброе, я быстро вбежал по лестнице с тяжелым опасением за мать. Она все была больна сложной нервной болезнью, на почве которой с нею случались тяжелые припадки. Дверь оказалась незапертой, квартира наполнена полицией и понятыми. И первая фигура, которая мне бросилась в глаза, была совершенно спокойная фигура матери. Я кинулся к ней и, обнимая ее, услышал ее шепот: «Пьянков называется так-то… Он сегодня снял у нас комнату».
Пьянков, участник «большого процесса», оправданный по суду, был все-таки сослан по высочайшему повелению в Архангельскую губернию, откуда только что бежал вместе с Павловским, впоследствии известным корреспондентом «Нового времени» из Франции (Яковлев). О том, что в этот день что-то предпринимается, было известно в неблагонадежных кругах, и оба беглеца еще с утра попросили у нас приюта, считая нашу квартиру безопасной. Павловский не явился, а Пьянкова я сразу увидел сидящим на окне.
Ничего предосудительного при обыске найдено не было, но все же я и мой младший брат были арестованы, у остальных, то есть у моего зятя, недавно женившегося на старшей сестре, у его приемного отца, только что приехавшего из Петрозаводска, чтобы познакомиться с женой сына, и, наконец, у Пьянкова были отобраны паспорта с обязательством явиться на следующий день в Третье отделение.
Нас с братом доставили в здание у Цепного моста, которое, несмотря на поздний час, было ярко освещено и переполнено движением и суетой. Меня привели в коридор верхнего этажа, ввели в камеру, велели раздеться донага и унесли одежду с собой. Но все-таки я успел припрятать карандаш, обернутый полулистиком почтовой бумаги, засунув его в буйные волосы. Я его оставил потом в наследство своему неведомому преемнику по камере. Через пять минут мне принесли белье, халат из тонкого сукна и туфли вроде больничных. Через десять минут я уже спал как убитый.
Ранним утром служитель принес принадлежности для умыванья. Он был в жандармской тужурке. Тогда жандармы не были еще добровольцами, а назначались в «корпус» прямо из сдаточных, как и в другие роды войск. Поэтому между ними встречалось много простых и добродушных лиц без той особой печати, которая отмечала жандармов-добровольцев. Когда служитель входил за чем-нибудь в камеру, часовой, тоже жандарм, становился у двери почему-то спиной к камере. Умывшись и обтирая лицо, я спросил у служителя, «который теперь час», но в ответ получил громкий и довольно грубый окрик:
– Молчать!.. Не велено разговаривать. – Но тут же он прибавил шепотом – Девять часов.
Я понял, что ни этого прислужника, ни стоящего у двери с обнаженной шашкой часового мне опасаться нечего, и когда он принес мне завтрак, то я опять спросил его:
– Не знаете ли? Мой брат тут же? – Новый, еще более грозный окрик и тихий ответ – В таком-то номере, внизу.
В третий раз, когда явился обед, служитель уже сам мигнул мне, чтобы я спросил у него что-нибудь, и после грубейшего окрика ответил шепотом:
– Вашего брата на допрос повели. Кушайте скорее, сейчас позовут и вас.
Мне действительно скоро принесли собственное платье и повели в канцелярию. В коридорах и в комнатах Третьего отделения шла невероятная суета, все было полно жандармами, сыщиками, арестованными и призванными к явке. Проходя через переднюю, я увидел Лошкарева и его приемного отца. Пьянкова хорошо знали в Третьем отделении, и потому, по общему совету, он не явился.
Меня и брата допросили наскоро, где мы провели первую половину вчерашнего дня, и затем отпустили. Вместе с нами в переднюю вышел молодой жандармский офицер и окликнул:
– Вызванные с Подольской улицы, дом номер такой-то, здесь?
– Точно так, ваше высокоблагородие, – ответил приемный отец Лошкарева, бывший николаевский солдат, и вытянулся в струнку.
Это, по-видимому, спасло наше положение: офицер благосклонно взглянул на эту колоритно-благонадежную фигуру и, не перекликая остальных, отдал ему все паспорта. Таким образом, неявка Пьянкова прошла незамеченной. Мы веселой гурьбой вышли на узкий двор, где навстречу нам попался в парадной форме высокий, полный и красивый жандармский полковник. Нам назвали весьма впоследствии известного телохранителя и личного друга Александра III, генерала Черевина.








