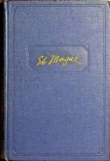Текст книги "Том 8. Статьи, рецензии, очерки"
Автор книги: Владимир Короленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 31 страниц)
Владимир Галактионович Короленко
Собрание сочинений в десяти томах
Том 8. Статьи, рецензии, очерки
Литературно-критические статьи
Памяти Белинского *
В нынешнем месяце истекает ровно пятьдесят лет со дня смерти Виссариона Григорьевича Белинского. Прошло полвека с тех пор, как перестало биться одно из самых чутких сердец и угас самый подвижной, беспокойный, пламенный ум, страстно, мучительно и искренно искавший истины, никогда не боявшийся расстаться с тем, что он признавал заблуждением, и пуститься в новый путь для новых исканий. Полвека! Это, как известно, более, чем средняя продолжительность жизни. Как мало осталось людей, которые жили и думали одновременно с Белинским! Как много родившихся в год его смерти тоже сошли уже со сцены! Целая человеческая жизнь, целое поколение, масса жизней, своего рода биологический пласт залег между последним вздохом Белинского и настоящей минутой, когда, благодаря этому юбилею, его образ оживает в нашем воспоминании. И, однако, оживает светлый и ясный, как будто ничто не отделяло нас от него, как будто он жил с нами все время, не переставая стремиться и пламенеть, спорить и отрекаться, как во время своей недолгой жизни.
Да, пятьдесят лет много времени. Мы давно уже не читаем большинства из тех книг, которые разбирал Белинский, о многих только и знаем потому, что их Белинский разбирал. Нужно сказать правду: часть его собственных писаний отошла уже в область истории литературы, многие страницы его сочинений читаются все реже той массой публики, для которой главным образом и назначены книги, и тревожатся чаще рукой специалистов-историков. Но эти же пятьдесят лет показали ясно, что для сочинений Белинского в целом уже не будет смерти в обычном значении этого слова. Некоторые из них останутся всегда живыми, как и те творения, которым они были посвящены, которые они объяснили и осветили раз навсегда. «Нет, весь я не умру», – мог бы сказать Белинский вместе с великим поэтом, и пока будет звучать русская речь, до тех пор, наряду с именами Пушкина, Лермонтова и Гоголя, каждое новое поколение будет вновь и вновь слышать имя Виссариона Белинского и перечитывать его пророческие страницы.
Но и помимо этой формы посмертной жизни писателя в умах последующих поколений, помимо существования его книг, возобновляемого в целом или частью на печатном станке, – есть еще другие формы этой жизни. Мы не говорим уже о том, что в каждом новом творении литературы, в каждой живой статье, стихотворении, рассказе и философском трактате, во всем этом многоголосом хоре, который мы называем своей литературой, – возобновляются и звучат давно смолкшие голоса и оживают давно угасшие мысли людей, думавших и писавших ранее, «их же имена ты, господи, веси!» Это все-таки мы называем смертью. Ведь и над каждой могилой зарождается новая жизнь – в аромате цветка, в колыхании травы, в шопоте буйной листвы намогильного дерева мы слышим веяние жизни, истлевшей под могильным дерном, растворившейся безлично, но не бесследно в общем никогда не останавливающемся жизненном потоке.
Белинский живет для нас, будет жить всегда не только этой безличной жизнью. Кроме той массы идей, которые он в течение своей недолгой карьеры пустил в обращение, которыми мы и за нами наши дети будут пользоваться, не всегда даже связывая их с первоисточником, – кроме стольких-то печатных томов и страниц, Белинский завещал нам еще цельный, живой образ, который останется навсегда, наряду с лучшими созданиями гениальнейших поэтов.
Этот образ – он сам, с его страстною жаждой истины, с его исканиями и искренностью.
Искренность была главная черта Белинского, и притом искренность в лучшем, самом глубоком значении этого слова. Знаете ли вы, что такое искренность, – спрашивал, помнится, Помяловский. Это то свойство человека, когда он не способен к тени обмана, не только перед другими, но и перед самим собою. Мы так склонны держать истину, всю истину, в собственном обладании, мы так рады этому обладанию, что готовы пожертвовать многим для того, чтобы не расстаться со своей уверенностью, порой даже с ее иллюзией. Как часто случается, что человек уверяет себя и других, что он обладает истиной, когда она давно уже подточена в его душе темными сомнениями, как часто мы продолжаем курить фимиамы перед алтарями, которые давно уже покинуты божеством, или начинаем курить их перед такими, где божества никогда не было. Нет, – чутко прислушиваться к голосу, хотя бы самому тихому, самому робкому голосу сомнения, не заглушать его в темных углах души, а вызвать из этой глубины на свет сознания, прислушаться к нему, как к тихому лепету ребенка, устами которого, быть может, скоро заговорит твердый голос новой истины, – и не успокоиться, не примириться с собой до тех пор, пока в уме останется хоть тень неуверенности, пока она не смолкнет, побежденная, или не даст новой истины на место старой – вот что такое искренность мыслителя и писателя.
«Неистовый Виссарион», как его называли друзья, останется для нас навсегда лучшим воплощением такой искренности. Всю жизнь он горел этой жаждой, вся его жизнь – это неустанное стремление к такой чистой истине, не омраченное ни тенью сделок с собой, ни тенью компромисса с ложью. Он пламенел восторгами уверенности более, чем кто-либо другой, когда считал, что нашел ее, он страдал, когда являлось сомнение, глубже всех своих сверстников, и, однако, он скорее всех готов был отречься от того, что перестало быть истиной в его глазах. Кто знает, быть может, он именно оттого сгорел так быстро. К нему более, чем к кому бы то ни было, приложимо скорбное восклицание поэта:
Братья-писатели, в вашей судьбе
Что-то лежит роковое…
Жизнь Пушкина и Лермонтова прекращена случайностью выстрела, Писарев утонул, Помяловский, Левитов и многое множество других писателей сами сокращали свою жизнь недугом, который еще Гоголь назвал «недугом талантливых людей»… Целая масса причин усложняла явление, в среднем выводе называемое «роковой судьбой» русского писателя. Только в жизни Белинского оно является в чистом виде, в виде ничем не затемненной и не усложненной борьбы духа, того пламенного сгорания нервов среди окружающей тьмы, которого и одного достаточно для объяснения, «почему он так скоро сгорел». Это был истинный рыцарь духа, без страха и упрека, и русская литература всегда с гордостью будет обращать на него взгляды, как на своего подвижника и святого!
И это – быть может, самая бессмертная доля того, что нам осталось от Белинского. Поэзия дала нам идеальные образы, – но мы не можем забыть, что настоящий Дон-Карлос был только хилый и слабый волею отпрыск вырождающегося дома, что маркиз Поза жил только в воображении Шиллера, что действительная Мария Стюарт и жила, и умерла совсем не так, как в бессмертной драме. Между тем, кристально-чистый образ Белинского не разрушит уже никакая самая придирчивая историческая критика. Он был именно таков, и его жизнь, скристаллизовавшаяся в его творениях, письмах, поступках, выдерживает сравнение с самыми идеальными творениями фантазии, с несомненным преимуществом полной реальности.
Около четверти века назад Некрасов вздыхал о том времени, когда народ
Не генерала строгого
И не милорда глупого, —
Белинского и Гоголя
С базара понесет.
С тех пор прошло почти три десятилетия, в которые российский прогресс двигался своим неторопливым и неровным ходом, а мы все еще далеки от этого времени. Правда, газеты приносят то и дело известия, что в том или другом городе думы или просветительные общества собираются чествовать память великого русского критика. В Саратове инициатива принадлежит литературно-артистическому обществу, в Самаре вопрос внесен в думу; в то время, когда читатель будет пробегать эти строки, родина Белинского, Пенза, – соберет у себя много интеллигентных людей в память Белинского. Но народ еще не знает его имени, к нему оно достигает разве отдаленными, смутными отголосками. Вскоре после смерти Белинского многомиллионная масса русского народа получила свободу и (теоретическое, правда) равенство перед законом. Предстоит еще длинный путь до того исторического пункта, в котором исчезнет великое неравенство перед образованием. Белинский верил, что оно, наконец, исчезнет; для нас это уже не только вера, а убеждение, оправдываемое хотя бы и тихим, но несомненным направлением общественного движения.
А если так, то несомненно, что и мечта Некрасова сбудется, потому что, сколько бы ни понадобилось для этого времени, – образ Белинского уже не померкнет. Он пережил свой период испытания и остался нетленным, в ожидании, когда к нему проложится и уже
…не зарастет народная тропа.
1898
О Глебе Ивановиче Успенском
Черты из личных воспоминаний *
Есть люди, подобные монетам, на которых чеканится одно и то же изображение. Другие похожи на медали, выбиваемые только для данного случая.
Гофман
I
Глеб Иванович Успенский был именно такой медалью. Он был один, сам по себе, ни на кого не был похож, и никто не был похож на него. Это был уник человеческой породы, редкой красоты и редкого нравственного достоинства.
Нужно с грустью признаться, что реальная личность писателя, художника, артиста – редко совпадает с тем представлением, какое мы составляем по их произведениям. Во время творчества идей, звуков, образов мы становимся несколько выше нашей средней личности. Мы как бы уходим в маленькую горную часовенку, отгороженную от наших будней. А затем, «когда не требует поэта к священной жертве Аполлон», мы опять спускаемся с этих вершин, которые – велики они или малы – все-таки составляют высшие точки нашего личного существования. Иной раз этот обычный уровень очень удален от вершин, и вот почему так часто первое впечатление при встрече с писателем – бывает легкое движение разочарования: нам трудно связать в одно целое наше идеальное представление с реальною личностью.
Но бывают дорогие и редкие исключения, когда оба эти представления совпадают вполне и нераздельно. Таким именно исключением был Глеб Иванович Успенский.
Во второй половине 80-х годов я жил в Нижнем Новгороде, и среди моих близких знакомых был провинциальный писатель, который в то время вел литературный отдел в одной из приволжских газет. Всякий, кто жил уже сознательной жизнью в то смутное и туманное время, помнит общий тон тогдашнего настроения. У так называемой интеллигенции начиналась с «меньшим братом» крупная ссора (о которой последний, впрочем, по обыкновению, даже не знал). Хотя Успенский никогда не идеализировал мужика, наоборот, с большой горечью и силой говорил о «мужицком свинстве» и о распоясовской темноте даже в период наибольшего увлечения «устоями» и тайнами «народной правды», тем не менее в это время он всей силой своего огромного таланта продолжал призывать внимание общества ко всем вопросам народной жизни, со всеми ее болящими противоречиями и во всей ее связи с интеллигентною совестью и мыслью. Так что с реакцией против мужика начиналась реакция и против Успенского: к нему обращались запросы, упреки, письма. В одной из своих статей в «Отечественных записках» Глеб Иванович с большим остроумием отмечал и отражал это настроение при самом его возникновении. Он характеризовал его словами: «Надо и нам». Что в самом деле: мужик заполонил всю литературу. Мужик да мужик, народ да народ. «Мытоже хотим… Надо и нам…» Нет сомнения, что у этого настроения были свои причины, пожалуй, далеко не безосновательные. Еще недавно многие требовавшие «и себе» красоты, мечты, ярких красок или внимания, не только не требовали этого, но даже, забывая о себе, отдавали все личное меньшему брату. Но жизнь, обманутые ожидания завели их в тупой переулок, из которого как будто не было выхода… Началось самоуглубление, самоусовершенствование, решение вопросов изолированной личности, вне связи с общественными вопросами, до тех пор властно занимавшими умы и сердца. «Восемьдесят тысяч верст вокруг самого себя», – с обычной меткостью характеризовал Глеб Иванович одну сторону этого настроения. Огорченный и разочарованный, русский интеллигентный человек углублялся в себя, уходил в культурные скиты или обиженно требовал «новой красоты», становясь особенно капризным относительно эстетики и формы.
Отчасти это настроение переживал и мой приятель. Кроме того, он был хорошо знаком с иностранными литературами, относительно же русской в его чтении были пробелы. В том числе и Успенского в целом он не знал и разделял предубеждение против его настойчивых призывов «все-таки смотреть на мужика».
Однажды он вошел в мою гостиную, когда за чайным столом, в кружке моей семьи и знакомых, сидел Глеб Иванович, только что приехавший в Нижний Новгород. Он говорил о чем-то своим обычным тоном, в котором проглядывала какая-то сдержанная, глубокая печаль, по временам вдруг уступавшая место вспышкам особенного, только Успенскому присущего, тихого юмора. Я представил своего приятеля. Успенский встал, пожал ему руку, невнятно пробормотал свою фамилию и опять обратился к занимавшей его теме, которая уже овладела вниманием слушателей. Взглянув случайно на своего приятеля, я заметил на его лице напряженное внимание, смешанное с чрезвычайным изумлением. Через четверть часа он поднялся с своего места и, выйдя в соседнюю комнату, поманил меня за собою.
– Кто это у вас? – спросил он с величайшим любопытством. – Я не расслышал его фамилии.
– А что? Почему вы спрашиваете таким тоном?
– Это какой-то необыкновенный человек. От него… веет гениальностью.
– Поздравляю вас, – ответил я, смеясь, – вы познакомились с Глебом Ивановичем Успенским.
После этого мой приятель несколько недель запоем изучал Успенского, все более и более увлекаясь, и в приволжских газетах появились статьи нового страстного поклонника Глеба Ивановича. Он был завоеван навсегда, и притом не писатель предрасположил его к личности, а, наоборот, необыкновенное обаяние личности обратило скептика к изучению произведений писателя.
Глеб Иванович Успенский не сказался в своих произведениях со всею силой своей необыкновенной личности и своего таланта. Чистый образ, тщательно выношенный в душе и выплавленный из однородного художественного материала, вообще легче привлекает внимание и живет дольше, чем та смесь образа и публицистики, посредством которой работал Успенский. Ему нужна была не красота, не цельность впечатления, не самый образ. С лихорадочной страстностью среди обломков старого он искал материалов для созидания новой совести, правил для новой жизни или хотя бы для новых исканий этой жизни. То, что он предполагал известным, общим у себя и читателя, над тем он не останавливался для детальной отделки, то отмечал только беглым штрихом, заполнял кое-как, лишь бы не оставить пустоты. Наоборот, то, что еще только мелькало впереди смутными очертаниями будущей правды, – за тем он гнался страстно и торопливо, не выжидая, пока оно самопроизвольно сложится в душе в ясный, самодовлеющий образ. Он пытался обрисовать его поскорее для насущных надобностей данной исторической минуты теми словами, какие первые приходили на ум. От этого он часто повторялся, все усиливая находимые идеи, заставлял читателя переживать с ним вместе и его поиски, и его разочарования, и всю подготовительную работу, пускал жильцов, когда у постройки еще не были убраны леса. Все это искупалось важностью и насущностью занимавших Успенского вопросов, а общность настроений писателя и его читателей заполняла пробелы в этой торопливой работе. Теперь, когда настроение изменилось, пробелы выступают яснее, и, в целом, Успенский становится «труден». Однако всякий, кто не побоится лесов и видимого беспорядка в этой огромной работе, наткнется здесь и на замечательные образы, носящие печать более чем крупного таланта, и на глубокие, прямо «проникновенные» мысли (например, во «Власти земли», этой философии и эпопее земледельческого труда)… Но особенно интересна во всем этом – самая личность автора, с ее своеобразной глубиной, с ее необыкновенной чуткостью к вопросам совести, с ее смятением и болью…
И всякий, кто знал Успенского лично, кто помнит это обаяние и значительность основного душевного тона, который сразу чувствовался во всяком слове, движении, взгляде задумчивых глаз, в самом даже молчании Успенского, – согласится с отзывом моего приятеля: от этой своеобразной, единственной в своем роде личности «веяло гениальностью»…
II
С Глебом Ивановичем Успенским я познакомился лично в марте или апреле 1887 года.
В одну трудную эпоху моей жизни я получил от него через третьи или четвертые руки несколько слов привета и одобрения по поводу моих первых литературных опытов. Это внимание любимого писателя к неизвестному и затерянному в ссылке молодому человеку и та заботливость, с которой он старался переслать свой привет через разные посредствующие инстанции, – меня глубоко тронули и залегли в моей душе чувством особой благодарности не только к писателю, но и к человеку. С этим чувством я подымался в пятый (кажется) этаж большого дома на Васильевском острове, где в те годы жил Успенский. В то время портреты писателей не были так распространены, как теперь, и я не имел ни малейшего понятия о наружности Успенского. В передней, куда я вошел, меня встретил кто-то из молодежи, наполнявшей соседние комнаты. Был, помнится, какой-то семейный праздник, в квартире было весело и шумно. Над семьей тогда не чувствовалось еще приближение грозы, которая уже готовилась в близком будущем, и молодежь беззаботно веселилась, наполняя шумом всю квартиру. Я назвал свою фамилию и через несколько минут очутился в объятиях человека, которого в первое время не успел хорошенько рассмотреть. Только когда он отодвинулся, чтобы взглянуть мне в лицо, я увидел в первый раз его удивительные глаза, широко расставленные и глубокие. В них было что-то ласковое и печальное в то же время; лицо показалось мне усталым. Помню, однако, что оно как-то сразу, без всякого промежуточного впечатления и разлада, слилось со всем лучшим, что отлагалось в душе от его произведений. Мне казалось только, что лицо и взгляд автора «Будки», «Разоренья» и стольких картин, полных яркого и своеобразного юмора, должны бы быть несколько веселее. Однако я чувствовал, что от этого оно не стало бы лучше, чем с этой грустью, сосредоточенной, вдумчивой и как будто бы давно отложившейся на самом дне этой глубокой души.
Наскоро познакомив со своей семьей, Глеб Иванович увел меня в свою маленькую рабочую комнатку налево от входа. Усадив меня, он сел сам и закурил папиросу. Первую минуту оба мы молчали, но от этого молчания мне совсем не было неловко. Наоборот, с первой же минуты я почувствовал себя близким к этому человеку с печальными глазами и ласковой улыбкой, как будто мы были давно знакомы. Он курил и прислушивался к веселому шуму молодежи, доносившемуся из соседних комнат. Когда взрывы веселья становились особенно ярки, лицо Глеба Ивановича как-то внезапно светлело, и он глядел на меня смягченным взглядом, будто приглашая принять участие в этой общей радости. Потом, как бы продолжая давно начатый разговор, он рассказал мне о своих детях, об их характерах и о причине семейного праздника.
Подробностей этого первого разговора я почему-то не помню так ясно, как запомнились мне впоследствии многие другие наши беседы. Помню только, что уже в середине вечера разговор коснулся Достоевского.
– Вы его любите? – спросил Глеб Иванович.
Я ответил, что не люблю, но некоторые вещи его, например «Преступление и наказание», перечитываю с величайшим интересом.
– Перечитываете? – переспросил меня Успенский с удивлением и потом, следя за дымом папиросы своими задумчивыми глазами, сказал:
– А я не могу… Знаете ли… у меня особенное ощущение… Иногда едешь в поезде… И задремлешь… И вдруг чувствуешь, что господин, сидевший против тебя… самый обыкновенный господин… даже с добрым лицом… И вдруг тянется к тебе рукой… и прямо… пррямо за горло хочет схватить… или что-то сделать над тобой… И не можешь никак двинуться.
Он говорил это так выразительно и так глядел своими большими глазами, что я, как бы под внушением, сам почувствовал легкое веяние этого кошмара и должен был согласиться, что это описание очень близко к ощущению, которое испытываешь порой при чтении Достоевского.
– А все-таки есть много правды, – возразил я.
– Правды?..
Глеб Иванович задумался и потом, указывая двумя пальцами в тесное пространство между открытой дверью кабинета и стеной, – сказал:
– Посмотрите вот сюда… Много ли тут за дверью уставится?
– Конечно, немного, – ответил я, еще не понимая этого перехода мысли.
– Пара калош…
– Пожалуй.
– Положительно: пара калош. Ничего больше…
И вдруг, повернувшись ко мне лицом и оживляясь, он докончил:
– А он сюда столько набьет… человеческого страдания, горя… подлости человеческой… что прямо на четыре каменных дома хватит.
Я невольно улыбнулся. Впоследствии мне пришлось не раз встречаться с этим изумительным умением Успенского – двумя-тремя словами, комбинацией первых попавшихся на глаза предметов – объяснять и иллюстрировать сложные явления, для которых другим нужны длинные рассуждения и множество слов… Его суждения всегда бывали кратки, образны, били в самую сущность явления и часто освещали его с неожиданной стороны. И никогда в них не было того легкого остроумия, в котором чувствуется равнодушие к предмету и безразличная игра ума. До сих пор я помню выражение лица, с каким он произносил эти слова: «страдание», «горе», «подлость человеческая» – в приведенном отзыве о Достоевском. Для него это не были простые понятия: каждое из них отражалось болью на его выразительном лице…
Может быть, в этой особенной чуткости сказывалась уже близкая болезнь… Но в то время мне это не приходило в голову, тем более что и эта печаль, и эта чуткость сливались в цельный образ, слишком привлекательный, чтобы казаться болезненным. Во время разговора он страшно много курил, и здесь опять у него был свой особенный, оригинальный прием: докурив папиросу до половины, он вынимал из нее своими тонкими, нервными пальцами картонный мундштук и как-то особенно ловко надевал не докуренную папиросу на другую, новую. С этой последней через некоторое время он проделывал то же самое, и таким образом его папироса не уменьшалась, а, наоборот, достигала иногда необычайных размеров…
Впоследствии много раз приходилось мне проводить время с Глебом Ивановичем, и почти всегда при этом я видел у него во рту эту длинную составную папиросу, которую он все дополнял с привычной ловкостью. Нередко также около него стояла бутылка вина или пива… Очень может быть, даже наверное, что и это неумеренное куренье, и вино оказали свое вредное влияние и ускорили наступление болезни. Но меня всегда коробит и оскорбляет, когда я слышу или читаю об алкоголизме или «обычном пороке талантливых людей» в применении к Глебу Ивановичу Успенскому. Я лично пьяным его никогда не видел… Мне кажется, что у него не было любви ни к вину, ни к вызываемому вином изменению личности. Да такого изменения и не было: он оставался все тем же, с тем же грустно-задумчивым взглядом и той же улыбкой… Вообще, когда теперь я вспоминаю эту папиросу и вино и то, что я без привычки тоже курил и пил в присутствии Глеба Ивановича и что ни куренье, ни вино не оказывали на меня никакого действия, – то мне кажется, что это было какое-то ровное, беспрестанное и чрезвычайно интенсивное горение мозга и нервов, заразительное, вовлекавшее тотчас же и других в свою сферу. И в этом горении совершенно утопало впечатление наркотиков. Это были просто капли, шипевшие на раскаленной плите. Но плита раскалялась не ими…
Разговор Успенского тоже был совершенно особенный. Рассказывая что-нибудь, он глядел на собеседника своим глубоким, мерцающим взглядом, говорил тихо, как будто сквозь слегка сжатые зубы, и при этом жестикулировал как-то особенно, то и дело прикладывая два пальца к груди, как будто указывая на какую-то боль, которую он чувствовал от собственных рассказов где-то в области сердца. Его речь была отрывиста, без закругленных периодов, полная причудливых изгибов и неожиданных определений, часто вспыхивала своеобразным юмором. И никогда она не производила впечатления простой болтовни на досуге, среди которой так хорошо иногда отдохнуть от работы и от мыслей. Его молчание было отмечено теми же чертами, как и его разговор. В его отрывистых замечаниях и в его молчании чувствовалась какая-то неразрывная связь. В одном из своих очерков он говорит, что иногда можно «молчать о многом». Действительно, бывают разговоры, в которых содержания меньше, чем в полном молчании, и бывает молчание, в котором ход мысли чувствуется яснее, чем в ином, даже умном разговоре. Такое именно значительное молчание чувствовалось в паузах Успенского. Его речь и его паузы продолжали друг друга. Мысль его шла, как река, которая то течет на поверхности, то исчезает под землею, чтобы через некоторое время опять сверкнуть уже в другом месте. Раз вслушавшись в основное содержание занимавшей его мысли, вы уже были во власти этого течения, во время самых пауз уже чувствовали это «молчание о многом» и невольно ждали, где эта неотдыхающая мысль опять сверкнет на поверхности каким-нибудь неожиданным поворотом, образом, картиной, иногда в одной короткой фразе или даже в одном только слове.
Я думаю, что эта манера молчать так же утомительна, как и напряженная работа. А между тем это было нормальное состояние Успенского, по крайней мере в том периоде его жизни, когда я знал его. Для него почти не существовало тех минут полного безразличия организма, когда в нем совершаются, не задевая сознания, одни только растительные, восстановляющие процессы. Некоторые «жития» рисуют нам подвижников, никогда не расстававшихся с молитвой, которая входила даже в их забытье и сон. Совершенно так же некоторые вопросы совести и мысли никогда не засыпали в Успенском. И это-то, я думаю, придавало такую выделяющую значительность его лицу, его словам, его взгляду, самому его молчанию…
Но это же и сжигало его неустанным огнем…
Все это, разумеется, сложилось для меня в полное, сознательное впечатление только впоследствии, при ближайшем знакомстве с Успенским, и даже продолжает выясняться теперь, когда я вглядываюсь в свои воспоминания. Помню, однако, что в этот первый вечер, выйдя на пустынную линию Васильевского острова, я очень удивился, взглянув на часы, – как уже поздно и как скоро прошло время. И я долго шел пешком, останавливаясь то на набережной, то на мосту, и ловил себя на этих невольных остановках, во время которых, глядя на Неву, на дома, на ночное небо, я, в сущности, был занят только переполнявшим меня впечатлением от этой своеобразной личности, с ее совершенно особенным душевным складом, значительным, глубоким и обаятельным.
III
В последующие годы мы встречались много раз то в Петербурге (во время моих приездов), то в Москве, а затем несколько раз он гостил у нас в Нижнем. Одно из этих посещений осталось в моей памяти с особенной ясностью, может быть оттого, что некоторые поразившие меня черточки я тогда же, под первым впечатлением, набросал в своей записной книжке, а может быть, и потому еще, что от него осталось воспоминание, еще не омраченное тенью роковой болезни.
Это было в 1887 году, если не ошибаюсь, в конце июля или начале августа. Приехал Успенский в Нижний Новгород среди чудесных дней ранней осени, ласковых и теплых. В первые минуты он показался мне как-то особенно веселым, радостным, оживленным. Отделавшись от срочной работы, он приехал на пароходе и на следующий день собирался ехать дальше, вниз по Волге. В план его поездки входили; Казань, Симбирск, Самара, Саратов, Царицын. Из Царицына он должен был проехать в Калач, на Дон, и затем куда-то по железным дорогам, с намеченными остановками. Он чувствовал себя отлично, и от него веяло свежестью и впечатлениями Волги.
Однако у него никогда не было такого времени, когда бы он был совершенно свободен от какой-нибудь «господствующей идеи», служившей центром его настроения. И действительно, после первых радостных приветствий он посмотрел на меня своими выразительными глазами, с притаившейся в них тревожной печалью, и спросил:
– Читали вы лекцию госпожи NN?
Я лекции не читал, но встречал кое-что об ней в газетах. Это было время сильного увлечения теориями Ломброзо и антропологической школы. Лекция была первоначально прочитана, кажется в пользу высших женских курсов, женщиной-врачом и касалась среднего типа проститутки. Лекторша, на основании ряда исследований, приходила к заключению, что «тип этих женщин» – ниже среднего женского. Между прочим, Глеба Ивановича остановила одна подробность: оказалось, что нижняя челюсть проститутки выступает на какие-то полтора миллиметра больше, чем у средней добродетельной женщины.
Вся эта физиолого-анатомическая статистика, в которой утопает столько живого, личного, индивидуального горя, страдания и позора, это рассечение живого и болящего явления на предопределяющие особенности физиолого-анатомического свойства глубоко оскорбили Глеба Ивановича и приводили его в негодование. Он знал «жертвы», и притом именно жертвы общественных условий и «общественного неустройства». А здесь выдвигался «низший тип», осужденный фатально несовершенствами собственной организации. Центр тяжести всей вины, тревожившей совесть и взывавшей к справедливости, переносился из ответственной социальной среды в фатальные условия природных предопределений. То обстоятельство, что лекцию читала женщина-врач в пользу высших женских курсов, перед аудиторией, в значительной части состоявшей из курсисток, которые проводили лекторшу аплодисментами, – особенно огорчило Успенского. В его чутком воображении за этой статистикой встал коллективный образ интеллигентной женщины, пробивающей себе дорогу к знанию и свету, а за ним – тысячи помраченных существований. И ему показалось, что добродетельная женщина с холодным пренебрежением закрывает глаза на горе своей погибающей сестры, слишком легко принимая теорию «низшего типа».
Я, повторяю, не читал самой лекции (напечатанной, кажется, в каком-то журнале), но попробовал было заступиться за цифры, допуская, что в массе гибнущих есть и «жертвы органических предрасположений», ослабляющих устойчивость в жизненной борьбе. Этот контингент может влиять на средний вывод, не устраняя вопроса о влиянии социального неустройства в огромном большинстве остальных случаев. Весь вопрос – в перспективе и выделении факторов общественных от чисто антропологических.