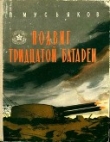Текст книги "Константиновский равелин"
Автор книги: Виталий Шевченко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц)
Работа пошла веселее. У многих на губах еще витала непогашенная улыбка. Сам Колкин с такой силой вгонял лом в ухающую землю, что казалось, вот-вот он согнется, как прутик, в его граблеобразных руках. Несколько минут работали молча, только слышался звон инструментов да тяжелое дыхание людей. Затем Гусев вновь нарушил молчание:
– Мне вот что, ребята, не ясно: неужели будем стоять, если он на нас всей армией двинет! Разве удержимся?
Все это было сказано беспечным тоном, но в интонации голоса чувствовался тщательно скрываемый испуг. Никто ему не ответил, хотя по лицам было видно, что Гусев со своими мыслями не одинок. Поняв это, Зимский с силой воткнул лом в землю и раздраженно сказал:
– Слушай, Гусев! Ну и надоел же ты со своим нытьем! Ты слышал, что говорил час назад капитан третьего ранга?
– Ну, слыхал! – вызывающе ответил тот, также воткнув свой лом в землю. – Дальше что?
– Что, что! – передразнил его Зимский. – Значит, плохо слушал, если спрашиваешь! Так вот я тебе напомню – была команда «Стоять насмерть!», а это значит, что не твое, дело рассуждать, сколько «он» и чего на нас двинет – армию или две! Начальство знает, что делает – ему виднее!
– Во, во! – подхватил Гусев. – «Начальство знает», «ему виднее», а другую голову мне даст начальство, если ее немцы освободят от шеи?
Он покраснел и сжал кулаки. Было видно, что, распалившись, он сейчас выкладывает самое затаенное, самое сокровенное, что долго и мучительно скрывал в душе. В его глазах все уже было обречено. И незачем, значит, держаться за этот поганенькнй клочок земли, незачем зря отдавать молодые жизни. Зачем? Для кого? Хватит агитации! Может быть, еше прикажут бросаться с гранатами под танки? Нет уж! Для этого существуют противотанковые пушки. Л если нет их в равелине – не его дело! «Начальству виднее!» Ну вот, пусть и думает это начальство, как их достать!
Он все еще ждал ответа, вызывающе глядя по сторонам, спрашивая взглядом: «Ну, кто может возразить?». И тогда к нему медленно подошел сутулый Костенко и, будто выдавливая каждое слово, тихо сказал:
– Не о голове думай, хлопче, Родину спасать надо! Поймешь сердцем это – сам не захочешь отсюда уходить!
Все это было сказано так просто и убедительно, что Гусев не нашелся, что ответить. Он псе еще сжимал кулаки, по пыл пропадал на глазах, было трудно, просто невозможно, что-либо противопоставить уничтожающей логике Костенко. Это почувствовали все, и. выражая общее настроение, раздался чей-то хрнповатый бас:
– Хватит, хлопцы, болтать! Давайте-ка, пока не поздно, выроем, что туг нам положено!
Вновь раздались учащенные удары в землю,– но те-перь они были настойчивее и дружнее. Плюнув на руки п лихо сбив на затылок бескозырку, взялся за лом и Гусев. Костенко задел его за живое. Взмахи его рук стали энергичнее и ожесточеннее, но всякий раз. когда лом, наскочив на камень и жалобно звякнув, скользил
35
з
в сторону, Гусев тихо, ио злобно сквернословил, вкладывая в очередной удар всю горечь па севастопольскую землю, на судьбу и самого себя.
Нарастаюишп, вибрирующий гул в небе заставил всех поднять головы. Около десятка «юнкерсов» сомкнутым строем шли по направлению к равелину. Люди продолжали работать – уже привыкли не обращать внимания на вражеские самолеты, только Колкни, хмуро глядя из-под бровей 19а сверкающие машины с черными крестами, произнес:
– Опять, сволочи, летят калечить город!
– Там уже калечить нечего! – возразил ему кго-то из толпы, и в тот же миг головная машина, перевернувшись через крыло, словно подстреленная утка, с воем ринулась вниз. Зимский видел, как от нес отделилось несколько блеснувших в солнечных лучах шариков, и крикнул не своим, ломающимся голосом:
– Бомбы! Ложись!
Подхлестнутые его выкриком, краснофлотцы бросились на землю, вдавливаясь, вжимаясь в неглубокие, отрытые ими окопы.
Первые разрывы прозвучали оглушительно, резко. С певучим треском, будто раздирали коленкор, распороли воздух осколки. Взлетели кверху камни и земля. Тучи грязно-бурой пыли и черного дыма поднялись над равелином. Затем бомбы стали рваться по две, по три сразу, так часто, что между разрывами почти не было пауз. Но звук больше не воспринимался барабанными перепонками. Казалось, что уши забиты плотной ватой, и только в голове стоял пронзительный звон. Самолеты работали с холодной методичностью, четко и последовательно, как на учении, опорожняясь от бомб. Им никто не мешал – соседние зенитные батареи уже два дня не имели ни одного снаряда.
• Столб дыма н пыля над равелином рос, ширился, клубился, как дорогой каракуль, поднимаясь все выше и выше в небо. И вот уже солнце едва просвечивало сквозь него, превратившись в бледно-желтое пятно, размытое по краям, а самолеты все еще не прекращали бомбежки. Только сбросив около шестидесяти бомб я построчив на прощание из пулеметов, они все тем же четким строем ушли в сторону инкерманских холмов.
Медленно, будто нехотя, оседала взметенная бомбами пыль, н также медленно отходили после бомбежки люди.
Вначале осторожно приподнимали головы, еще не веря внезапно наступившей тишине, затем, ощутив на себе набросанную взрывами землю, отряхивались, широко и восторженно раскрывали глаза, изумленно переживая возможность вновь видеть, чувствовать, ощущать.
И когда Зимский так же осторожно приподнял голову н медленно, поочередно, открыл оба глаза, мир перед ним предстал таким прекрасным и желанным, каким он его не знал еще никогда. Он несколько секунд глубоко и блаженно вдыхал перегретый, обжига юти и воздух, пока до его сознания не дошло, что он слышит чей-то протяжный стон. Быстро вскочив на ноги, он бросился в ту сторону и увидел лежащего на синие залитого кровыо и разметавшего руки Костенко. Поспешно приложив ухо к его груди, он услышал частые, захлебывающиеся удары сердца и какой-то булькающий хрип. Зимский попытался приподнять раненого, но безвольное, обмякшее тело Костенко оказалось слишком тяжелым. С отчаянием смотря по сторонам, Зимский закричал:
– Эй! Сюда! Па помощь!
К нему подбежало несколько человек. Костенко взяли на руки, быстро понесли в лазарет. Впереди н сзади них несли еще несколько раненых. Остальные, окончательно оправившись, вновь приступили к работе.
В лазарете военфельдшер Усов молча и быстро сортировал раненых. Ему помогала медсестра Ланская, слегка бледная от волнения. Она понимала Усова с одного взгляда, и, если бы не бледность лица да немного дрожавшие руки, можно было бы подумать, что она занимается обыкновенным будничным делом. Увидев перепачканного кровыо Знмского, она побледнела еще больше и сделала шаг к нему, стараясь рассмотреть, куда его ранило. Поняв ее движение, Зимский поспешно проговорил:
– Это не меня... это я... его кровыо... Вот, окажите
помощь.
Усов молча кивнул на кушетку, и на нее осторожно положили Костенко. И пока доктор, склонившись над раненым, решал, жить ему или не жить, Зимский быстро
шепнул:
– Испугались, Лариса Петровна? Страшно было?
Она зажмурила глаза и улыбнулась мимолетной нервной улыбкой, которая больше слов говорила, что ей действительно было страшно, а теперь все прошло, н она совершенно успокоилась.
– Ничего! – проговорил Знмскнй, ободряя и ее и самого себя. – Привыкнем!
Она кивнула ему головой и поспешила на окрик Усова.
– Камфору!
Знмскнй и остальные на цыпочках вышли из лазарета.
В 19.00 Евсеев выслушал доклады командиров секторов обороны. Сделано было еще очень мало, а сегодняшний налет говорил о том, что немцы понимают, какую роль может сыграть в дальнейшем равелин, и, конечно, впредь будут мешать оборонительным работам. Неутешительными были и последствия бомбежки: шестеро раненых, завалена камнями часть продовольствия, разрушен камбуз и повреждены стены восточной стороны. Но чем больше становилось трудностей, чем чаше обрушивались на голову неудачи, тем крепче, неукротимее становилась воля командира равелина. Так бывает с поковкой, которая становится тем прочнее, чем больше примет на себя ударов. Теперь Евсеев думал только о том. как лучше, надежнее и на более долгий срок защитить равелин. С неистощимой энергией весь день он ходил по местам оборонных работ, показывал, приказывал, ободрял и ругал, сам, ползком на животе,исследовал всевозможные подступы к равелину и в наиболее уязвимых местах распорядился поставить по два пулемета, набросал план постановки мин и среди всего этого не забыл приказать коку сделать запасы воды и напомнил Усову о заготовке бинтов и медикаментов. Он появлялся то гут, то там, решительный, кипучий, энергичный (таким его редко видели раньше), и заражал всех и своей энергией, н своей верой в успех. И только к вечеру, когда он наконец добрался до сяоего кабинета и отпустил после доклада Остроглазова. Юрезанского и Булаева, он вдруг почувствовал, как гудят одеревеневшие ноги и, будто после побоев, ломит все тело. Он откинулся на спинку стула, расслабив мышцы и полузакрыв глаза. Ничто не
нарушало тишины кабинета, пронизанного лучами заходящего солнца.
Лишь с другого берега бухты доносился приглушенный. уже приевшийся грохот бомбежки. В предвечернем воздухе стояла сковывающая духота. Одинокие чайки пролетали с широко раскрытыми клювами, тяжело и нехотя махая натруженными крыльями, казалось, природа замерла, зловеще притаилась и звуки далекой артиллерийской канонады и близкие разрывы фугасок вязли в плотной, словно вата, атмосфере.
Евсеев почувствовал, как постепенно, начиная с висков. медленно начала растекаться по голове тяжелая, пульсирующая боль. Он расстегнул китель и помочил виски водой из стакана. Мо это не помогло. Боль нарастала, ломила в надглазницах, словно в фокусе, собиралась в одной точке на затылке; Евсеев несколько раз прошелся но комнате, скрипнул зубами, прилег на кушетку. Старался смотреть не мигая, но глаза не выдерживали напряжения, закрывались сами собой. Наконец, не созладав со сном, он смежил веки. Будто обрадовавшись, перед глазами заплясал с калейдоскопической быстротой вихрь видений... Все они были не связаны между собою и больше походили на бред, но постепенно, все вытеснив, осталась Ирина с мокрыми волосами, колечками прилипшими на висках и на лбу. Она нежно улыбалась. и Евсеев слышал, как шелестят дождевые струн, как рокочет вдали молодой весенний гром п как она говорит ему что-то ласковое и тихое, не сказанное тогда, отчего з душе разливается щемящая, давно не испытываемая грусть. Утихает, кончается головная боль. Ирина тихо подходит и кладет холодную влажную руку ему на лоб. Это прикосновение так явственно, что Евсеев вздрагивает и открывает глаза. За окном уже темно, но почти ежеминутно эту плотную синеву прорезают слепящие молнии, выхватывая из темноты частые струн проливного дождя. Рокочет гром, такой желанный и безобидный после железного грохота войны. Словно в фантастической пляске трепешут на окне белые занавески в налетающем с моря упругом прохладном ветре.
Евсеев быстро вскочил и выбежал во двор. Давно забытый мирный шелест дождя успокаивающе действовал на нерзы. Евсеев снял фуражку и подставил волосы под теплые струи, сделал несколько глотков пересохшим
ртом. При вспышках молнии он видел силуэты весело перекликающихся, не прекращающих работу краснофлотцев, и душа наполнялась бодростью.
Жадно впитывала воду перегоревшая на солнце почва, струила целую гамму вызванных к жизни водою запахов. среди которых преобладал запах прибитой дождем пыли и полуистлевшей травы. Вся природа ждала этого дождя, н он лил и лил, не прекращаясь, не ослабевая, лил, стараясь заполнить водою каждую пору и трещину исстрадавшейся земли. И вместе с этим живительным дождем приходила к людям вера, вера в свои силы, вера в силу жизни на земле.
А посреди двора стоял без фуражки промокший до нитки капитан 3 ранга Евсеев и, смахивая с лица кулаком, точно слезы, дождевые капли, горячо шептал:
– Выстоим... обязательно выстоим... До самого конца...
И в ответ его словам лопнул над головою гром, рассыпался по небу тысячами осколков, и покатились они туда, за инкерманские холмы, все перекатываясь и пересыпаясь, пока не замерли далеко-далеко, там, где яростно бросалась на неприступные севастопольские рубежи перешедшая в решительный штурм, доведенная до остервенения железной стойкостью черноморцев армия генерала Маиштейиа.


2. ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА
Война застала Ларису окончившей первый курс Ленинградского медицинского института. Отец ее, капитан первого ранга Ланской, известный балтийский моряк, ушел на фронт в первые же дни. Дома остались мать и бабушка, подвижная, сухонькая старушка, не чаявшая души в единственной внучке.
Мать работала в госпитале врачом, приходила домой поздно, усталая, неузнаваемо изменившаяся в несколько дней, и. наскоро и вяло поев, спешила лечь в постель. Лариса тоже редко бывала дома: то дежурила в райкоме. то с бригадой добровольцев сидела в ожидании зажигалок на крыше. Она ездила на рытье укреплений и вернулась через полмесяца похудевшая, молчаливая и непохожая на себя. На все расспросы бабушки только одни раз, отвечая больше мучавшим ее мыслям, сказала:
– Их самолеты стреляли в нас из пулеметов... Я видела убитых женщин, совсем еще молодых. Зачем они это делают? Разве это война?
Она теперь не умела так безмятежно смеяться, как прежде – губы только иногда растягивались в слабую улыбку, блеклую и мимолетную, как нежданный луч холодного солнца в осенний день. Исчезла детская резвость и непосредственность, движения стали медленны и расчетливы. И вся она казалась собранной, сосредоточенной, не по годам серьезной. Только внешне она осталась прежней – первой институтской красавицей, от которой не знали покоя студенты всех курсов.
Многие пытались завоевать се расположение, но только высокий, близорукий второкурсник Григорий Саринский иногда провожал ее домой, и то больше потому, что не досаждал ей назойливыми ухаживаниями. С ним ей было даже интересно. Он никогда не говорил о любви, но именно это и было хорошо – разговоры о любви ее пугали, заставляли думать о сложных жизненных взаимоотношениях, о которых она еще не умела и не хотела думать.
С Савинским было совсем иначе. Он много читал и много знал, он мог говорить часами на любую тему интересно и увлекательно, и ей нравилось молча идти рядом, молча слушать его и немножечко в душе посмеиваться над его'размашистыми неуклюжими движениями. Волнуясь, он начинал слегка заикаться, и в эти минуты особенно нравился ей.
– По-ослушай, Ллла-рнса! – говорил он. начиная свой излюбленный разговор.– Когда-то, миллиарды лет назад, в теплых водах первичного океана зародились простейшие жпвые клетки, ставшие носителями жизни па земле. Через безобразнейшие уродища – игуанодонов и стегозавров, – через миогозубые пасти ихтиозавров и жесткие перья археоптериксов прошла ее невероятная эволюция, прежде чем в плоском черепе неандертальца возникли мысли, позволившие ему взять в лапы палку н сделать ее орудием труда. Труд создал человека! (Са-вииский не считал нужным упоминать, что до него это сказал Энгельс.) Человек – венец творения природы, высокое совершенство тех простейших клеток, которые когда-то беззаботно барахтались в теплой мутной водице. Материя обрела способность мыслить, и эти мысли ire принесли ей ничего утешительного. Человек узнал, что он не бессмертен! Более того, что ему отпущен чертовски малый отрезок времени на этой земле. У астрономов такой отрезок времени вообще равен нулю, а человеку за это время нужно успеть родиться, вырасти, выучиться, втюбнться, жениться, воспитать детей и сделать что-нибудь для человечества! И заметь, все это при постоянном сознании, что впереди нет ничего, кроме вечного мрака небытия. И в:е же люди суетятся, чего-то добиваются, устраиваются, совершенствуются, стараясь не думать о самом глупейшем законе природы, безжалостно уничтожающем то, что с таким трудом создавалось сотнями
тысячелетни! Могучим инстинкт, именуемым жаждой жизни! Скажи человеку, что он умрет не через полсотни лет, а завтра, сейчас, и похолодеет в груди, и ни за что не захочется расстаться с жизнью, да и не знаю, есть ли на свете такая сила, которая сможет заставить добровольно ее отдать! Ты как думаешь, Лла-рнса? Есть?
Он снимал очки, и его глаза становились неузнаваемыми, блеклыми, смотрящими куда-то в пустоту, а Лариса машинально усмехалась и молчала, не думая о вечных проблемах жизни и смерти, о судьбах человечества и вообще о всех тех философских измышлениях, па которые был так падок Савинскнй. Иногда Лариса задумывалась над своими отношениями с Савннским. Что же у них такое? Любовь? Всей душой она чувствовала, что любовь бывает ие такая. Дружба? Но ведь дружба это когда и дела, и чувства, и мысли, и поступки – все лопатам. А у них? Есть ли у них общие интересы, цели, о которых так хорошо поговорить вдвоем? Все заменяет неиссякаемый фон гаи красноречия Савннского и ее терпеливое молчание...
Одни раз они даже поцеловались, вернее стукнулись носами, и поспешно смущенно распрощались, испугавшись собственной смелости. Неделю после этого они не могли смотреть друг другу в глаза...
Но вот началась война, и Савинскнй, и его «вечные проблемы», и еще сотни других мелких дел, чувств и увлечений отошли на задний план, показались нелепыми и ненужными, ибо сердце и душа были заняты теперь только одним: связать свою жизнь с жизнью Родины и идти вместе с нею на любые, пусть нечеловеческие испытании.
Все личное стало казаться постыдной обузой. Вокруг бурлила, клокотала, ревела река народного горя, и утлая лодчонка личных чувств была давно погребена под ее водоворотами, разбитая о камни первых неудач.
Страна медленно напрягала тяжелые бицепсы натруженных рук. Много позднее им придется распрямиться для стального удара. Пока же по улицам текли людские потоки с преобладанием зеленого, защитного цвета. Во многих колоннах, ухватив призванных мужей за руку, тащились заплаканные женщины, а над головами взле-
тала, отражаясь рикошетом от стен домов, суровая песня:
Вставай, страна огромная.
Вставай на смертный бой...
На другой день после приезда с оборонительных работ «Париса пошла в институт. С осунувшимися, озабоченными лицами ходили преподаватели. Наверху, на третьем этаже, расположились ускоренные курсы по подготовке медсестер. В перерыв выходили молоденькие девушки. совсем подростки, и, не выпуская из рук тетрадей, зубрили азы медицинской науки.
В одном из коридоров Лариса встретила Савинского и своего однокурсника Спирина. Спирин в небрежной позе сидел на подоконнике у раскрытого окна и с иронической усмешкой слушал горячо жестикулировавшего Савинского:
– По-оннмэешь! Война, по-о мнению буржуазных теоретиков, та-акой же необходимый биологический закон, как и за-акон размножения. Люди якобы не могут не истреблять друг друга. Это тот же естественный отбор, в результате которого выживают наиболее сильные и приспособленные к жизни нации. По са-амое интересное...
– Самое интересное в том, что все это бред! – вдруг, внезапно выпрямившись, резко оборвал Спирин. – Пошли они к чертям, твои «буржуазные теоретики», с их «ускорением прогресса» н «очищением человечества от скверны». Да и вообще сейчас не время для болтовни! На фронт нам надо! И как можно скорее. Там некогда будет забивать головы идиотскими теорийками.
– Нет, ты постой, постой! – горячился Савпнскнн. – Вот ты мне все-такн объясни. Почему все так устроено в природе, что для того, чтобы продлить одну жизнь, надо уничтожить другую? Нужно мясо – убиваешь животных! Муже:! хлеб – убиваешь растения, и так везде, куда ни взгляни. Я вчера видел стрекозу. Насекомое! Козявка! А сидит и жует другое насекомое, только крылышки по ветру летят! Вот если все взвесить... – Он не договорил, увидев Ларису, и радостно бросился к ней:
– Лариса! Ты откуда? А мы тут... Я сейчас освобожусь. Пойдем домой вместе?
Перед ее глазами вдруг вновь предстали те несколько убитых женщин. Пет! Она не могла тогда даже плакать.
Эти смерти потрясли ее. Раз у человека так легко отнять жизнь, то зачем тогда о чем-то думать, мечтать, надеяться?
«...Воина такой же необходимый биологический закон, как и закон размножения», – прозвучал где-то внутри ее менторский голос Савинского. Это, кажется, только что он говорил, ссылаясь на каких-то теоретиков. Здоровый, сильный парень, а там...
– Ты что же молчишь? – донесся до ее сознания тот же однотонный голос, и она вдруг, будто встрепенувшись, ответила, сама удивившись прозвучавшей в ответе неприязни:
– Нет... Извини... Мне надо одной, и как можно скорее!
Она шла. почти бежала по улицам и не могла отделаться от чувства какой-то неудовлетворенности, от гнетущих мыслей о своей никчемности. Немного успокоилась только на Литейном мосту, подставив голову всегда влажному, несущему невнятный запах Балтики невскому ветру. Как она любила это место в Ленинграде! Здесь, как нигде, чувствовалась широта, гигантский размах города. Не ощущалась тяжесть массивных мостов: они, изящно выгнутые, казалось, взлетали над широчайшими водами Непы. Отдаленные расстоянием, выровненные по линейке гранитной набережной, приземистыми параллелепипедами тянулись дома противоположного берега. Где-то вдалеке среди них угадывался великолепный Зимний! Правее, в молчаливом эскорте ростральных колонн, белела дорическая колоннада Военно-морского музея, п дальше, там, за памятником Петру, за мостом лейтенанта Шмидта, в дымном воздухе промышленных окраин смутно маячили стрелки портовых кранов.
Да! Ленинград остался прежним – большим, гордым, мужественным. Но почему же точит грудь какой-то червь? Чем вызвано это неверное, похожее на болезнь, состояние?
Постепенно Лариса начинает понимать, что оно пришло не сразу. Закрашенный серой краской, всегда сиявший купол Исаакия. снятые и спущенные под воду Фонтанки клодтовские кони с Аничкова моста, заваленные мешками с песком витрины магазинов, надсадные звуки воздушных тревог и люди, изменившиеся, с плотно сжатыми губами, военные, ополченцы, гражданские,– все это
делало Ленинград, при всей схожести с прежним, каким-то другим, тревожным и пока непонятным, может быть, потому, что не найдено было еще в этой новой, изменившейся жизни свое настоящее место.
И дома не было успокоения. Суетилась, стараясь угодить, бабушка. Ненужными лежали на столе раскрытые учебники. На 29 нюня остановился стенной календарь. Предметы теряли свой привычный смысл. Теряла смысл прежняя жизнь. Л новая требовала самоотречения, не вмешалась в четыре стены и поэтому пугала, делала Ларису маленькой и потерявшейся, мучительно выбирающей между самосохранением и совестью и изнемогающей в борьбе с самой собой.
Сколько Лариса передумала в ночные часы, сидя не раздеваясь у окна. Призывно, маняще, по-довоениому тлели над Невою белые ночи. Подолгу догорали за Петропавловской крепостью, искорками залетая на высокие облака, однотонные янтарные зори. Плоский ангел на шпиле крепости казался вырезанным из картона и закрашенным черной краской. Повернутый последним ветром, он тупо смотрел па запад, туда, где угадывался за многими километрами еше не тронутой войной земли смутный орудийный гул.
Постепенно зрело решение, оше не ясное и не оформившееся, казавшееся порой детской выдумкой. Как можно было бросить дом, институт, товарищей, и что ее ожидало там... И это «там* представлялось таинственным. далеким и пугающим...
Все решилось внезапно – штаб Балтийского флота сообщил официальным уведомлением, что подлодка капитана 1 ранга Ланского в течение месяца не вернулась из. боевого похода и считается пропавшей без вести. Стандартный листок бумаги выбил семью Ланских из колеи: мать ходила с опухшими, заплаканными глазами, бабушка вдруг в один день стала жалкой и старой, била на каждом шагу посуду п лежала с мокрым полотенцем на голове, Лариса окончательно замкнулась в себе и к вечеру ушла из дома.
На другой день она уже тряслась в военном эшелоне, мучась над сочинением оправдательного письма домой. Временами ей казалось, что все это она делает в шутку, что вот на очередной станции она выйдет из вагона и Еериется к встревоженной матери и обезумевшей от горя
бабушке. Но мелькали столбы и километры, девушки, такие же, как и она, пели в вагонах песни, н теперь уже ничего нельзя было изменить. Проплыло мимо Кол пи но– отсюда Лариса один раз возвращалась в Ленинград пешком; потом позади осталась Малая Вишера – это уже было далеко, а поезд шел все дальше и дальше, и успокаивающе мерно отбивали колеса: «Не го-рюи, не го-рюй, не го-рюн, не го-рюй!»
А ночью, когда от дружного храпа колебалось тоненькое пламя огарка, Лариса решительно дописала последние строки письма:
«...Я знаю, что поступила правильно, и вы меня поймете и простите. Иного пути у меня не было – я больше не могла так жить. Не сердитесь, что я все сделала тайно и самовольно, так будет меньше ненужных слез. Мои дорогие, бабушка и мама! Я вас очень, очень люблю! Ваша Лариса».
Паровоз простуженно крикнул в темноту, затормозил ход. Вагоны толкнулись друг о друга, затрезвонили буферами. От резкого толчка задергалось пламя и вдруг погасло, оставив дотлевать красную точку на копие фитиля. Кто-то пробежал вдоль эшелона. Раздался звонкий, привыкший к командам голос:
– Вы-хо-о-дни-м!
Разоспавшиеся девушки, по-детски поеживаясь и протирая глаза кулаками, стали прыгать на станционный песок.
Это был один из вокзалов затемненной, спящей Москвы.
Трудными оказались первые дни военной службы. Там же, на вокзале, девушек разбили на три группы. Две из них увели куда-то в ночной мрак перетянутые накрест ремнями военные представители. Третья, в которой оказалась Лариса, стояла беспорядочной толпой, ничем не напоминающей строй, в ожидании своего провожатого. Он вынырнул из темноты внезапно, огромный, неестественно широкоплечий флотский старшина, и моментально покрыл приглушенную девичью скороговорку густым, как нижняя октава геликона, басом:
– Стоп травить, девчата! Становись в колонну по четыре. Начинается флотская служба!
И, подстегнутая этим окриком, Лариса только теперь ощутила, что в:е прошлое точно отрезано ножом. Слово
«служба» вмиг отобрало у нее капризы, наклонности, привычки. Она становилась в ряд, в котором каждый похож на другого, в котором властвует суровое слово «приказ», в котором нельзя идти «не в ногу» ни в прямом, ни в переносном смысле.
И уже утром возвещенное старшиною «начало флотской службы» не замедлило вступить в свои права.
Оно началось на безрадостном, покрытом корявым булыжником дворе флотского экипажа. Шел предосенний, сеющий дождь, и от этого каждый камень отливал скользким мутноватым глянцем. Девушки, уже переодетые в топырящуюся форму, стояли двумя шеренгами, собранные на первые строевые занятия. Лариса с усмешкой думала, что дома мама, пожалуй, ужаснулась бы, увидев дочь почти раздетой под таким дождем. Л здесь никто не обращал на это внимания. Существовал «распорядок дня». В одной из его граф стояло «9-00—11-30– строевые занятия», и никакой дождь нс мог отменить «запланированное мероприятие».
И вот – первый в жизни военный наставник. Рябоватый, низкорослый старшина 2-й статьи, с ускользающим, вороватым взглядом и широким, будто он со всего размаха стукнулся о что-то твердое, носом.
Такие люди, трусоватые и недалекие, получив над другими власть, стараются испить ее до капли, доводя до исступления своей придирчивостью и тяжелым, доморощенным «остроумием». По нельзя ни возражать, ни протестовать, и притихшие девушки слушают самодовольный скрипучий голос:
– Что есть строй? Строй есть святое место! Это как надо понимать? (Пауза, медленный подпрыгивающий шаг вдоль всего фронта и быстрый, шныряющий взгляд, не выдерживающий встречного взгляда.) – Л вот как! Никто без спросу нс может стать в строй или выйти из строю! Л как стал—замри! Ни разговоров, пи шевелений – ни, ни, ни! Л как надо стоять? Вот вы, к примеру, барышня (жест на Ларису), стоите, сугубо извиняюсь, как корова на льду! (Негодующее шиканье и тихий смех.) Но, но! Разговорчики! А стоять надо—пятки вместе, носки врозь, ручки по швам, головку повыше – вот таким манером! – на какой-то миг он принимает строгую военную позу, отчего становится лихим и молодцеватым. – Ясно? (Осанка вновь потеряна. Тот же раздражающий,
прыгающий шаг.) А теперь мы займемся поворотиками – направо, налево и кругом. Что нужно, чтобы сделать поворот? Ясно! Подать команду. Сперва предварительно, скажем к примеру: – На ле-ё-е-е!.. Тут только слушай, делать не ладо. А как сказал – гоп! Тут только делай – слушать кончай. Ясно? Ну-ка, спробуем. – Он вдруг на-прягся, даже стал выше, и совсем другим, звенящим голосом оглушительно скомандовал:
– Ррр-о-о-ота! Слушай мою команду! Сми-нррр-но! На лс-е-е-гоп!!
Намокшие рабочие ботинки девушек издали оскорбляющий слух военного человека нечеткий дробный звук. Строй кое-как повернулся.
– Горох! – резюмировал старшннз. – Будем по разделениям. По одному. Вот вы, с правого фланга. Три шага вперед, шаго-о-ом арш! Кру-уу-гоп! Приступим к учению!
И пока не дошла очередь до Ларисы, она вместе со всеми сдержанно посмеивалась над неуверенными, неуклюжими движениями девушек. Она не думала, что через несколько минут так обидно и неудачно начнется ее «военная карьера». Изучив с места ошибки подруг, она четко и уверенно сделала три шага вперед, но с последним шагом, попав ногой на круглый скользкий камень, оступилась и. потеряв равновесие, шагнула двумя мелкими шажками в сторону, взмахнув при этом руками. Оценка такому «выходу из строя» последовать не замедлила:
– Та-ак! – протянул ехидно старшина. – Краковяк из оперы «Иван Сусанин», музыка М. И. Глинки. Ну-ка, а теперь – поворотик! Кру-у-у-у-гоп!
«Поворотик» оказался не более удачным, чем выход из строя. В шеренге тихонько похихикивали. Лариса покусывала губы, мучительно краснея до корней волос. Старшина с коварством паука, поймавшего в паутину муху, не торопился «покончить» со своей «жертвой».
– Ножку! Ножку поднимайте повыше!—осклабился он, вкладывая в слова явно непристойный смысл. – Вот так! Не стесняйтесь! Флотская служба стеснительных не любит.
И когда через полчаса мучений Лариса поняла, что чем дальше, тем у нее будет получаться все хуже и хуже, так как думала лишь над тем, что стала всеобщим
4 В. Шсьчснко
49
посмешищем, старшина, наконец, смилостивился и сказал:
– Ну, стоп! Ваша фамилия – Ланская? Вот что, Ланская! После роспуска строя останетесь здесь. Будем заниматься отдельно!
С этого дня занятия «отдельно» превратились в систему. После того, как остальные девушки с веселым щебетом разбегались, отпущенные старшиной. Лариса оставалась на месте, молча и стойко перенося придирки, кусая от стыла и уязвленного самолюбия губы. Циничные поучения старшины доводили ее до бешенства, до исступления, и от этого она путала команды, поворачивалась неуверенно, теряя равновесие, давая тем самым пишу новым проповедям и остротам. Сознание того, что такая красивая девушка находится в его власти, полностью подчинена ему, поднимало старшину на голову в собственных глазах, доставляло ему необъяснимое, жгучее удовлетворение. Раскачиваемой на ржавых петлях дверью скрипел монотонный голос: