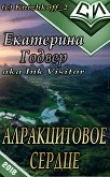Текст книги "Алракцитовое сердце (СИ)"
Автор книги: Visitor Ink
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 36 страниц)
Хочешь – бери палки и устраивай поединки, будто замковая стража; хочешь – выкладывай из камней узоры и бегай вокруг них, распевая шутовские частушки так же заунывно и протяжно, как священник; хочешь – карабкайся по скале, представляя себя героем-путешественником или кем еще. Одним словом – что хочешь, то и делай!
Годы были сытые, так что детям считалось позволительным время от времени пошататься без работы: взрослые смотрели на эти забавы, обыкновенно не заканчивавшиеся ничем дурным, сквозь пальцы: трясло Сердце-гору редко и слабо. Деян вместе с приятелями частенько бывал у скалы, излазил ее вдоль и поперек, был не первым, кто угодил на ней в тряску, и даже не первым, кто при этом сорвался, – но тем единственным, кому упавший следом огромный камень раздробил лодыжку.
"Хорошо, не голову", – говорил Деян по этому поводу, хотя внутри себя порой сомневался: так ли уж это хорошо.
Товарищи по игре – Халек Сторгич, Кенек и Барм Пабалы – как-то сумели высвободить ногу и дотащить Деяна до Орыжи прежде, чем тот истек кровью, но на то ушла последняя толика его удачи.
В Медвежьем Спокоище не было настоящего лекаря. Штопала тонкой нитью раны, помогала в родах и делала лечебные настои от лихорадки и поноса чудаковатая старуха-знахарка, которую все звали Вильмой за бормотание, каким старуха встречала всякого нового больного: "Вильмо, худо это, худо, но даст Господь, жить будешь, старуху переживешь..." Ее настоящего имени никто уже не помнил, даже она сама: лет ей перевалило далеко за сотню. Но хороших помощниц у нее не было – одни, как она звала их ласково, "бестолковки". До самой смерти Вильма продолжала лечить сама, и жизнь Деяну спасла: он не истек кровью и не умер от боли или нагноения. Однако правую ступню пришлось отнять. Отнимал ее Киан-Лесоруб, который больше спорил со слабой глазами и памятью старухой, чем пытался разобраться в ее путаных указаниях. Деян видел сквозь розовую пелену боли и запомнил на всю жизнь, как Киан, возвышаясь над столом, брезгливо взял двумя пальцами предложенную старухой тонкую пилу, повертел перед глазами и отложил в сторону.
"Этим? Да этим ты только кожу поцарапаешь, дуреха старая", – веско сказал он и снял с пояса привычный тяжелый топор: лезвие в полумраке показалось почему-то черным...
Очнулся Деян уже без ступни.
Кенек и Барм, подглядывавшие в окно, рассказывали, что знахарка еще что-то делала в тот день с ним, что-то колдовское: рисовала своей кровью на лбу, жгла травы и бормотала молитвы, – только поэтому он и выжил. Так это или не так, Деян не знал, да и не считал важным.
Старухина пила – он много раз разглядывал ее потом – и впрямь ни на что путное с виду не годилась. Но и Киан, как оказалось, сделал все сикось-накось, не так, как надо было, чтоб в будущем крепить протез, и не так, чтоб рана могла быстро зажить. Снадобья старухи Вильмы, которыми та выпаивала едва живого мальчишку – "от лихорадки", "для крови", "от боли", – сколько лечили, столько и калечили, отравляя нутро.
В родительском доме в то время долго и тяжело, мучаясь коликами в боку и судорожными припадками, отходил дед, потому нуждавшийся в покое и постоянном присмотре Деян провел в домишке знахарки без малого полгода. "Ох, вильмо худо это, вильмо худо, но не поделаешь ничего, – бормотала Вильма, меняя ему повязки. – Значит, судьба твоя такая, малой, может, и к лучшему оно, раз уж так вышло...".
За глаза ребятня называла Вильму сумасшедшей, и не без причины: под конец невозможно долгой жизни знахарка и впрямь повредилась рассудком. Разговаривала сама с собой, могла на своих немощных ногах вдруг пуститься в пляс посреди улицы или запеть надсадным старческим голосом. Иногда не узнавала соседей, постоянно путала имена... Она была, без сомнения, сумасшедшей – но доброй старухой. Помогала всем, чем могла, лечила и утешала, ни на кого не держала зла. Деян незаметно для себя привязался к ней. Когда он не мог уснуть от болей, она рассказывала ему чудные и путаные, совсем не похожие на те, что знала мать, сказки – про говорящих зверей и огнедышащих змеев, доблестных воинов, древних королей и колдунов...
– V -
– Великие были мастера: не чета нынешним неумехам, – напуская на себя вид торжественный и таинственный, шептала Вильма. – А если и дожил кто из них до наших дней, тот уже не в силе: уходит со временем сила, из человека уходит, из самой земли уходит. Иное дело раньше, малой, совсем иное: великие дела творились!
Она до слез обижалась, когда замечала, что Деян ей не верит, – но всякий раз, утерев глаза, принималась за новую историю.
– Вильмо, худо тебе, малой, но судьба твоя такая, раз сам Хозяин Камня, господин наш и хранитель, так рассудил... Думаешь – небось, совсем старая из ума выжила, раз камень неразумный господином зовет? – непритворно возмущалась Вильма, не помня того, что рассказывала эту историю уже десятки раз. – А почему Сердце-гору так кличут? А? Что ж ты, малой! Худо это, вильмо, – живешь тут, а ничегошеньки не знаешь. Короткая у людей нынче память, как зимний день. То ли дело – в былые времена...
Деян не перебивал старуху, хотя помнил историю эту наизусть. Она нравилась ему, но совсем не тем смыслом, какой вкладывала Вильма; страсть к противоречию проснулась в нем еще до увечья и задолго до знакомства с преподобным Терошем Хадемом.
– В былые времена, полтыщи лет назад, а, может, всю тыщу, стоял в нашем лесу замок, и жил в нем чародей великой силы. Настоящий мастер! – С этими словами старуха всегда многозначительно поднимала взгляд к потолку. – Умел он из неживого живое создать, частицей души своей наделив, умел с созданиями своими разумом и обличьем меняться. Потому мало кто знал, какое из обличий его истинно. Но о делах его слава по всему миру шла. Нарекали его люди Хозяином камня, а потом и проще того: Големом. "Голем" – так в старину только людей да животных, силой колдовской сотворенных, чародеи промеж собой называли, а тут и его самого так же величать начали, потому как поди разберись – сам он во плоти перед тобой стоит или кто из созданий его: настолько велико мастерство его было. Сердцем Голем был добр, нравом вспыльчив, но отходчив, землями своими – вот теми самыми, где мы с тобой, малой, теперь живем – правил мудро. Жаловал его милостями государь, любил его простой люд. А особенно – супругу его, госпожу Радмилу, прекрасную, как летний рассвет. Когда она владения объезжала, от одной улыбки ее все хвори да горести проходили; да она и сама чародейкой была, хоть и не такой силы великой, как муж ее, Голем. Век людской – веку чародейскому не ровня: жили они долго и счастливо. Поколение людское сменилось – а им все нипочем: жили, как прежде. Хорошо жили. Но случилась однажды нужда Голему уехать в дальние края. Год его не было, два, а там и десять лет минуло. Стали злые языки трепать, что погиб он за морем и напрасно Радмила ждет. Стали все чаще к ней гости захаживать – кто по любви, в надежде на поцелуй вдовий да ласку, а кто из корысти: богаты тогда были земли эти, пригожи, ухожены. Долго ждала Радмила, но не возвращался Голем. Чувствовала она, как молодость ее уходит, как красота ее гаснет... Измучили ее тоска и одиночество. Не стерпела она, изменила мужу с чародеем-иноземцем, который давно ее благосклонности добивался. Счастья с ним не нашла, раскаялась вскорости в своем поступке, отвадила чародея и дружков-проходимцев, стала одна в замковых стенах бессонные ночи коротать... Но сделанного назад не воротишь. Минул положенный срок – дочь у нее родилась. Еще год пролетел, а за ним еще пять лет. Тогда и случилось то, на что уже не надеялся никто: вернулся Голем из-за моря. Как ни в чем ни бывало на пороге объявился. "Прости, – сказал, – за долгую отлучку: были на то причины, но больше нет тех причин, и впредь не будет". А Радмила в ответ на то – в слезы... Не стала дитя чужое прятать, сама об измене рассказала, упала мужу в ноги. Хоть и был Голем человеком добрым, затмила тогда обида ему разум. "Раз ты, – сказал, – меня мертвым посчитала – ступай, поищи меня среди них!" Впал Голем в страшную ярость. Убил жену неверную и всех в замке, замок до основания разрушил – но и того ему оказалось мало. Обрушил он свой гнев на леса да поля, на давних приближенных и простой люд: почто за глаза похоронили его, господина своего, почто слабую верой жену не образумили? Великим чародеем был Голем, и таких бед наделал, каких прежде люди представить себе не могли. – Старуха вздыхала тяжело и горько. – Но много ли, мало времени прошло, – опомнился он. А сделанного назад не воротишь... Замок можно краше прежнего отстроить, поля засеять, лес сожженный, искореженный сызнова однажды подымется, – но мертвых к жизни не вернешь, не обернешь добром содеянное зло. В ужас пришел Голем от того, что натворил: жалко ему было дома родного и загубленных жизней, жалел он дитя неразумное, в грехе своего зачатия неповинное, жалел землю израненную. Но пуще всего другое его жгло: любил он по-преждему Радмилу, принявшую смерть страшную от его рук. Чернее угля было его горе. Впал Голем в отчаяние. Не мог он больше в мире оставаться, но не мог и смерть объять, не смел показаться на глаза погубленным, не искупив хоть отчасти вины. Обратился он в отчаянии к Господину Великому Судии, пять дней и пять ночей не разгибал спины в молитвах, а к исходу пятой ночи собрал всю свою силу – и вывернул наизнанку, направил ее супротив себя самого. Свершился суд Господень. Обернулся Голем камнем, ни живым, ни мертвым, – скалой, в лесу затерянной. Иногда лишь почувствовать можно, как дрожит камень: то бьется сердце чародейское. Покуда отмеряет оно удары, покуда высится в лесу скала – не придет на эти земли беда, не разорит ее ни враг, ни засуха, ни болезнь. Лишь когда время источит камень, сравняет скалу с землей, – тогда лишь дух чародейский обретет покой, покинет мир через Белые Врата. Такую плату сам себе назначил Голем за те дела, что сотворил, и посчитал Господин Великий Судия ее справедливой. Имя чародея, столько горя в одночасье принесшего, сговорились люди предать забвению, но нарекли ту скалу, в какую обратился чародей, Сердце-горой в память о доброй воле его. С тех пор хранит она наш край. Таков дар чародейский, такова милость Господня...
Старуха Вильма снова вздыхала, осеняла себя амблигоном.
– Сказывала мне эту историю мамка, когда мне столько ж годков было, сколько и тебе, малой, или и того меньше. От себя же вот что тебе скажу, малой, – всегда добавляла старуха в конце, – худо тебе сейчас, вильмо, покалечился ты под горой, но не может быть такого, чтоб хранитель наш, Хозяин камня, сызнова дитю зло причинил. Значит, и для тебя увечье твое – не бедой обернется, а благом, если хватит тебе ума и смелости, если примешь судьбу свою, не отворотишь от нее лица... Слушаешь меня, малой? – едва слышным шепотом спрашивала она, надеясь на то, что он не слушает, а давным-давно спит.
Но Деян не спал и не слушал. Он лежал с закрытыми глазами и под монотонное бормотание старухи представлял, как все могло быть на самом деле, перекраивал сказку на свой лад. Голем чудился ему исполином в плаще из человеческой кожи и непременно с огненными глазами, от взгляда которых загорались леса и плавились камни. Могущественным, алчным и жестоким, обиравшим простой люд, сгонявшим с полей на постройку замка и безжалостно каравшим всех, кто смел противиться. Не имевшим души и сердца, за что и прозвали его Големом – ожившей каменной куклой.
"Без счету стерпели люди от него бед, но родился однажды Герой, способный одолеть чародея, – рассказывал сам себе Деян. – Знал чародей, что конец его близок, и разыскивал Героя: погубить того хотел в младенчестве. Но укрыли Героя леса, выкормили дикие звери; дала ему земля свою силу. Одолел Герой чародея, обратил в скалу, – и вздохнули люди свободно. А мучитель с той поры стал способен лишь на то, чтобы камнями греметь и делать мелкие пакости..."
От которых и пострадал один невезучий мальчишка, – так Деяну нравилось думать. Еще больше ему нравилось представлять себя тем самым Героем, одолевшим могучего злого чародея; не пострадавшим по случайности – но раненным в битве...
С такими мыслями Деян засыпал, чтобы наутро проснуться и вспомнить: никакой он не герой, а хнычущий от боли одноногий мальчишка, неспособный даже сходить по нужде без помощи полоумной старухи.
В утренние часы он особенно тяготился своей беспомощностью и потому злился и беспричинно огрызался на Вильму, которая, несмотря на старческую немощь, была в ту пору куда крепче его. Старуха сносила все с сочувственной улыбкой и, по-видимому, тоже привязалась к нему. Худо-бедно научила его грамоте, чтобы он мог помогать ей, почти ослепшей, разбирать старые записки и подписывать ярлычки к бутылкам с настоями. Возможно, однажды научила бы и своему лекарскому ремеслу – если б к началу осени не померла, легко и тихо: задремала после обеда в кресле у окна и больше не проснулась.
– VI -
Хоронили старуху всем селом, но тоже как-то тихо, без слез.
В первые заморозки отмучился дед. Вернулись с сарбажской ярмарки отец с дядькой и старшим братом. Культя зажила, Деян окреп, освоился с костылями. В канун Нового Года на санях ездили всей семьей в Волковку на праздничные моления. Когда престарелый отец Аверим, едва не касаясь пола белоснежной бородой, тянул в жарко натопленном святилище надтреснутым голосом: "...Радостию чаша полнится, десницей Господней согрета..." – и сам сгорбленный священник казался выше, и казалось, все идет на лад...
Хватало занятий по душе и по силам. Деяну, стосковавшемуся за время болезни по приятелям, по всякому проявлению обыденной жизни, много было и не надо. Зимой дурачились в снегу, летом жгли костры на берегу Шептуньи, и в журчании воды слышалось: "сбудется, будет". Это был хороший год.
Все кончилось в один час.
Лишь недавно отметили на численной доске Серединный День зимы, но погода стояла теплая. Мать пряла за столом, Мажел и Нарех ушли к полынье, отец с дядькой, материным братом, во дворе сталкивали с крыши подтаявший снег. Деяну нездоровилось, из-за чего он скучал дома, поглядывая в окно. Вдруг забрехали по всему селу собаки. Закричали от соседей, испуганно и яростно:
– Зарез, мужики! Хищник пожаловал!
Отец с дядькой, как были, без шапок, с лопатами и вилами в руках, бросились со двора на улицу. Деян на костылях выскочил на крыльцо.
– Куда, дурные! Вернитесь! В дом! – Мать выбежала следом. Отец даже не обернулся. Мать так и осталась стоять – простоволосая, бледная, вцепившись в перила.
– Шатун! Только встал, помоги Господь...
Захлебывались лаем собаки, беспорядочно кричали люди: "Гони его! Цельсь! Ату его, ату! Гони! Поберегись!"
По улице шел медведь. С рваной раной на боку, с перемазанной кровью мордой, он шел и шел – одуревший, оглушенный, в кольце наскакивающих на него собак, то припадая к земле, то наступая на них с ревом. Палевый пес, молодой и задиристый, рванулся было к медвежьему горлу, но упал на снег с проломленным черепом; другие больше не решались нападать, только кружили вокруг, рыча и лая.
Медведь был огромен и тощ, свалявшаяся шерсть висела бурыми сосульками, левый глаз затянула мутная белая пленка – и оттого, быть может, взгляд его казался по-человечески разумным. Мужики, кто с чем, крались в отдалении. Отец с дядькой, пройдя задворками, присоединились к ним. Напротив дома Догжонов – совсем близко – медведь остановился, принюхался. Три собаки бросились на него разом. Одна промахнулась, вторую он сбил в броске: рыжая сука кувыркнулась к плетню и, воя, поползла прочь, волоча задние лапы. Старый кобель Киана ударил зверя зубами в бок, повис на шкуре: медведь двинул облезлым плечом, сбросил пса и придавил, распорол когтями брюхо. Остальные псы снова отскочили назад. Медведь принюхался, сел на землю – и вдруг, не обращая больше внимания ни на людей, ни на собак, начал жадно есть, взрыкивая и фыркая, придерживая тушу лапой, носом расшвыривая по снегу еще горячие кишки.
Кое-кто из мужиков попятился.
– Господь всемогущий! Это что ж за бес...
– Эдак этот бес у нас до весны прогостит, – Киан-Лесоруб взглянул из-под густых бровей на медведя, на своего разорванного кобеля и, отвернувшись, сплюнул на снег. – Что делать будем, Беон? Двум смертям не бывать...
Беон Сторгич, такой же, как Киан, взлохмаченный и сердитый, почесал в затылке и послал сына за ружьем. Ситуация казалась подходящей: оружие мощное, зверь близко – не промазать.
Халек Сторгич принес ружье; Киану передали рогатину.
– А на двоих и смерть краше. Подстрахуй. – Беон кивнул Киану и пошел вдоль плетня. Киан покрался тихонько со стороны больного глаза. Медведь заворчал, завертел головой: люди тревожили, но очень уж неохота было отрываться от трапезы...
Беон приблизился еще на два шага и выстрелил ему в морду.
Медведь взревел и отпрыгнул вбок. Заряд был плох или зверь слишком могуч, но выстрел только разъярил и ослепил его, выбив здоровый глаз. Заметались собаки. Киан перехватил рогатину обеими руками и вогнал медведю в шею: тот вздыбился и, заколотив лапами, переломил древко. Острие сдвинулось: кровь забила фонтаном. Медведь стоял и ревел, истекал кровью, драл когтями морду – но никак не падал.
– Не зевай, добивай подранка! – крикнул, непонятно к кому обращаясь, Киан. Никто его не слушал. В последнее драгоценное мгновение, когда еще можно было что-то сделать, люди, замерев, смотрели на побежденного, смертельно раненого зверя и дивились: почему он не падает?
Ослепленный, обезумевший от боли шатун с утробным рыком опустился на четыре лапы и бросился по улице, сметая с пути собак, мимо Киана и Беона – прямо на растерявшихся орыжцев.
Жизни ему было отмерено всего чуть: вскрости Беон покончил с ним, вогнав обломок рогатины во второй глаз. Но за это "чуть" медведь убил троих, одним из которых был дядя Деяна. Отец скончался от ран двумя днями позже.
Потом выяснилось – талый снег у овражьего ручья накренил частокол: там медведь и пробрался. Долго разбирались, не поторопились ли натравить собак, не зря ли Киан с Беоном затеяли напасть и не лучше было бы пугануть огнем; не зря ли остальные стояли без дела, разевая рты...
– Если есть за мной вина – простите, родные. Что теперь? Сделанного назад не воротишь, – подвел черту этим разговорам Беон. Даже выглядел в тот момент он – крепкий, статный, способный выйти против медведя и убить его – точь-в-точь как сумасшедшая Вильма: таким же сгорбленным и старым. Винить его никто не винил, а о перевыборах старосты и слушать не хотели. Мертвых похоронили, и жизнь пошла своим чередом...
Мать пыталась крепиться, но за следующие полгода истаяла как свеча и теплым осенним утром погасла, пролежав перед тем ночь в лихорадке. Провожали ее в последний путь без обряда: в ту же ночь в Волковке скончался престарелый отец-настоятель Аверим.
– VII -
Родители и сумасшедшая Вильма лежали на погосте рядом; потому, бывая у родных, Деян обычно заходил прибраться и на могилу знахарки. Он был благодарен Вильме за доброту и участие, хоть и досадовал на невеликое ее мастерство; кроме всего, сжимала горло какая-то нелепая, детская обида на старуху. Эти чувства легко уживались в его сердце, равно как горечь от потери родных и злость на несчастливую судьбу, тяжелое увечье сплетались с радостным чувством жизни, осознанием того, что он по-прежнему дышит, говорит, ходит – хоть бы и на одной ноге.
"Столько лет ты прожила – неужели не могла еще год-другой обождать помирать? – думал он, неловко опершись на ограду и сгребая костылем листья. – Эх, старая, что ж так! Была бы жива – может, отца бы выходила, мать утешила...".
Почти все хозяйственные тяготы на первых порах легли на плечи старших братьев – но Мажел и Нарех справлялись. Жизнь продолжалась, время шло. За осенью следовала зима, за весной – лето.
Друзья Нареха привезли из города протез, Мажел подогнал ремни и подкладку. Деян кое-как научился ковылять на деревяшке, хотя по-прежнему сподручней было с костылем: очень уж временами кололо и жгло в культе. Беспокоила не только нога и фантомные боли в несуществующей ступне, подводило и подорванное неумелым старухиным лечением здоровье: порой без причины лихорадило, давило в груди, желудок отторгал пищу; к тяжелому труду он оказался неспособен... Иногда, когда с дороги приносили от торговцев шутейные книжицы, он зачитывал на общих сходах или соседских посиделках отрывки из них: к этим чтениям сводилась вся польза от грамоты в Орыжи. Деян плел корзины, починял одежду, силки и сети, стряпал, выполнял домашнюю бабью работу, и самой большой его гордостью было то, что он, десяток раз едва не разрубив себе здоровую ногу, наловчился-таки колоть дрова. Дураков учить его, увечного, сложным и тонким ремеслам не нашлось: учеников без него хватало – сыновей, племяшек, зятьев, – и слабый здоровьем калека везде был не ко двору. "Тебя учить – только силы зря тратить: а ну как завтра совсем захиреешь али помрешь?" – без стеснения сказал старый орыжский шорник; невежливо, зато честно.
Хотя на лицо Деян, как и никто из мужчин-Химжичей, уродом не был, и даже выглядел здоровее, чем был в действительности, увечье означало, кроме прочего, еще и почти неизбежное одиночество: в Спокоище всегда рождалось больше мужчин, чем женщин. Деян, понимая это, и сам на девиц не заглядывался.
Потом в Спокоище появился преподобный Терош Хадем: стало чуть веселее.
Как-то раз, крепко перебрав, священник дал волю любопытству и задал вопрос, беспокоивший его, должно быть, с самого знакомства:
– Скажи-ка честно, Деян. Вот ты просишь меня о городах и приятелях моих прежних рассказывать, о "большом мире", как вы его тут зовете, – просишь и просишь. Ну мне-то ладно: почему б не рассказать, раз просишь? Но какая тебе охота слушать – не пойму. Ты ведь... – Преподобный Терош скосил глаза под стол, зарделся, поняв, что разговор выходит бестактный. Но остановиться уже не мог. – Ты же, безбожник, в чудеса Господни не веришь, знаешь, что самому тебе ничего этого в жизни не видать. Только душу зазря тревожишь, раззадориваешь. Но просишь каждый раз. И почему? Это ж все равно, что... – он в последний момент прикусил язык, смутился окончательно и замолк.
Мажел взглянул на священника неодобрительно, а Нарех рассмеялся в густые усы:
– Все равно, что безногому на танцы ходить? Так он, бывает, и ходит.
Преподобный Терош поперхнулся хреновухой.
– Не смущай гостя, брат, – поспешил вмешаться Деян. – Ну, так оно все, и что такого? У меня ступни нет, а не глаз и ушей... Почему б не посмотреть и не послушать?
– Ну, и то верно: почему бы и нет, – со вздохом сказал священник, посчитав, видно, что Деян смысла его слов не уловил.
Но Деян вопрос понял: намеренно уклонился от ответа. Не знал, как объяснить и стоит ли.
Мысль о том, что он сам, братья, Орыжь, их глухой край – часть чего-то неизмеримо большего, удивительного и многообразного, заставляла ярче переживать всю горечь положения слабого здоровьем калеки: это священник подметил верно. Но вместе с тем она доставляла странное, необъяснимое наслаждение, как и картины чужого благополучия. Порой он завидовал, завидовал страшно, по-черному, в чем, конечно, стыдился признаться. Но легче было б признаться в этой зависти или даже потерять вторую ногу, чем отказаться от того, чтобы наблюдать, как жизнь – в ста шагах, в ста верстах – течет, точит камень...
Господин Фил Вуковский в "Науке о суждениях и рассуждениях" настаивал, что верное рассуждение – обязательно непротиворечиво, потому Деян подозревал в мыслях и чувствах своих какую-то ошибку, однако найти ее не мог и поделать сам с собой ничего не мог: так уж думалось и чувствовалось.
"Младший пострел умом не берет – зато силы невпроворот. Мал нахал, да удал", – добродушно посмеивался отец много лет назад, когда Деяну, тогда еще здоровому и крепкому мальчишке, случалось совершить какую-нибудь дурную проделку: в отличие от Нареха он всегда попадался. Деяну шутка обидной не казалась. Напротив, отрадно было думать, что мозгами ворочать и осторожничать предстоит старшим, а ему в жизни достанется что поинтереснее: но вышло все шиворот-навыворот. После увечья удаль и сила стали для Деяна чем-то вроде чародеев мы и парусных лодок на большой воде из сказок сумасшедшей Вильмы: настолько далеким, что и нереальным вовсе. Из всех случившихся несчастий иногда самым горьким казалось то, что отец умер, так и не придя в сознание, не сказав ни слова, не дав никакого напутствия...
Наставления преподобного Тероша и других доброхотов на душу не ложились, а братья не лезли, – за что Деян был им весьма благодарен.
Своим не предписанным пословицей умом он со временем дошел до мысли, что проку нет ни в сожалениях, ни в мечтах, ни в сказках, ни в чужой мудрости. Тягу к задушевным разговорам потерял, предпочитая наблюдать и слушать. Иногда с горькой улыбкой вспоминал бормотание сумасшедшей Вильмы: как можно "принять" или "не принять" судьбу, если твоя судьба и есть то, что есть ты и твоя жизнь?
За прошедшую со дня происшествия на Сердце-горе дюжину лет Деян Химжич превратился из мечтательного и проказливого мальчишки в угрюмого молодого мужчину себе на уме; свой тяжелый нрав он вполне осознавал, но нисколько его не стеснялся.
Переменилось многое.
Старые приятели, товарищи по играм, жили кто как: одни перессорились или позабыли друг друга и только здоровались мимоходом, другие – нет-нет да и поминали старое, поддерживали дружбу. В жизни хватало всякого, и дурного, и хорошего, и нелепого – как поездка с братьями в волковскую "ресторацию", которая завершилась лихой попойкой и ночью в стогу с рябой болтливой девкой, известной на все Спокоище любительницей гульнуть, пока муж в той же "ресторации" упивается до беспамятства. Огорчать Нареха объяснением, что не стоило брать на себя труд это все подстраивать, Деян не стал, но впредь к его затеям решил относиться с осторожностью. Рябой болтушке Деян был благодарен, и спаться с тех пор стало чуть спокойнее, однако от воспоминаний о волковском загуле делалось муторно на душе и отчего-то хотелось умыться ледяной, прозрачно-чистой колодезной водой: вылить на себя сразу целое ведро.
Случались и большие урожаи, и голодные годы, и засухи, и паводки, и похороны, и свадьбы...
А потом настала весна, в которую пришли королевские вербовщики.
Мажел и Нарех к речам капитана отнеслись без большого доверия, но с интересом, и от закона уклоняться не стали.
– VIII -
Прощались плохо, суматошно, с недомолвками.
Братья, по-видимому, чувствовали неловкость за то, что уходят, и уходят не без охоты. Деян вслух желал им удачи, а в душе клял себя последними словами за то, что не пытается отговаривать. Если в рассказах преподобного Тероша о военном деле и устройстве королевского войска была хоть толика правды, то, раз вербовщики под осень явились в глушь за новобранцами, – война складывалась для короля чрезвычайно плохо; это было яснее ясного. Но как бы прозвучали те отговоры? Увечный братец просит остаться обихаживать его вопреки королевскому указу? Смех да стыд!
Будь у Мажела и Нареха свои семьи – может, и сами бы задумались, не лучше ли схитрить и поостеречься; но оба все еще жили холостяками, как подозревал Деян – в том числе и из-за него тоже: бедность и обуза на шее делали их, с точки зрения практичных сельчан, не самыми завидными женихами. Жили старшие братья Химжичи жизнью непростой и скучной, не по душе и не по способностям... Рискованная служба была первой – и, вероятно, последней – возможностью для них оторваться от дома, поглядеть на большой мир, попробовать себя в непривычном деле, не погрешив против совести. Вряд ли бы они вняли его предостережениям, а если б вняли – то кем бы выглядели перед людьми: няньками при увечном брате, трусами? Уходили и женатые, и детные, Халек Сторгич оставлял жену на сносях – хотя капитан, тронутый ее слезами, сам предложил списать его в негодные; но Халек сказал: "Нет". Даже за себя Деян не был уверен, что, будь он на то способен, не наплевал бы на здравый смысл и не пошел бы записываться: слишком уж неприятно было – как всегда – оставаться не у дел, отставать от остальных...
Как тут отговаривать?
Старый большой дом для одного Деяна был велик: его в две руки и протапливать-то было – замучаешься. Сговорились с ближайшими друзьями-соседями, у которых в доме тоже освобождалось место: Петер Догжон намеревался снискать славы в большом мире всерьез, капитану в рот смотрел. Жена хмурилась, но ничего не говорила, сестра ругала, отговаривала – но без толку.
Перегнали свиней, расширили наскоро птичник; Мажел с Нарехом заколотили на зиму окна и дверь – и Деян, со всем нужным скрабом, перебрался к Догжонам. Последние два дня братья ночевали там же, на полу.
На проводах все перепились. Деян, вопреки обыкновению, от других на этот раз не отставал. Утром с больными головами пожали друг другу руки, обнялись: на том все и кончилось.
Ушли из Спокоища не только братья: друзья, соседи, знакомые...
Жизнь снова дала трещину.
– IX -
В небольшом домишке Догжонов жили, не считая Деяна, пятеро: жена Петера, Малуха, тетка сварливая и склочная, и ее две маленьких, беспрестанно хнычущих дочери, младшая сестра Петера, Эльма, и их престарелая бабка – Шалфана Догжон.
С Петером, а в особенности с его сестрой, Деян приятельствовал с детства, еще с той поры, когда у него было две ноги и не было причин мрачно смотреть на все и вся, хотя Эльма уже тогда, подражая старшим, частенько выговаривала ему за "скверный характерец".
В обезлюдевшей Орыжи жилось тяжело. Но – пока – справлялись...
Тому, что беда свела их с Эльмой под одной крышей, Деян был и рад, и не рад одновременно. Рад – потому как рад, а не рад – потому как крутой нравом Петер Догжон, вернувшись, с одних только подозрений мог разъяриться до такой степени, чтоб задать сестре плетей, а ему, не мудрствуя, свернуть шею. Остыл бы, конечно, потом, – а толку?
Сколько Деян себя помнил, Эльма заботилась о нем как о родном, и в этой заботе теперь, в оскудевшем на мужчин селе, некоторым чудилось нечто иное, чем ее обычная доброта. Пока всем было не до сплетен, но соседи нет-нет да и бросали многозначительные взгляды. Потому Деян, скрепя сердце, как мог, сторонился подруги – к которой в самом деле был привязан намного крепче, чем ему хотелось бы себе признаваться, и ворочался ночами с боку на бок, поминая судьбу недобрым словом и браня себя за слабосилие. С того дня, как пришлось переселиться к Догжонам, он чувствовал себя нахлебником еще острее, чем прежде. Особенно если кто-то говорил ему обратное. Хотя дел у него, как и у всех, прибавилось: кроме привычной домашней работы приходилось ухаживать за престарелой бабкой и приглядывать за детьми.