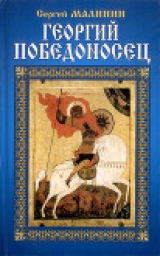
Текст книги "Георгий Победоносец"
Автор книги: Виктория Василишина
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)
– Благодарствуй, кормилец, – не поднимая склонённой головы, низким сиплым голосом промолвил бродяга. – Спаси Бог! Век за тебя молиться стану…
– Помолись лучше за рабу Божью Марию, – сказал ему Никита и, ударив коня пятками под бока, с непонятным ему самому облегчением оставил путника позади.
Вскоре вековая чащоба кончилась, дорога выкатилась в поля. На ярком солнышке молодость взяла своё: Никита повеселел и обратился мыслями к предстоящему разговору с отцом, во время которого надеялся наилучшим образом устроить дальнейшую судьбу своего приятеля Стёпки и его будущей молодой жены.
Глава 6
Разглядев верхового, что нагнал его на глухой лесной дороге, Безносый Аким тоже испугался, да так, что едва не лишился чувств. Ему бы, завидев знакомое лицо, бежать опрометью в лес, да ноги будто к месту приросли – только на то их и хватило, чтоб с дороги, из-под конских копыт, на обочину сойти.
Почудилось Акиму, будто догоняет его сам Андрей Зимин, коего он по боярскому повелению убить хотел, да так и не убил. Был верховой, пожалуй, лет на десять, если не на все двадцать, моложе, чем тогда, когда Аким за ним в приволжских степях охотился. А это могло означать только одно: помер Зимин, а померев, всё как есть на небе про Акима разузнал и вернулся, стало быть, с того света, чтоб до конца счёты свести. Долгонько собирался, но на небе, видать, время иначе считают, чем на земле. Да и торопиться, опять же, некуда – впереди-то вечность!
Хотел Аким коню в ноги пасть и заголосить: не я, мол, это, меня боярин послал, его и ответ, – да вовремя спохватился и язык прикусил. Конёк под всадником ледащий, кафтан на седоке потёртый, и вкруг головы, сколь ни гляди, никакого божественного сияния не видать. И пахнет от коня, как и полагается, конём, а вовсе не райскими кущами, уж чем они там пахнут, кущи-то эти. И серой не разит – не из пекла, стало быть, посланец по Акимову душу, и не светлый небесный ангел, а просто живой человек, хотя, конечно, и дворянского роду-племени. А что с лица похож, так это Господь нарочно так устроил, чтоб дети на отцов походили. Словом, Федот, да не тот; Зимин-то Зимин, тут ошибиться невозможно, только не Андрей Савельевич, а Андреев сын – леший знает как там его зовут.
Одет небогато, конь под ним плохонький, однако жив-здоров и собою хорош. Не сподобил, стало быть, Господь Феофана Иоанновича, Долгопятого-боярина, сей змеиный род под корень извести, как он десять лет назад собирался. Кабы всё тогда по его вышло, лежать бы ныне этому пащенку в сырой землице, а то и на дне какого пруда, а он живёхонек!
Оно и понятно. Видать, тогда, десять годков назад, не нашлось у боярина под рукой другого верного человека, опричь Безносого Акима, вот и уцелели Зимины, вот и хозяйничают, как прежде, на своей земле – той самой, в коей им лежать полагалось бы. Оплошал Аким, ох оплошал! И как после такой оплошки боярину грозному на глаза показаться?
А оплошка вышла и впрямь громадная – такая, что Аким после только диву давался: и как же это он ухитрился этак-то впросак угодить?
Поначалу-то всё как будто и не худо складывалось. Коня ему боярин пожаловал доброго, и войско он нагнал скоро: оно, войско, не быстро вперёд шло, начальники силы берегли, чтоб потом на ханских татар достало. На четвёртый аль на пятый день, как рати достиг, приметил Аким меж иных оружных людей Андрейку Зимина и боле глаз с него не спускал. Тяжко то было, ибо, как боярин и предрекал, с разбойной своею рожей открыто на людях показаться Безносый Аким не мог: мигом связали бы и, того и гляди, взаправду на кол усадили – себе на потеху, воронью на поживу. Вот и приходилось ему таиться по кустам да овражкам, истинно как зверю лесному. А то заляжет на день в какую берлогу, выспится, а ночью войско нагонит, да ещё вперёд забежит. Забежит, стало быть, вперёд, сызнова заляжет и из схрона глядит, как войско мимо идёт: на месте Зимин аль нет?
Спал, понятно, вполглаза, от каждого шороха вскакивал да за саблю хватался, какую боярин ему с собой дал. Кругом-то неспокойно: то татарский разъезд вдалеке покажется, то свои, русские, ертоульные, сиречь конные передовые разведчики, мимо проскачут. Словом, зевать не приходилось, а приходилось, наоборот, беречься.
Пару раз видел Аким, как татарские разъезды на обоз налетали, да с делом, которое боярин ему поручил, управиться не поспевал: далеко был, а татарва, конечно, ждать не стала, покуда он поближе подберётся, чтоб Зимина наверняка из лука свалить. Он уж начал подумывать, не стрельнуть ли ему своего крестничка из засады. Всё одно ведь на татар подумают, больше не на кого. А только, ежели днём стрелять, такая суматоха подымется, что, будь ты хоть соколом быстрокрылым, всё одно от погони не уйдёшь. Конные казаки арканом не достанут – стрела либо пуля непременно догонит.
Вот ежели, яко тать в нощи, воровским манером в лагерь прокрасться и Зимину глотку перерезать, тогда, конечно, можно и уцелеть. Караулы обойти – то для Безносого Акима забава детская, а спящему кровь пустить, да так, чтоб товарищи рядом не заметили, – разлюбезная потеха, для сердца услада и души утешение.
Однако то супротив боярского наказа выходило. Даже дурень набитый, у коего вместо головы дубовая чурка, и тот призадумался б: отчего это татары, в лагерь тайно пробравшись, одного только Зимина порешили? Стало быть, не татары то были, а некто, кому Зимин зело поперек глотки стоял. Впрямую-то сие на боярина Долгопятого, понятно, не укажет, однако подумать на него могут, а тень на хозяина бросать Акиму было настрого заказано.
Вот он и медлил, оказии дожидаясь, и дождался-таки – правда, совсем не того, чего ждал. Берёгся, стало быть, да не уберёгся: сморило его однова́ на дневке, на тёплом солнышке, и заснул он так крепко, будто и не в диком поле, а дома на полатях. И надо же было случиться такому невезению, что татарский разъезд, полем рыская, аккурат на его лёжку наскочил. Проснуться-то Аким проснулся, да поздно. Саблю выхватил, одного косоглазого срубил, другого кулаком с ног свалил, в седло прыгнул и бросил коня прямо с места в галоп. Прянул Воронок прочь от ворогов чёрной птицей, стрелой полетел, да вот беда: конь-то ускакал, а Аким остался. В самый последний миг, когда он уж к лошадиной шее пригнулся, татарский аркан на плечи ему пал, поперёк тулова петлёй сдавил так, что руки не поднять, да с седла-то и сдёрнул. Конь из-под Акима выскочил, и грянулся Безносый лопатками о землю с такой силой, что всё нутро себе отшиб и на время дышать перестал.
И потянулась с того дня долгая неволя, рядом с которой и государева каторга раем Господним могла показаться. Нацепили Акиму на шею дубовую колодку, сковали ноги железными кандалами и погнали с такими ж, как сам, бедолагами за тридевять земель безводными степями, солончаками да каменистыми нагорьями, в Персию, на невольничий рынок. Иные, до места не дойдя, от великих лишений богу душу отдали, да Аким не таков оказался: двужильным он уродился, да и житие звериное, лесное его, как булатный клинок, закалило.
Выжил он, стало быть, добрался до места, и стали его, как скотину бессловесную, на базаре продавать. Ну, и ясно же: ему, безносому да клеймёному, зато с ручищами, как лопаты, с невольничьего рынка одна дорога – на галеру, в трюм, от зари до зари тяжеленным веслом ворочать да вместо «спаси Бог» от перса-надсмотрщика плетью по хребту получать. Да и как иначе-то? Кто ж его, такого, в дом к себе возьмёт? Ведь ежели этакая богомерзкая рожа, к примеру, кому на стол подавать станет, так гостям никакое угощенье в глотку не полезет!
Долго Аким Безносый по морю плавал, да моря-то и не видал, поелику из трюма, с гребцовской палубы, рабов не выпускали – где гребли, там и спали и всё прочее. С той поры, как татары его на пути к Астрахани полонили, он без цепей, почитай, ни единого дня не провёл. Спервоначалу совсем худо было: еда скудная, работа тяжкая, оковы мясо мало не до костей проели, а тут ещё и на воде укачивает – ну, хоть ложись да помирай. Однако со временем пообвык, приспособился и помирать раздумал. Гребцом на купеческой галере быть – оно, конечно, не сахар, однако жить можно, если Господь силушкой не обделил.
Дней Аким не считал, не до того было, и сколь лет пролетело, пока он с веслом в обнимку маялся, не ведал. Да и как ты их сочтёшь, те годы, если у проклятых басурман даже зимы не бывает и погода, почитай, завсегда одна и та же?
Он, конечно, прикидывал, как бы ему купца персидского, нынешнего своего хозяина, с носом оставить, да не тут-то было: галера – не царева каторга, с неё пешком не уйдёшь Да и персы, нехристи, не первый день с рабами управлялись – научились за века и дело своё зело ведали, от таких не побегаешь.
Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Занесло однажды перса-купца на Босфор, а там повстречалась ему галера турецкого пирата Али, по прозванию Одноухий. Уха левого у него не было – саблей отсекли, а кто и когда отсек, тот Али, поди, уж и сам не помнил.
Взяли морские ватажники купца на абордаж, команду побили и за борт побросали, добро да казну купеческую себе забрали, а рабов, кои на вёслах, перебрали, как хозяйка репу в погребе перебирает: которые поплоше, тех в море, за хозяином вослед, а которые до дела гожи, тех к себе на галеру – кого на продажу, а кого, и Акима тож, сызнова на вёсла. Купец-то без боя не дался, из фальконетов да из пищалей стал палить и человек десять гребцов у Одноухого Али побил.
Попал Аким из одной неволи в другую, а только то уж иное дело было. С виду-то всё, как раньше, осталось: и весло с доброе дерево величиною, и смрадный трюм, и цепи, и надсмотрщик с плетью, и даже барабан, коим гребцам ритм задают. А потом начал примечать: то, да не то. Пират – не купец, и порядок у него на борту иной. Бывало, вся команда, от Али до последнего матроса, с вечера так вина перепьётся, что галера до утра без руля и ветрил, как бревно бесхозное, по морю плавает. Надсмотрщик тоже спит, а гребцам и горя мало: на кой грести-то, коль никто плетью над головой не машет?
Словом, видит Аким: ежели с умом взяться, дело может выгореть. И начал потихоньку, шибко не торопясь, но и особо не медля, сколачивать из гребцов-кандальников ватагу. Тому словечко шепнёт, сему полсловечка, а кому и просто глазом мигнёт: как ты, мол, смотришь на то, чтоб Одноухому Али второе ухо оторвать, да с головой заодно?
И оторвали-таки. Ночкой тёмной, безлунной Аким цепь расклепал, надсмотрщику сонному шею, как курёнку, свернул и товарищей своих расковал. Выскользнули они на верхнюю палубу, как тени, вдохнули вольный морской ветер, похватали, кому что под руку подвернулось – кто саблю, кто ятаган турецкий, кто нож, а кто и рукоятку от ворота, коим якорь из воды вытаскивают, – и пошла потеха. Одноухий со своими людьми и проснуться толком не успел, а его уж с перерезанной глоткой за борт выкинули, рыбам на съедение.
Так вот и сделался безносый Аким, бывший лесной атаман, атаманом морским. А что ещё ему делать-то было? С волками жить – по-волчьи выть, да и волей, опять же, повеяло, а он, к тяжкому веслу прикованный, по ней ох как соскучился!
Товарищей своих неволить Аким, конечно, не стал. Так прямо и спросил: кому, мол, со мной идти не любо – выйди, покажись! Один и вышел. Я, говорит, домой желаю, к жене да ребятишкам малым, кои без меня, поди, уж в мужей выросли. Думал небось, что его сей же час на берег доставят, аль, на худой конец, какой-никакой чёлн дадут. А Акиму только и заботы, что с ним вожжаться. Махнул раз ятаганом – и весь разговор: голова в одну сторону покатилась, тулово в другую. Зато иных охотников по домам разойтись уж не сыскалось.
И пошла опять у Акима Безносого лихая жизнь, да такая, какая дома, в лесу дремучем, ему даже и не снилась. Корабли и галеры купеческие грабил да жёг, людишек топил да резал. Турки с персами его пуще огня боялись, называли «Кара Акым» – Чёрный Аким, стало быть. Не потому, что ликом чёрен – он хоть и обгорел на солнце, почитай, до черноты, а рядом с турком, не говоря уж об эфиопе, белее белого казался, – а потому, что страшен и зело для них, нехристей, грозен. Сколь он их загубил, со сколькими их бабами вдоволь натешился, сколь злата да серебра разбоем стяжал, а после в кости проиграл да пропил – сосчитать невозможно. Про боярина своего, считай, и не вспоминал, не до того было, а когда вспомнит, бывало, только зубы оскалит да через борт в море плюнет, потому как Феофан Иоаннович там, за тридевять земель, в иной жизни остался – вроде и не было его никогда. Да и чего об нём жалеть? Жилось ныне Акиму привольно, сытно да пьяно – так что ежели б боярин про такую его жизнь прознал, так от злости да от зависти, верно, руки б на себя наложил.
Словом, жил Безносый, наперёд не загадывая и назад не оглядываясь. Хорошо ему жилось, а только в народе верно сказывают про верёвочку, коей, сколь ни виться, конец всё едино сыщется.
Повстречался Аким однова́ посередь моря с турецким военным флотом. Было у него к тому времени под рукой уже четыре пиратские галеры, да только супротив двух десятков боевых кораблей много не навоюешь.
А ветер-то в спину – гонит Акимовы галеры аккурат навстречу верной погибели. Поворотил он обратно, думал убежать, ан не тут-то было – ветер, вишь, не пускает. Гребцы из сил выбиваются, а галеры, златом да греческим вином доверху нагруженные, по днищу ракушками да травой морской обросшие, еле ползут. А флот настигает – и галеры в нём Акимовых поболее, и большие многопушечные корабли, какие в аглицких, гишпанских да аломанских землях строят. Палят вдогон из больших корабельных пушек, а у Акима только и есть что фальконеты, да и зелья, сиречь пороху, кот наплакал. Плюнули из фальконетов раз, плюнули другой да и бросили ту пустую затею: всё одно не доплюнуть.
Берег вдали сиреневой полоской маячит – кажется, руку протяни, и земли коснёшься. Да только берега им уж не достигнуть – раньше нагонят и на дно отправят, а кто не утонет, того к рее вверх ногами подвесят. Пушки корабельные палят, ядра то справа, то слева воду буравят, брызги вздымая. Иное и в галеру угодит – грохот, треск, дым, огонь, обломки, а то и руки-ноги оторванные во все стороны летят. Корабли совсем близко подошли, окружают, палят в упор – смерть пришла, и больше ничего. Акимова галера загорелась, на месте стала и тонуть начала. Люди с бортов горохом в воду посыпались, ну, и Аким, известно, с ними.
Кому ещё, опричь него, повезло до берега вплавь добраться, он так и не сведал. Выполз в сумерках на камни, ничком пал и до утра, как мёртвый, на тех камнях провалялся. А поутру, когда понял, что всё прахом пошло и податься некуда, ему боярин-то и вспомнился. Потянуло в родные места, захотелось явиться к Феофану Иоанновичу с повинной, пасть в ноженьки и, даст Бог, вымолить прощенье.
Верно говорят: где родился, там и сгодился. И потом, воля всего краше, когда в клетке сидишь, издалека. Вблизи-то она порой хуже любого ярма оказывается. Так, случается, дворовый пёс, на цепи сидя, через дыру в заборе на уличных собак глядит и думает: эх, кабы и мне так! Сорвётся, бывает, с цепи, на улицу выбежит и ну бесчинствовать: кур чужих давить, кошек на куски рвать, лаять бесперечь да прохожих за порты хватать. А как набегается вволю да проголодается, хвост подожмёт и домой бежит, хоть и знает, что не миновать ему за все его непотребства хозяйской палки.
Так и с Акимом Безносым вышло. Пока чёрт его от лиха берёг, всё ему ладно, всё гоже было. А как подошла жизнь к самому краешку, как заглянул в жерла турецких бомбард, огонь да смерть, яко демоны, изрыгающих, так к боярину под крылышко и потянуло. Пущай его бьёт – авось до смерти не убьёт. Уж лучше у него в амбаре на цепи сидеть, чем такая воля, пропади она пропадом!
Сказано – сделано. Правда, сказать оказалось легче, чем сделать. Полных два года Аким с чужой стороны на Русь пробирался, однако же сдюжил, дошёл. И первым же знакомым, коего в родных местах встретил, оказался Никита Зимин. Бог ли, чёрт ли столкнул их лицом к лицу на лесной дороге, неведомо. А только, когда всадник ускакал, а испуг прошёл, Аким Безносый возликовал душою, ибо смекнул: встреча их не была случайной. Был сие знак свыше, и по знаку тому понял Аким, как ему за свою давнюю вину перед боярином оправдаться.
Проводив молодого Зимина взглядом, Аким с кряхтеньем наклонился, подобрал с земли брошенную из милости монетку, сунул её в кошель и, опираясь на суковатую палку, неторопливо побрёл в ту сторону, где уже стих конский топот. На душе у него было так спокойно, как не бывало уже давно, потому что теперь Безносый доподлинно знал, что ему надобно делать.
* * *
Дома Никиту поджидала нечаянная радость: из Москвы прискакал гонец, привёз письмо от молодого княжича Ярослава Загорского, закадычного приятеля беззаботной юности, с коим не раз устраивались весёлые проказы. Проказы те, случалось, представлялись весёлыми единственно самим проказникам; иные же, а паче всех родители их, только за голову брались, не ведая, как вразумить нашкодивших недорослей: розгами сечь как будто уж поздно, а словесное вразумление, хоть и внемлют оному безропотно и с должным почтением, в одно их ухо влетев, в другое немедля вылетает.
Княжича Ярослава Никита любил за весёлый нрав, за быстрый ум, а паче всего иного за то, что ради друзей себя не жалел. Бывало, когда в озорстве своём хватали они через край, как в тот раз, когда, напоив свинью брагою, привязали ей бороду из мочала, обрядили в рясу да скуфью и пустили бегать по деревне, княжич смело выходил поперёд приятелей и брал всю вину на себя. Отец Дмитрий, прискорбная склонность коего к употреблению зелена вина была известна всему приходу и далеко за его пределами, после того случая со свиньёй грозился предать шутников анафеме, да пришлось с христианским смирением озорников простить: не со зла то было, а по младому неразумию. Тем паче зачинщиком у них был молодой Загорский, Ярослав сын Сергиев, в чём самолично повинился. А отец сего недоросля, Загорский-князь, к самому митрополиту вхож и с протопопом едва не каждый божий день трапезничает. Вот тебе и анафема…
Ныне княжич Ярослав воротился в Москву из фряжских земель, куда был направлен с тем же посольством, что и Долгопятый Иван. Правда, не чета Ивану, приехал он не просто так, а с донесением к самому государю про новые иноземные способы пушечного литья да с обозом, в коем привёз три разные пушки для испытания и образца – одну осадную мортиру, одну бомбарду польную да один малый фальконет, что у лошади на спине возить можно.
Про всё то княжич писал Никите в привезённом гонцом письме, а в конце звал в гости – на ночь, а если получится, то на пару-тройку дней. С приездом просил не тянуть – царь-батюшка, да ниспошлет ему Господь долгие лета, того и гляди, ещё куда отправит, дел-то ныне невпроворот.
Посему уезжал Никита из дому в великой спешке, однако же насчёт Степана-резчика с отцом переговорить не забыл. Выслушав его с должным вниманием, Андрей Савельевич сказал, что подумает, благословил сына на дорогу и, как обещал, отправился в горницу – думать.
Мысли, что, неторопливо сменяя друг друга, текли у него в голове, все как одна были невесёлые. Более всего тяготили дела насущные, и в первую голову сделка, которую пришлось заключить с соседом, боярином Долгопятым. Непонятно было, на что боярину сдалась захудалая деревенька Лесная, и неприятно, что после стольких лет упорного сопротивления пришлось-таки уступить. Сын перед отъездом опять просил передумать, отказаться от продажи; Андрей Савельевич обещал поразмыслить, однако мыслить тут было не о чем: он уже всё решил и решения своего менять не собирался. Хуже всего была невозможность объяснить сыну, отчего он решил так, а не иначе: узнав правду, Никита, пожалуй, мог сделать что-нибудь, о чём после пришлось бы жалеть. А окончательно испортить себе жизнь, которая и без того с самого начала складывалась не слишком удачно, Андрей Савельевич сыну позволить не мог.
Он хорошо видел, как горели у Никиты глаза, когда читал письмо от княжича Ярослава, с каким жаром он пересказывал новости из иных земель про какие-то пушки да литейные формы. Видел Андрей Савельевич и то, как сын сник, вспомнив, по всей видимости, о собственной ненужности. Он-то, конечно, старался не подавать виду, что успех княжича Загорского, ровесника и товарища детских игр, его ранит, да только отцовское сердце не обманешь: было, ох было Никитушке и горько, и обидно, что иные, кои его ничем не лучше, державе служат и уж перед государем отличиться успели, а он, разумный да пригожий, сиднем в деревне сидит, и конца тому сидению не предвидится.
Да-а, подобрал-таки боярин Долгопятый ключик к Андрею Савельевичу, сыскал топор, коим древо его гордости да упорства под корень подрубить можно. Перекрыл, близ государева трона сидя, Никите все пути-дорожки – торчи себе в деревне, живи, как трава растёт, а ежели тебе так жить скучно, то твоя беда.
Долго Андрей Савельевич крепился, долго искал путей в обход боярина, да такого разве обойдёшь? Не помогли ни подарки, ни поклоны, ни старые заслуги. Иные прямо так, в глаза, и говорили: по делам твоим тебя жаловали щедро, а ныне, коль ты на покой отпущен и никаких дел за тобой не числится, неча и милости государевой искать – у него, чай, и без тебя забот хватает. Негоже то было, не по обычаю и не по совести, и виделась за всеми теми обидами довольная ухмылка Феофана Иоанновича, который, к слову, не больно-то и таился. Бывает, встретит в Москве, глянет с усмешкой и ничего, конечно, не скажет, однако в глазах явственно читается: что, мол, соседушко, доволен ли тем, как я с твоим сынком-то управился? Погоди, не то ещё будет…
Посему, сколь ни горько то было, пришлось идти к Долгопятому на поклон. Что гордость, коль речь о судьбе единственного сына зашла? Понадобится – в ногах валяться станешь, сапоги целовать, лишь бы кровиночка твоя горя не знала…
Боярин, видя соседово унижение, явил милость, не стал былое припоминать. Молвил только: «Что, брат, припекло, То-то… Наперёд столь высоко не заносись, потому свысока и падать больнее». И потребовал продать Лесную – продать, понятно, за бесценок, хотя ей и красная цена была невелика. А взамен обещал о Никите похлопотать, сыскать ему какое-никакое местечко в Пушкарском, в Посольском ли приказе – ну, словом, где придётся. Всё лучше, чем на печи-то сидеть!
Так-то вот. А Никита, всего того не ведая, о холопах печётся: каково-то им будет при новых хозяевах? Оно, конечно, несладко им придётся: лют Долгопятый, особенно во хмелю, а сынок его и того лютее, поелику главою скорбен да капризен. А только, выбирая между судьбой Никиты и судьбами неполных шести десятков подневольных смердов, Андрей Савельевич ни минуты единой не колебался. А что тут колебаться, что выбирать? Пропадёт хозяин – холопам тож не поздоровится…
Тут всё было решено раз и навсегда. Зато над второй просьбой сына и впрямь стоило поразмыслить.
Уезжая в Москву, Никита просил ни много ни мало составить вольную грамоту на имя Степана Лаптева со всей его семьёю, то бишь с больной матерью и невестой, коя в скором времени должна была стать женой. Говорил он о том много и горячо: мол, и нрав у Степана не таков, чтоб ему под новыми хозяевами хорошо жилось, и у Ваньки Долгопятого с ним старые счёты – не дай бог, припомнит, как глаз-то ему в отрочестве подбили, совсем мужика со свету сживёт! Говорил сын и о Степановом таланте, который может совсем пропасть, поелику Долгопятым на все таланты начхать, опричь умения спину перед ними гнуть да пятки им лизать. Пуще же всего иного упирал Никита на свою со Степаном дружбу, из коей до сего дня ничего доброго не вышло как раз потому, что Стёпка – холоп подневольный. «Человек-то хороший, – говорил Никита, – будь он дворянин, служилый человек иль хотя бы вольноотпущенник, я б для себя лучшего друга и желать не мог. А так гляди, что получается: и мне, дворянскому сыну, с холопом якшаться зазорным считается, и ему на миру глаза колют – дескать, ластится Степан к молодому барину, лестью да кривдой тёплого местечка подле хозяина взыскует…»
Прямота, с которой Никита к нему обратился, одновременно и радовала и печалила. Лестно было, что сын перед отцом душой не кривит и, получив дозволение говорить откровенно, мыслей своих не таит. А и боязно становилось за его будущее: каково-то ему с его прямым нравом и смелыми речами при дворе будет?
Что же касаемо дела, то бишь написания вольной грамоты на имя Степана Лаптева, решить вопрос Андрею Савельевичу было, опять же, и легко и трудно… Ведь что получалось-то? Получалось же, что с каждым доводом сына, с каждым его словом Андрей Савельевич мог и согласиться всей душою, и в тот же час горячо поспорить.
Нравом он, говоришь, крут? Так сие, позволь напомнить, смерду недозволительно, и ежели нрав его станет причиною невзгод и гонений со стороны хозяина, то его, холопа, вина, и более ничья.
Старые счёты? Вздор! Какие у боярского сына со смердом могут быть счёты? Десять лет минуло, всё давно быльём поросло. А если Иван Долгопятый и признает обидчика, если захочет дерзкого холопа за давнюю вину наказать, – что ж, на всё воля Божья. Неча было руки распускать. Защитил, не дал в обиду хозяйского сына – спаси тебя Бог, а сила, то всем ведомо, солому ломит. А ежели б то не Ванька Долгопятый оказался, а, к примеру, медведь? Да задрал бы защитника насмерть – что тогда? Нешто на медведя обижаться?
Далее что? До малевания способен? Способен, спору нет. Только сие не его заслуга, а божий дар. Сколько их, даровитых, в безвестности пропало, да и сколь ещё пропадёт! Да и с чего б ему пропадать? Резчик он и впрямь знатный, оброк деньгами несёт исправно, так чего ради боярин станет курицу резать, коя золотые яички несёт? На что ему худой землепашец вместо доброго мастера?
Оставался последний сыновний довод – дружба. Эх-хе-хе… Да какая там дружба? Чай, не дети малые, а мужи. В их-то летах уж надобно, кажется, понимать, что каждому человеку надлежит ведать своё место: мужику – мужичье, дворянину – дворянское. Может ли мужик дворянскому сыну другом называться? Вот взять, к примеру, старого дядьку Захара – он Андрею Савельевичу друг или просто слуга? Не раз в походы хаживали, не раз один другому живот спасали и за долгие годы привыкли друг на друга, как на себя, полагаться. Захар, однако ж, своё место знает и барину в ножки поклониться никогда не забудет, даже наедине. Так кто он есть – друг или пёс верный? Ведь хороший пёс тоже за хозяина живота своего не пожалеет. Да и хозяин за доброго пса, ежели потребуется, на медведя с голыми руками да зубами одними пойдёт. Что, однако же, не мешает псу к хозяину ластиться да хвостом вилять, а хозяину – чесать его за ухом, а при нужде и палкою учить.
Вспомнилось, как сам, уже будучи зрелым мужем, хотел пожаловать Захара за немалые его пред собою заслуги вольной грамотой и как старый дядька плакал, яко дитя, подумав, будто господин на него осерчал и хочет прогнать со двора на все четыре стороны. Не нужна ему воля – тогда была не нужна, не нужна и ныне. Ему и без воли хорошо, он своё место помнит и в хозяине души не чает – истинно как верный пёс.
Если подумать, в том как раз и была разница между старым дядькой Захаром и резчиком Степаном. Захар, сын дворника и кухарки, с малолетства у господ в услужении и иной жизни не мыслит. Степан – мастер, Господом щедро одарённый, с младых ногтей в своём дому единственный кормилец, он на воле не пропадёт – наоборот, окрепнет да пышным цветом расцветёт, как росток, с коего тяжкий гнёт убрали. Ему воля, как воздух, надобна, сие с первого взгляда заметно. Говорит почтительно и кланяется как подобает, однако глядит без страха и перед господами не заискивает. Такие-то вот, самостоятельные да неспокойные, как раз от хозяев на все четыре стороны и бегут, а то и бунты затевают. Оно, конечно, сломить и к покорству склонить и зверя лесного можно, не говоря уж о холопе, а только много ль в том хорошего – человеку стержень ломать? Без стержня человек уж не человек, а быдло безответное, только на то и годное, чтоб кое-как из-под палки землю сохой ковырять. На то и без Стёпки Лаптева на Руси народу достанет, а вот кто её защищать, кто украшать станет, коль все в грязи пресмыкаться будут, головы поднять не смея? Тако ж и государь не устаёт повторять, что ему не ласкатели сладкоречивые любы, а истинные радетели о благе государства. Столбовые дворяне, бояре думные, князья – все государевы холопы, все перед ним равны, и жалует он своих людей не по родословию, а по заслугам. Кто таков был в молодые годы Андрей Зимин? Десятник стрелецкий без роду-племени, из простых стрельцов за отвагу да смекалку в сей чин возведённый. Из десятников в сотники, а там государь и дворянством, и землицей за верную службу пожаловал… Не такова ль судьба и Степана Лаптева ждёт, если ему на самом взлёте крылья не подрезать?
Всё было верно, и никаких препятствий к тому, чтоб явить милость к своему холопу, который всё едино не сегодня завтра отойдёт иному господину, Андрей Савельевич не видел. А всё ж таки сесть и составить грамоту, исполнить сыновнюю просьбу что-то не пускало. И, подумав, понял он, в чём тут загвоздка. Сколь умно ни ряди, сколь ни ссылайся на государя да божий дар, а сердцу не прикажешь. Сердце же ныло от обиды на дерзкого мужика, который не пожелал верой и правдой служить молодому хозяину, а, пользуясь его привязанностью, натолкнул, будто бы невзначай, добросердечного и чистого душой юношу на эту мысль: дескать, ты упроси отца вольную мне дать, а там поглядим – может, и впрямь подружимся…
Спохватившись, Андрей Савельевич усовестился своих хулительных, горьких и несправедливых мыслей. Дерзости своей, если таковая и была ему свойственна, Степан Лаптев никоим образом не оказывал, разве что глядел прямее иных холопов. Так разве же прямой да открытый взгляд – худо? И криводушия льстивого за ним сроду не замечалось, да и никаких иных грехов не числилось. Что ж обижаться-то? Да, думалось когда-то, что станет Стёпка Лаптев сыну верным, неотлучным слугой. Не сложилось, что и говорить.
Пока Андрей Савельевич предавался раздумьям, за слюдяным оконцем стемнело. Во мраке за приоткрытой дверью горницы родился неяркий оранжевый огонёк, послышалось знакомое шарканье подошв, и на пороге появился Захар с коптящей лучиной в руке. Шаркая, кряхтя и потирая ноющую поясницу, старик принялся одну за другой зажигать от лучины сальные свечи. Фитильки вспыхивали с негромким треском, стреляя гаснущими на лету искорками, по бревенчатым стенам заходили, кривляясь и приседая, уродливые чёрные тени, оранжевые блики заиграли на лезвиях развешенных над лежанкой кинжалов и сабель.








