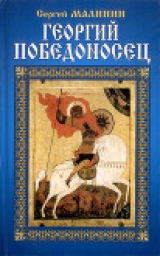
Текст книги "Георгий Победоносец"
Автор книги: Виктория Василишина
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
«Ишь ты, – не без ревности сказал тогда брат Серафим. – Так ты, может, и малевать можешь?» – «Может, и могу», – пожав широченными плечами, молвил на это брат Варфоломей. «А ну, покажь!» – потребовал монастырский богомаз.
Ну, он и показал. Взял из холодной печки уголёк и в два счёта намалевал на стене витязя верхом на вздыбленном коне – не то воеводу какого, не то царя, не то самого Георгия Победоносца, токмо что без змия. Намалевал, стало быть, и стал перед тем своим малеваньем столбом – глядит, брови косматые хмурит и губами шевелит, будто вспомнить что-то пытается. А брат Серафим глянул на того витязя раз, крякнул да и пошёл к настоятелю. Привёл отца Апраксин, показал Варфоломеево художество и попросил благословения на то, чтоб взять оного Варфоломея себе в ученики.
Игумен спорить не стал. И намалёвано было красно, и замена брату Серафиму уж давненько требовалась – стар стал, подслеповат, в руках дрожание появилось, да и погост монастырский, поди, уж не за горами. Останется обитель без своего богомаза, только и всего. А на рынке, в иконном ряду, место не опустеет, другой кто-нибудь живо займёт, ибо сказано: свято место пусто не бывает, а доходное – тем паче.
Стал новонареченный брат Варфоломей иконописи учиться. Покуда краски тёр да доски грунтовал, всё как по маслу шло. А позже, как дошло до настоящего дела, случилась непонятная какая-то загвоздка: вроде и пишет легко, и усердия хоть отбавляй, а из-под кисти не иконы выходят, а страшно сказать что. Казалось бы, и каноны соблюдены, и угодники святые намалёваны, как брату Серафиму и не снилось – ну, ровно живые, – а всё едино не то. Глянешь на такую икону, и жуть берёт, будто там не святой намалёван, а лесной разбойник, душегуб, злодей, на коем клейма негде ставить. Глазищи таращит, и такие они у него злющие, будто, дай ему волю, с доски соскочил бы и зубами преострыми в тебя, раба Божьего, впился.
Брат Серафим поначалу думал, что это ему сослепу мерещится что-то. Позвал опять игумена. Тот пришёл, глянул, плюнул и ну креститься! «Бесовщина, – говорит, – дьявольское искушение!» И епитимью на обоих наложил такую, что брат Серафим потом целую неделю спину разогнуть не мог, до того в монастырском храме накланялся.
Уж как он со своим учеником бился! Главное, непонятно было, в чём секрет, отчего дело намертво застряло и дальше не идёт. И учить его вроде уж нечему, и делает всё, казалось бы, правильно, сноровисто да ловко, а выходит всегда одно и то ж: начнёт за здравие, а кончит за упокой. Будто бес какой внутри у него сидит и под руку толкает!
А может, и сидел. Икону-то с молитвой писать надобно, без того никакое мастерство не поможет, и будет, сколь ты ни бейся, не икона, а просто доска расписная. Варфоломей, знамо, молился, как же без этого. Да, видно, не так молился. Или не о том. Ведь Господь не словам внемлет, кои вслух произносятся, он человеку в душу зрит, в самые потаённые её уголки, и читает там, как в открытой книге.
И сны ему порою снились странные, истинно бесовские. Мелькал в них то и дело пернатый золотоликий демон с кнутом, слышался сатанинский куражливый гогот, виделись чьи-то залитые кровью лица, и мнилось, что люди эти хорошо ему знакомы. Просыпаясь, тех снов не помнил вовсе или помнил урывками, но почему-то казалось, что именно во сне он становится самим собою и живёт по-настоящему, а всё, что происходит днём, как раз и есть мимолётный скучный сон ни о чём.
Только один раз удалась ему икона, при виде которой не хотелось сломя голову бежать прочь. Писал он Богородицу, и вышло вроде не худо. Лик получился светлый, сострадающий, как тому и быть надлежит, и благость от иконы исходила такая, что даже игумен, на неё глядя, вздохнул, перекрестился истово и слезу сронил. Брат Серафим, однако ж, и эту икону забраковал, и отец-настоятель с ним согласился: благость благостью, а каноны брат Варфоломей нарушил едва ли не все, какие только есть, и вышла у него не пресвятая Дева Мария, а какая-то холопка, пусть себе и пригожая и со святостью в очах.
Правда, доску ту брат Серафим не велел, как иные, соскоблить и наново загрунтовать, а оставил у себя в мастерской и частенько на неё заглядывался, гадая, в чём секрет явной непригодности брата Варфоломея к почтенному ремеслу монастырского богомаза. И Варфоломей, бывало, простаивал подле неё по часу и более и всё хмурился да щурился, будто пытаясь прочесть на иконе какие-то невидимые глазу письмена.
Вот после той Богородицы он иконопись и забросил. Сказал: всё, мол, довольно – и с меня довольно, и с тебя, брат Серафим, а уж с Господа Бога и подавно. Чего даром мучиться, материал переводить, ежели всё одно ничего не выходит? И игумену так же сказал. Да с ним и не спорил никто.
Правда, стоило только ему из иконописной уйти, как у него иной талант открылся: оказалось, что резчик он знатный, такой, что его учить – только портить. А где резьба, там и чеканка; стал, одним словом, брат Варфоломей иконостасы да алтари из дерева резать да иконные оклады на медном листе чеканить. И так-то ладно, так красно да пригоже у него получалось, что отец Апраксий порою в мыслях своих грешил, жалея, что служит настоятелем в православном монастыре, а не в католическом: католикам, по крайности, дозволяется храмы и дома свои статуями украшать. Это ж какое тогда нашлось бы брату Варфоломею применение! Это ж какие деньги обитель могла б заработать, поделки его продавая!
После, конечно, в тех греховных помыслах каяться приходилось, поклоны перед иконами класть, а что поделаешь? Все люди грешны, один Бог без греха…
Зато во всём остальном, что иконописи не касаемо, брат Варфоломей оказался для монастыря сущим Божьим даром. Любую работу ему поручи, любую дыру им заткни – справится, да так, что после залюбуешься. Всяко дело у него в руках так и горело, а что богомазом не стал, так сие не каждому дано. Отец Апраксий, к примеру, сам даже под страхом смерти и предания анафеме не сумел бы похоже намалевать, так что ж он теперь, ни на что не годен? И митрополит рисовать не умеет, так нешто он от этого митрополитом быть перестанет?
Брат Варфоломей жил себе, ни о чём не заботясь, работал до седьмого пота, видел по ночам странные и страшные свои сны и никому о тех снах не сказывал, только ещё усерднее после них Господу молился, чтоб избавил от той ночной напасти и даровал душе покой. Десять лет пролетели, как один день, а он их и не считал, и даже не замечал как будто. За год, как и говорил боярину игумен, превзошёл грамоту. Учился рьяно да жадно, будто стояла перед ним какая-то далёкая цель, о коей он и сам не ведал. Отец Апраксий рвение сие находил похвальным, но вместе с тем и небезопасным: ныне он грамоте наущается, завтра сам Писание читать начнёт, – а там, глядишь, и толковать его примется по слабому своему разумению. А в таких самостоятельных толкованиях, как известно, и кроется корень любой ереси. Однако ж, пока спохватился, было уж поздно: брат Варфоломей не токмо читать, но и писать обучился. Учение же есть такое дело, что, коль скоро оно уже сделано, так после хоть в лепёшку расшибись, а вспять ты его не повернёшь. Пущай его читает, раз так вышло, тем паче что времени свободного для чтения у него не больно-то и много.
Впрочем, брат Варфоломей, сведав грамоту, тут же к ней и остыл, и в библиотеке монастырской его с тех пор, почитай, и не видели. Ну, ровно избу срубил иль иное какое дело справил – забил последний гвоздь, убедился, что вышло крепко да ладно, и за другую работу взялся, о прежней забыв. И спрашивать, отчего да почему, было бесполезно: он и сам того не ведал. Да и не спрашивал никто: кому какое дело?
Всё изменилось в одночасье, когда боярин Долгопятый обозвал его лешим. Это словечко будто стронуло бревно, на коем из последних сил держалась обветшалая бобровая плотина, и память вернулась – вся, разом, до последней мелочи. Степан (Степан, конечно, а не какой-то там Варфоломей!) после даже дивился: как это его угораздило устоять на ногах, не пасть наземь под гнётом рухнувшей неведомо откуда тяжести?
Всё вернулось: Зимины, Ольга, полыхающая в ночи изба, лесная землянка, волчьи ямы на дороге, Марьин овраг, крымчаки, свистящая над ухом картечь и клеймёный дьявол с тяжкой турецкой елманью в руке. И как его угораздило такое забыть? Ныне ж вспомнилось всё, даже сны, и стало понятно, чьи мёртвые лица ему в тех снах являлись, вопия об отмщении, и чья золочёная личина то и дело их заслоняла.
Ясно стало, отчего с иконописью у него не задалось. Ведь пока голова молитвы заученные бормотала, душа жаждала отмщения и если о чём и молила Господа, так это о ниспослании лютой погибели боярину Долгопятому. Нешто можно с такою молитвой святой лик изобразить? То-то, что нельзя.
Понял ещё, почему не помер, когда Безносый ему голову елманью мало не надвое рассек. Не мог он умереть раньше боярина, вот и не умер – обида горькая да злоба лютая на двуногого зверя в боярской шубе на тот свет не пустили.
Скрипел зубами, вспоминая нынешнюю свою жизнь и то, сколько раз проходил от боярина Ивана Долгопятого на расстоянии вытянутой руки. Схватить его, ирода, и единым духом свернуть шею! Иль взять на конюшне навозные вилы да и всадить по самую рукоять в толстое брюхо! Куда глядел, о чём думал? Десять лет!
После остыл, успокоился и понял: нет, нельзя. Слишком просто. Слишком легко. Нельзя, чтоб этот людоед так легко отделался. Да он и не отделается.
Затворившись в келье, стал думать, как до боярина добраться. И оказалось вдруг, что у него давным-давно всё придумано – берись да делай. Будто все эти десять лет день за днём он только о том и думал.
Дела в долгий ящик откладывать не стал. Дождался, пока колокол к вечерней молитве зазвонил, на ложе лёг, а когда кто-то из братьев в келью заглянул, сказал, что хворает, и за здравие своё помолиться просил. Ну, чернец и пошёл себе в храм – дело-то обыкновенное! Тем паче что отец Апраксий сегодня опять с Долгопятым-боярином бражничал, а стало быть, и сам к вечерней молитве не выйдет, показное благочестие блюдя и не желая слово Божье заплетающимся языком порочить и осквернять. А нет настоятеля – нет и епитимьи захворавшему брату Варфоломею, ежели только оный брат сам сдуру в грехе своём игумену не покается.
Брат Варфоломей, однако ж, ни каяться, ни хворать даже и не думал. Услыхав, как братия в храме стройным хором затянула славу Господу, быстро встал с ложа, покинул келью и тайком прокрался в монастырскую библиотеку. Брать бумагу, коей пользовался писец брат Павел, не стал: бумага была дорога, и листы свои брат Павел по настоянию игумена пересчитывал ежедневно, а бывало, что и по два раза на дню. Вместо того пошёл Степан к полкам да сундукам, где пылились книги, в кои давненько никто не заглядывал, и надёргал из тех книг чистых страниц – где бумажных, а где и пергаментных. Свершив сие святотатственное злодейство, затолкал добычу за пазуху, а после отлил в принесённый с собой пузырёк чернил из пузатой медной чернильницы, прихватил парочку гусиных перьев, две свечи из свечного ящика и был таков.
К тому времени, как последняя свеча прогорела и начала мигать, готовясь погаснуть, а на птичьем дворе хрипло загорланили петухи, Степан закончил писать вторую грамоту. Первая, адресованная самому царю, уж давно была написана, высушена, свёрнута в трубочку и перевязана шнурком. Другая, та, что лежала сейчас перед ним, озаряемая мигающим светом умирающей свечи, начиналась так: «Милостивый государь, благодетель и холопам своим отец родной, боярин Иван Феофанов сын Долгопятый», а кончалась словами «повелит смертью лютою казнить». Разминая онемевшие, ноющие от непривычной работы пальцы, Степан наискосок пробежал написанное глазами. Грамотка получилась предлинная, ибо почти слово в слово повторяла донос, писанный на имя царя, с добавлением всяких «будто бы» и «якобы»: «будто бы ты, боярин, подговорил того лиходея, званного Акимом, отца своего, Феофана Иванова сына Долгопятого, в лесу подстеречь и убить» и «якобы тот злокозненный шут по прямому твоему наущению повёл крымчаков мурзы Джанибека в Марьин овраг, что близ святого православного Свято-Тихонова монастыря»…
Убедившись, что ничто не забыто и всякое лыко поставлено в строку, Степан присыпал грамоту песком, стряхнул его, подсушил, помахав бумагой в воздухе, чернила, спрятал оба письма, дунул на огарок и завалился спать. Ныне оставалось только найти повод побывать в Москве, и, засыпая, бывший брат Варфоломей не сомневался, что таковой вскорости сыщется. Он был спокоен: долгие десять лет клокотавшие внутри него страсти давно переплавились в горниле души, слившись в несокрушимый сплав, именуемый решимостью.
Глава 18
Игумен Свято-Тихонова монастыря отец Апраксий сидел в богатом кресле с прямой и высокой, покрытой затейливой резьбой спинкой и, пригорюнившись, смотрел на боярина Долгопятого. Боярин же бегал взад и вперёд по его покоям, задевая мебель болтавшейся на боку саблей, с которой он, как какой-то нехристь, вломился на ночь глядя в святую обитель и хорошо, что не прямиком в Божий храм. Впрочем, отец-настоятель не без оснований подозревал, что при нужде Иван Феофанович и в церковь вбежал бы с саблей на боку, а может, и въехал бы верхом, поелику разум его ныне был затуманен ужасом и на такие мелочи, как соблюдение обычаев и приличий, боярин сейчас просто не обращал внимания.
В затворённое окошко тихонько постукивал ночной дождь. На столе горели свечи, огоньки которых испуганно вздрагивали и пригибались всякий раз, когда мимо, шелестя просторными одеждами, пробегал боярин. На стенах корчились в бесовской пляске потревоженные этой беготнёй и мерцанием тени. Поглядев на мечущуюся из угла в угол уродливую тень боярина, отец Апраксий вдруг задался вопросом: а не служит ли отбрасываемая человеком тень материальным воплощением его бессмертной души? Тень, как и душа, сопутствует человеку неотлучно; она, как и душа, неосязаема и невесома; так, может, это душа и есть? Недаром ведь древние эллины так и называли душу: тень… Во всяком случае, поглядев на тёмное, уродливое чудище, что носилось вслед за боярином по всей келье, временами заползая на потолок, в это было нетрудно поверить. Именно так, по твёрдому убеждению игумена, и должна была выглядеть бессмертная душа его давнего собутыльника и благодетеля.
– Смертию казнить, – бормотал, не переставая мотаться из угла в угол, боярин. – Милостивый государь и отец родной… Будто бы ты!.. Якобы!.. – неожиданно тонким, плачущим голосом вскричал он и с тяжким грохотом пал на колени перед иконостасом. – Господи, спаси и помилуй!
– Шапку сними, раб Божий, – негромко посоветовал из кресла отец Апраксий.
– А? Чего? – обернувшись, переспросил боярин. Глаза у него были выпучены и казались белыми, как у варёного судака, рот глупо и криво разинут, борода встопорщена, шапка сбилась набок, но каким-то чудом продолжала удерживаться на взъерошенных волосах.
– Шапку, говорю, сними, – повторил игумен. – Чай, не к кабатчику вопиешь, а к Господу всемогущему.
Глаза боярина на миг приняли осмысленное выражение, он торопливо сдёрнул шапку, вновь повернулся лицом к иконам и забормотал какую-то бессвязную молитву, время от времени звучно ударяя лбом в широкие, отскобленные добела доски пола.
Поморщившись от производимого боярином шума, а также от распространяемых им запахов отсыревшей одежды, кислого винного перегара и мокрой конской шкуры, игумен расправил лежавшие перед ним на столе смятые, покрытые кривыми рукописными строчками листки и ещё раз бегло перечёл то, из-за чего боярин затемно примчался в монастырь – один, верхом, без стражи, почти что без лица, но зато торопясь так, словно за ним по пятам гнались черти, посланные из ада по его душу.
Впрочем, перечитывать не было нужды. Если верить письму, в коем боярина предупреждали о поступившем на него доносе, копнули под Ивана Феофановича крепко. Царь мог посадить на кол и за меньшие провинности; в письме же, подробно повторявшем донос, упоминались такие дела, что совершить их, верно, мог бы сам" дьявол, принявший на время человеческое обличье.
Отложив листки, на миг показавшиеся какими-то странно знакомыми, будто уже не единожды где-то виденными, игумен задумчиво посмотрел на боярина, который, простёршись на полу перед иконостасом, сильно смахивал на громадную, побывавшую под колесом гружёной подводы жабу.
– А скажи-ка, раб Божий, – вкрадчивым голосом обратился к боярину игумен, – правда ль то, что тут написано?
С готовностью прервав молитву, от коей, мнилось, всё равно не предвиделось особенного проку, боярин, как был, на коленях, развернулся к нему лицом.
– Навет! – горестно воскликнул он, ломая руки. – Клевета облыжная, в коей и словечка правды нет!
Глаза его при этом предательски вильнули вбок, и, уловив это скользкое, вороватое движение боярских зрачков, опытный знаток и лекарь человеческих душ отец Апраксий понял: правда. Всё, до последнего слова, истинная правда. И, верно, не вся, потому как доносчик всего про боярина знать попросту не мог. Всё про человека ведать один Господь может, потому и зовётся Он всеведущим и всемогущим. А Господь – не торговка с рынка: что знает, про то помалкивает, по крайности до поры. А когда та пора настанет, вострубят трубы Страшного суда, вот тогда-то вся правда наружу и выйдет. Воздастся тогда и боярину по делам его, и доносчику, и отцу Апраксию – за то, что беса во плоти на порог святой обители пустил.
Но Господь высоко, да и Страшный-то суд авось не на завтра назначен. До того времени, глядишь, хоть часть грехов замолить получится. А вот царь близёхонько, и руки у него, кормильца, предлинные да цепкие. Где, скажет, этот пёс, Ванька Долгопятый? А ну, подать его сюда! Как так – нету? Куда ж подевался? Не иначе к собутыльнику своему, отцу Апраксию, в монастырь побежал от царского праведного гнева хорониться. Так подать сюда обоих!
Да, многогрешен Иван Феофанович, что и говорить. Недаром ведь в бега подался – при его-то упрямстве, при его самодовольстве! Навет – сие, конечно, скверно, но от навета, ежели повезёт, отмыться можно. А этот бежать кинулся, царёва слова не дожидаясь, – стало быть, виноват. А если даже и не виноват, так бегством тем вину свою доказал и усугубил. Словом, как ни крути, а лучше б он в монастырь чуму принёс, чем эту грамотку.
Игумен покосился на стоявший у входа увесистый, кое-как обвязанный дорогой шёлковой скатертью резной ларец. От мокрой скатерти по полу расплылась лужа, торчавший из-под неё окованный красной медью угол ларца тоже мокро поблёскивал в свете сальных свечей. В ларце не иначе лежала боярская казна – по крайности, значительная её часть. Экий хват! Жену с детьми дома бросил, а злато с собой уволок, пёс. И как только не надорвался?
– Скажи, боярин, – прежним вкрадчивым голосом, в котором уже угадывались нотки усталости и скуки, произнёс игумен, – ты зачем с этим ко мне приехал? Чего в обители ищешь?
– Приюта одного и заступничества святой церкви пред лицом царя-изверга, что злым наветам на верных подданных своих верит! – всё ещё стоя на коленях (что доставляло игумену греховную, но оттого не менее приятную утеху), сообщил боярин.
– И как ты себе сие мыслишь? В монахи постричься чаешь?
– В монахи? – искренне изумился боярин. – Это ещё зачем?
– Ага, – кивнул игумен с обманчиво довольным видом. – Стало быть, в монахи ты не хочешь. А чего ж тогда? Иль ты думаешь, что так и будешь до скончания века за столом в моих покоях сидеть да бражничать день-деньской?
– Н-ну… того… как его… – забормотал боярин, который, судя по его растерянному виду, именно так и представлял себе жизнь под защитой святой православной церкви.
– Ты беса будешь тешить, будто ничего и не случилось, – зловеще понизив голос, продолжал игумен, – а я, стало быть, осаду держать?
– Какую ещё осаду? – опешил Долгопятый.
– А ты думал, царь не смекнёт, куда ты прятаться побежишь? Про дружбу нашу всем в округе ведомо, и царю тож. Вот и помысли, коль последнего ума ещё не лишился: надобно ль мне, чтоб мою обитель царские стрельцы пушками ломали? Надобно ль мне, чтоб братья, коим я отец и пастырь духовный, через твою глупость на стене вверх ногами висели?
– Так ведь сам говоришь – дружба… – заикнулся боярин.
– А где твоя дружба была, когда ты мне тут кукиши в нос совал? Забыл? Куражился, за моим столом сидя, грозил, что жертвовать перестанешь… А как припекло, ко мне спасаться прибежал? Да я б тебя и спас, ибо Господь милостив и нам, рабам своим, заповедал милость к страждущим являть. А только я – не Господь и чуда явить не могу. А тебя, боярин, мнится, ныне только чудо и спасёт.
– Так что ж мне делать? – вконец растерялся боярин.
– Оставайся, Бог с тобой, – сказал отец Апраксий и, увидев, как радостно оживилось лицо собеседника, выставил перед собой ладонь, будто обороняясь от этой преждевременной радости. – До утра, – уточнил он. – Подкрепись чем Бог послал, заночуй, наберись сил, а завтра чуть свет чтоб ноги твоей в обители не было. А станут спрашивать, так и скажу: заезжал было, да сразу и укатил, а куда – не сказывал. Бог тебе и судья, и защитник!
– И на том спасибо, – разочарованно молвил Иван Феофанович.
– Эй, кто там! – обернувшись к дверям, крикнул игумен. В келью заглянул будто по волшебству случившийся поблизости брат Варфоломей.
– Мало мне было горя, – увидев обезображенное шрамами лицо инока, проворчал боярин, – так ныне ещё и на эту образину любуйся!
Не обратив на его слова внимания, игумен ласковым голосом распорядился насчёт ночлега и ужина для гостя. Протискиваясь мимо стоящего в дверях монаха, боярин неразборчиво что-то пробормотал – как показалось отцу Апраксию, «с паршивой овцы хоть шерсти клок». Напомнив себе о приличествующих доброму христианину смирении и снисхождении к слабым, игумен решил пропустить эти обидные для себя слова мимо ушей.
После того как боярин и брат Варфоломей удалились, прихватив узел с боярской казной, игумен спрятал подальше разбросанные по столу листки, стал на колени перед иконами и долго молился, прося Господа о том, чтоб царские стрельцы не являлись в монастырь хотя бы до завтрашнего утра.
* * *
Опустив на стол тяжёлое блюдо с холодной телятиной, брат Варфоломей взялся за кувшин и до краёв наполнил стоящий перед боярином кубок знаменитым на всю округу монастырским пивом. Боярин развалился поперёк узкого монашеского ложа, упёршись лопатками в стену, отстегнул наконец ненужную саблю, отёр шапкой потное лицо и жадно припал к кубку. Огромная тень на стене повторяла каждое его движение, кривляясь и передразнивая своего хозяина, как когда-то любил делать пропавший без вести безносый шут.
Осушив кубок, боярин сыто рыгнул и придвинул к себе блюдо с мясом. Подняв глаза, он увидел монаха, который по-прежнему стоял у дверей.
– Чего стал? Ступай себе, – буркнул боярин, кинжалом отрезая преизрядный кус холодной, нашпигованной чесноком и сдобренной дорогими заморскими специями телятины с игуменова стола.
Инок не шелохнулся, только тень его слабо шевелилась на стене в такт мерцанию огонька свечи. Это беззвучное потайное шевеление вдруг показалось боярину исполненным смутной угрозы, да и массивная фигура монаха вкупе с его обезображенным лицом не способствовала доброму расположению духа. Беспокоило и пугало также и то, что он стоит на месте, будто не слыша, что ему велели убираться.
– Ну, стой, коли охота, – стыдясь своего испуга и будучи не в силах его преодолеть, с деланым добродушием проворчал боярин. – Только на свет не выходи, не то, на образину твою глядя, мне кусок в горло не полезет. И как только Господь тебя, такого, терпит?
– Господь и не таких терпит, – негромко сообщил инок. – У него терпения хватает. Не то, что у нас, грешных рабов Его.
– И то верно, – согласился Иван Феофанович, запивая телятину пивом. У пива сегодня был какой-то незнакомый привкус – не сказать, чтоб неприятный, но странный. – Хотя я б на месте Господа тебя терпеть не стал. Дал бы разочек молнией по башке, и поминай как звали… К слову, звать-то тебя как?
– Да Лешим и зови, – предложил монах. – Я уж привык.
– Когда ж успел-то? – хмыкнул боярин, с чавканьем жуя мясо и шумно прихлёбывая из кубка. Теперь, когда пиво уже начало потихоньку ударять в голову, он даже радовался тому, что монах остался в келье. Будет с кем поговорить, перед кем покуражиться; по крайности, будет кого послать за новым кувшином, да не пива этого прогорклого, а доброго вина.
– Да уж успел, – ответил инок, коему вдруг взбрело в голову назваться Лешим. – Второй десяток лет с этим прозвищем живу, мудрено ль привыкнуть?
Боярин поперхнулся пивом.
– Как?
– Аль ты про меня не слыхал? Аль забыл Лешего? То-то я и гляжу, возок свой мудрёный, крепостицу свою на колёсах, боле из сарая не выкатываешь… Думал, нет меня? Думал, помер я, как твой Безносый?
– Ты-ы?! – не поверил своим ушам боярин.
– А то кто же, – хладнокровно ответил монах.
– Ах ты пёс! Гляди-ка, где схоронился! Агнцем Божьим прикинулся, волчище лесной, душегуб!
– Про душегуба не тебе говорить, не мне слушать. Короткая у тебя память, боярин. Зиминых забыл? Никиты покойного невесту, Марью-княжну, которую в жёны взял и до смерти уморил, забыл? Отца своего забыл? Жену мою, Ольгу?.. Вспоминай, боярин!
– Пшёл вон, пёс приблудный! – вскипел боярин. – Иль нет, постой. Я тебя сейчас своею рукой…
Он попробовал вскочить, но ноги вдруг стали тяжёлыми, как две разбухшие от долгого лежания в воде дубовые колоды, – шевельнулись слабо, скребя по полу серебряными подковками, и замерли, как неживые. Потянулся за саблей – рука упала на полпути, опрокинув кубок. Пиво пенной лужей растеклось по столу; в ноздри шибанул крепкий хмельной дух, и боярин только теперь почуял, что пиво сегодня и пахнет не так, как всегда.
– Опоил меня, окаянный! – от страха сделавшись догадливым, ахнул он.
– То тебе от бабки Агафьи, травницы, поклон, – согласно кивнул инок. – Она меня лечила, она меня и учила. Её-то ты, конечно, не упомнишь, хотя бабка та тоже на твоей совести. А она ведь за всю жизнь слова худого никому не сказала, и, опричь добра, люди от неё ничего иного не ведали. Э, да что с тобой говорить! Всё одно ведь ничегошеньки не поймёшь, боров плотоядный.
– Убить меня чаешь, пёс, – с трудом ворочая деревенеющим языком, пробормотал Иван Феофанович.
– Пошто? – Леший пожал широченными плечами. – Охота была об тебя мараться! Ты ведь, боярин, своей рукой сроду никого не казнил. Ну, разве что Никиту Зимина, так и то, скорей, не твой грех, а мой. Кабы я тебя тогда не спугнул, Никита, может, и сегодня жил бы. Посему крови твоей я не пролью. Я тебя, боярин, мыслю живьём схоронить.
– Как?! – цепенея не то от ужаса, не то от влитого в пиво зелья, прохрипел Долгопятый.
– Да очень даже просто, – с готовностью пустился в объяснения Леший. – В подклеть снесу да в стенку замурую. Зелье, что ты выпил, крепкое, сутки будешь спать как убитый. За это время раствор хорошенько схватится. Я его, как быть надлежит, на яичных желтках замешал – авось не расковыряешь. Проснёшься, а кругом темно… Ты вот что, боярин, – неожиданно беря деловитый тон, добавил он. – Ты, как очнёшься, сухость во рту почуешь, пить тебе захочется. Без еды такой боров, как ты, мнится, и месяц может протянуть, а вот без воды совсем худо. Посему водицы я тебе припасу – немного, кубок всего. А ты уж сам решай, разом его осушить иль растянуть, чтоб надольше хватило. И как дальше быть, тоже думай сам, как Ольга моя в своё время думала. Хочешь – голову себе о камень расшиби, а хочешь – подожди, покуда смерть сама за тобой придёт.
– На помощь! Убивают! – изо всех сил завопил боярин.
Вернее, хотел завопить, но из онемевшей глотки вырвался только хриплый, писклявый шепоток, каким и мышь не разбудишь.
– Добро, – улыбнулся Леший. – Действует отвар. А то я, грешным делом, побаивался, что за давностью лет рецепт бабкин позабыл и напутал что-нибудь. Отварчик-то непростой, его с умом готовить надобно…
Он замолчал, вслушиваясь в тишину спящего монастыря. Уверенности, что вся братия уже уснула, у него не было, и он решил подождать ещё немного. Чтоб скоротать время, решил поглядеть, что у боярина в ларце. Взял со стола свечу, размотал мокрую скатерть. Боярин на ложе страшно захрипел, и в этом хрипе Степан с трудом разобрал слова: «Не тронь, пёс!» Инок вернулся к ложу и одним сильным рывком сдёрнул с шеи боярина затейливый медный ключ, что висел на цепочке рядом с нательным крестом.
– О душе думать надобно, – с укоризной молвил он, вглядываясь в расширенные зрачки Долгопятого, – а ты опять о злате.
Вернувшись к ларцу, отпер ключом хитрый замок иноземной работы и откинул тяжёлую мокрую крышку. Красноватые отблески свечи заиграли на россыпи золотых монет, драгоценных камней, ожерелий и перстней, коими был доверху набит ларец. Поверх всего лежал плоский прямоугольный предмет, обёрнутый куском золотой парчи. Развернув парчу, Степан увидел промасленный пергамент, под которым обнаружилась старая, потемневшая от времени и лампадной копоти икона – воин на вздыбленном коне, пронзающий копьём свивающегося в тугие кольца чешуйчатого змия. На миг Степан замер, ощутив что-то вроде мягкого толчка в самое сердце. Собственный замысел показался вдруг кощунственным и безбожным, и подумалось, что покойница жена, да и все иные, за кого вознамерился отомстить, его не одобрили бы.
Но стоило отвести взгляд от иконы, как сердце опять ожесточилось, закаменело. Нешто Господь напрасно в живых его оставил? Божий суд превыше людского разумения; случается, и нередко, что Господь, устав взирать с небес на творимые слугами дьявола бесчинства, вмешивается в дела земные, ещё при жизни насылая кару на виновных, дабы оградить невинных. А орудия Божьей кары могут быть всякими: злая хворь, молния, упавшее дерево, скользкая ступенька или, как ныне, искалеченный, утративший всё, что было ему дорого на этом свете, даже веру, чернец. Так нешто он пойдёт супротив Божьей воли? Нет, не пойдёт. Бесполезно сие, грешно, а главное – не хочется.
Степан обернулся, чтобы проверить, как там боярин. Боярин оказался крепким орешком – он ещё не спал, таращил на Степана глаза и слабо хрипел.
– С иконой краденой расстаться не захотел, – сказал ему Степан, – в алчности своей даже тем, что тебе не принадлежит, не поступился. Верно Никита покойный тогда сказал: тати вы, а не бояре. – Он мрачно усмехнулся, увидев, как при этих его словах и без того вытаращенные глаза боярина распахнулись ещё шире. – Ну, чего уставился? А ты думал, глаз тебе тогда, на речке, дух святой подбил? Надо было ещё тогда взять грех на душу, утопить щенка, покуда в пса кровожадного не вырос, да жаль, не догадался по малолетству… Ин ладно, будь по-твоему. Оставайся с иконой, мне она всё едино ни к чему.








