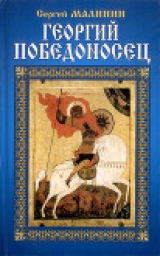
Текст книги "Георгий Победоносец"
Автор книги: Виктория Василишина
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 23 страниц)
И как в воду глядел.
Выехали это они, по обыкновению, в Свято-Тихонову обитель – видать, у молодого боярина в горле пересохло, пора приспела в монастырские погреба заглянуть. Проехали Лесную. Пепелище у самой околицы, на отшибе, – Аким на него, как всегда, глянул и, как всегда, ничего нового не увидал. Пепелище и пепелище. Пятно чёрное посередь зелёного двора, печка закопчённая трубой, как пальцем, в небо тычет; справа груша – старая, корявая, наполовину обгоревшая, наполовину зелёная, слева огород, уже успевший сорной травой зарасти. И отстраиваться, между прочим, никто даже и не думает. Словом, мёртвое место, пустое. В церкви, где отец Дмитрий, бражник известный, службу Господу справляет, слышно, колокол звонит, прихожан к обедне скликает, а на обгорелой груше, на самой макушке, чёрный ворон расселся и, клюв разинув, каркает – показалось, прямо Акиму в лицо.
Рука сама за луком потянулась, чтоб вещуна носатого с насеста сшибить. Да забыл лошадей придержать – пронесли мимо, пепелище с грушей за поворотом скрылось: Одно карканье осталось, а вскорости и оно в отдалении стихло. Пощупал Аким под перьями золотой персидский динарий и лошадей подхлестнул, чтоб шибче бежали.
И вот аккурат на полпути меж Лесной и монастырём случилось. Тенькнуло в лесу знакомо и звонко, свистнуло коротко, и Аким, ни о чём не успев подумать, боком на козлы пал – кабы за вожжи не держался, так, верно, в прах дорожный и сверзился б. Свистнуло над самой головой, перья петушиные ветерком шевельнуло, а после стукнуло коротко и глухо – кажись, не в плоть, а в дерево всё ж таки.
Хлестнул Безносый по лошадям – выносите, родимые! Вынесли, не подвели. С полверсты отъехав, вожжи натянул, остановил возок и наконец-то назад обернулся – поглядеть, что там с боярином.
Ништо, цел боярин, токмо побелел и трясётся весь, яко вурдалак при виде Божьего креста. И крест, сиречь стрела, тут как тут – торчит в спинке возка, край боярского кафтана к ней намертво пригвоздив.
Сзади, слышно, стражники в лесу сучьями трещат, Господа Бога всуе поминают и зычно перекликаются – лучника, стало быть, ищут. Ну-ну. Станет он вас, увальней сытых, дожидаться!
Поглядел Аким на стрелу. Знакомая стрела. Древко синее, как кафтаны у боярской стражи, а оперение красное, как у той же стражи шаровары. Этаких стрел у каждого долгопятовского дружинника полон колчан. Вот тебе и волчья яма!
Вот тебе, боярин, и пепелище.
Взялся за древко, потянул, после дёрнул – ништо себе! Глубоко вошло, намертво засело. При такой-то силище, кабы лучник не промазал, боярина никакая кольчуга не спасла бы, никакие латы. Про то, что было бы, не пригнись он сам вовремя, Акиму и думать не хотелось. Поди, насквозь бы прошла, окаянная, да ещё б и на барина хватило!
Аким с треском обломил синее древко стрелы, рывком высвободил боярский кафтан, кинул стрелу на дорогу и, запустив пятерню под птичью личину, шибко поскрёб то место, где у людей обыкновенно располагается нос.
– Что сие было? – послышался сзади дрожащий, но притом уже и сердитый голос Ивана Долгопятого.
Аким немного помолчал, задавливая в себе внезапно вспыхнувшую злобу.
– Сие, – сказал он наконец, – был тот самый вор, что тебе, кормилец, столь надобен. Видно, внял Господь твоим молитвам, послал тебе добрую дичь, чтоб стража твоя впустую по лесу не рыскала. Вот он, лиходей, – лови, коль сумеешь! Ты его своими руками из ничего сотворил, тебе, стало быть, и ловить.
– Ты это об чём? – с капризным недовольством разглядывая оставленную стрелой дыру в кафтане, вопросил Иван Феофанович.
– Я, боярин, об том, что думать надобно головой, а не иным местом! – перестав сдерживаться, злобно ответил Аким и хлестнул по лошадям.
* * *
Дружинника того Степан, считай, и не убивал. Сам в волчью яму хмельной свалился, сам на кол угодил и сам издох. Правда, яму Степан собственноручно выкопал, и кол в дно тоже он забил. Ну, и ветками, ведомо, прикрыл как полагается. И дружинника, что по нужде от товарищей отлучился, к той яме, конечно, не леший заманил, а Степан Лаптев, бывший знатный резчик, а ныне – лесной человек, пропащая душа.
После неделю с луком, у мёртвого стражника взятым, упражнялся. А как начал птиц на лету стрелой сбивать, понял: пора. А и в самом деле, чего тянуть-то?
Ясно, опять же, что убивать из лука Ваньку Долгопятого он не собирался, а целил в пернатого возницу. Тот, что таился от людей за золочёной личиной, был человек хоть и дурной, а всё едино подневольный. Пёс, одним словом, а собаке собачья и смерть – проткни его стрелой да забудь, пускай с ним после на том свете черти разбираются.
А вот боярскому сыну Степан такой лёгкой смерти не желал. Твёрдо себе положил, что умирать боярин будет медленно и страшно, ровно столько времени, сколько Ольга-покойница в его проклятом тереме мучилась, день в день, час в час.
Всё для себя решив и всё, что надобно, загодя приготовив, сел в засаду на дороге в Свято-Тихонов монастырь. Долгопятый туда после смерти отца зачастил – не то грехи свои замолить пытался, не то, что верней всего, полюбилось ему с игуменом, отцом Апраксием, бражничать. Да пёс с ними с обоими; главное, что на этой дороге боярского сына частенько видели, так что ждать его лучше всего было здесь, а не в каком-то ином месте.
Два дня Степан, с места не сходя, врага своего поджидал и всё-таки дождался. Натянул лук так, что, казалось, либо тетива сейчас лопнет, либо древко переломится, да и пустил стрелу прямо в пернатое чудище, что на козлах барского возка сидело.
Вот тут-то он впервой и усомнился в том, что сидящий на козлах обтрёпанный золотоликий птах – человек. Не доводилось ему видеть человека, который, лучника не видя и не ведая, что ему грозит, сумел бы от летящей стрелы увернуться. А этот увернулся – как сидел, так и пал боком на козлы, и так, лёжа, хлестнул по лошадям. Умчался возок, увёз от Степана невредимых ворогов, а стража боярская сабли выхватила, пики уставила и, надвое разделившись, коней в лес по обе стороны дороги пустила.
Ну, к этому-то Степан был готов. Скатился бочком в загодя отрытую нору и крышку прочную, заботливо мхом да листьями обложенную и даже с молодым деревцем наверху, тихонько над собой опустил. Стражники кругом порыскали, никого и ничего не сыскали да и ускакали восвояси несолоно хлебавши.
Случилось же всё простым путём, обыкновенным порядком. Так же, бывает, вспыхивает лучина, ежели поднести к ней тлеющий трут. А ещё, сказывают, на Кавказе, где горы зело высоки и снег даже летом не сходит, где царят вечное безмолвие и вечный же холод, – так вот, стало быть, если там, в горах, шумнуть неосторожно, крикнуть или, паче того, пальнуть из пищали, от того невеликого шума премного снегу с горы сорваться может. Зовётся тот снеговой обвал лавиною, и лавина сия, с горы в долину катясь, всё на своём пути, как мелкий сор, сметает: деревья ли, дома иль иное что – ей всё едино.
Так и со Стёпкой Лаптевым вышло. Он и не чаял, с какой стороны беда к нему подкрадётся. Думал – ну узнает его боярин, ну вспомнит, как глаз ему по малолетству подбил, ну выпороть велит. Может, тот аспид пернатый и насмерть кнутом забьёт – с него станется. Конечно, хорошего мало, а что поделаешь? Христос терпел и нам велел – вот она, первая и последняя холопья заповедь, иных ему не надобно. К тому ж, если от злого барина подальше держаться, всё, глядишь, и обойдётся. Если глаза ему всякий день не мозолить, разве ж узнает он в плечистом бородатом мужике десятилетнего мальца, что некогда светлый лик его своим грязным кулаком осквернил? Да ни в жизнь!
Правда, о том он уж после думал, когда во всём разобрался и всё до самого донышка постиг. А пока, сказавши артельному старшине, дядьке Макару, что с женой его неладно и что надобно ему сей же час, не откладывая, бежать домой, так и поступил – бросил всё и побежал, да так шибко, что к вечеру отмахал полных пятьдесят вёрст с небольшим гаком и на закате вошёл в Лесную.
Покуда бежал, ломал голову, гадая, что стряслось и где искать Ольгу. Правда, Кудря божился, что искали уже, и, видно, не врал. На миру такими вещами не шутят, в деревне всякому ведомо: ежели ты нынче соседу не пособишь, так завтра, когда тебя жизнь-злодейка к стенке припрёт, и тебе никто руки не протянет. Стало быть, и впрямь искали, да не нашли. А неделя – срок немалый. Это как же надобно в лесу заблудиться, чтоб за неделю обратной дороги не найти? И кой леший её ночью в лес-то понёс? Нечего ей было там, в лесу, делать…
Да и не ходила она, конечно, ни в какой лес. В него и ходить не надобно – он, родимый, рядышком, сразу за огородом, едва ли не к самой избе подступил. Избу-то Степан срубил на отшибе, с самого краю, у околицы. В позапрошлом году на деревне подряд три дома сгорели, как раз по соседству; два так и не отстроили, и получился меж Степановым двором и остальной деревней пустырь. А на пустыре, где раньше люди жили, известно, что растёт – трава сорная, бурьян да крапива, а ещё кусты, что из леса так и ползут, разрастаются, будто живые. Словом, ежели по деревне идти, Степанову избу не со всякого места и увидишь. Раньше это даже удобным казалось – жить подальше от людского, а особенно от боярского глаза, – а вот ныне то удобство иной стороной обернулось. Место глухое, неприметное, потайное почти что. И правильно Кудря сказал: в таком месте всё что угодно, приключиться может, а на деревне и не увидит никто.
Мог и медведь забрести. А только что медведю летом подле людского жилья делать, когда в лесу пропитания в достатке?
А паче того, могли набежать на крайнюю в деревне избу те самые лиходеи, что боярина Долгопятого порешили. Добром награбленным да лесными дарами сыт не будешь; человек так привык, что ему для сохранения живота людская пища требуется – хлеб, яйца, молоко… да та же брага! Её, поди-ка, из мха лесного да грибов не приготовишь, а приготовишь, так она в горло не полезет. Стало быть, время от времени им из леса выходить приходится. А удобнее места, чем Степанов двор, для того в округе, пожалуй, и не сыщешь. Вот оно, людское жильё, вот хлеб, вот скотина, а вот и справная, молодая да гожая баба – хватай да пользуйся, тем паче что и мужика на дворе нет, и из деревни ничего не видно.
От этих мыслей Степан даже зубами заскрипел. Никогда не думал, не гадал, что с лебёдушкой его ненаглядной этакое лихо приключиться может. И что за жизнь у него такая нескладная? Был друг, да через его же, Стёпкину, глупость погиб. Была жена, какой во всём свете не сыскать – увели жену, и, опять же, через мужнино упрямое нелюдимство, через своеволие его да вольнолюбство. Вишь ты, в деревне ему не сиделось! Землю пахать ему скучно да муторно! У него, гляди-ка, талант! Божий дар у него. Вот и живи ныне со своим божьим даром, любуйся на него и, ежели сумеешь, детишек от него заводи.
Но за всеми теми чёрными мыслями в глубине души теплилась надежда, что Кудря наболтал, чего сам не ведал, насочинял с три короба или, может, просто ошибся. А если даже и не ошибся и не наврал, если Ольга и вправду со двора пропала, так, может, уже и вернулась. А не вернулась, так вскорости вернётся.
Пока до деревни дошёл, смеркаться начало. Догнал стадо, что с выгона по домам шло. С пастухом, хромым Васяткой, поздоровался. Тот ответил, а у самого глаза по плошке – глядит испуганно, будто ждёт, что Степан сейчас на него с кулаками кинется али ещё чего худое учинит. Стало быть, не соврал Кудря и про Ольгину пропажу всей деревне ведомо.
Потом староста повстречался, Фрол Егорыч. С этим поговорили.
– Нешто Кудрю на Москве повстречал? – староста спрашивает.
– Было такое дело, – Степан ему отвечает. – Новости есть ли?
Староста в ответ только руками развёл и забормотал, старый дурень, опять про скотину – к кому на двор тёлку отвели, к кому кур, к кому поросёнка…
– Отвяжитесь вы от меня, Христа ради, со скотиной, – осерчал на него Степан. – До скотины ль мне ныне? Кабы вы, люди добрые, скотину ту хотя бы и с кашей съели, а жену мне сберегли, я б вам в ножки поклонился. Нетто тёлка меня вечером приголубит? Нешто поросёнок водицы сольёт, когда умыться надобно? Куры, что ли, мне слово ласковое скажут?
И пошёл своей дорогой. А староста следом семенит. Идёт сзади, как привязанный, и молчит, вздыхает только. Раньше вздыхать надо было, а ныне-то чего уж?..
Добежал Степан до своей избы. Так и есть – темно, пусто. В сенях о кадушку перевёрнутую споткнулся, чуть лоб об косяк не расколол. И чего та кадушка на самом ходу валяется?
Взойдя в избу, высек огонь, запалил лучину. Пусто. Вроде прибрано, только лавка опрокинута, да и пыли уже скопилось – на столе хоть пальцем рисуй. По малолетству Стёпка любил в пыли пальцем узоры вырисовывать, птиц сказочных да зверей малевать. Только у матушки в избе пыль нечасто можно было сыскать. До последних своих дней, уж когда и ходила-то еле-еле, дом в чистоте содержала. И Ольга этак же по хозяйству старалась, да и любая справная баба…
Поднял лавку, на место поставил. Огляделся. Лампадка перед образами, конечно, давно погасла. Долил масла, засветил лампадку, перекрестился на образ святого Николы-чудотворца. Не полегчало. Огляделся сызнова и только теперь заметил на полу, ближе к двери, белое птичье перо – вроде из петушиного хвоста. Призадумался: что за притча? Нешто Ольга решила, покуда одна, без мужа, обитает, курятинкой себя побаловать?
Наклонился, зачем-то поднял перо, глянул мельком и хотел уж было в печку выбросить, да что-то его удержало. Снова поднёс перо к глазам, осмотрел внимательно.
Ну, перо. И впрямь, кажись, петушиное. Примято крепко, и стебелёк надломлен, ровно то перо у петуха из хвоста силком выдрали. А на кончике, где голо, дырочки виднеются, будто бы от иголки, а кое-где и ниточки оборванные торчат.
Вот, стало быть, что это был за петух!
Тут-то и наступила у Степана в голове полная ясность. Спрятал он то пёрышко подальше за пазуху, оглянулся на красный угол.
– Ты-то куда глядел? – спросил у Николы-чудотворца.
Молчит Никола, не отвечает. Ну, и Степан с ним боле разговаривать не стал и, не перекрестившись даже, на крыльцо вышел.
Видит – по ту сторону забора люди стоят. Много людей – пожалуй, что вся деревня собралась. Стоят и молчат, не шевелятся и даже не дышат как будто. День за лесом догорает, стемнело почти, и померещилось вдруг, что это не люди, с малолетства знакомые и почти родные, у ворот собрались, а упыри с забытого языческого кладбища – стоят, глядят и прикидывают, видать, с какого конца Стёпку Лаптева есть сподручнее. У него даже озноб по спине пробежал, подумалось: вот оно как, сперва Ольгу, теперь меня…
После опомнился. Какие там ещё упыри! Вон староста стоит, Фрол Егорыч, вон жена его Матрёна, вон бабка Агафья, травница, а там Алёшка, вдовий сын, с матерью своей Алёной… Свои люди, деревенские. А молчат потому, что сказать нечего. Упырей же ныне во всей округе всего два осталось: Ванька Долгопятый, боярский сын, да прихвостень его, палач в петушиных перьях, одно из которых ныне у Степана за пазухой лежит. Раньше их, кровососов, трое было, да одного, слава богу, добрые люди насмерть уходили. Надо было, как полагается, в могилу кол осиновый вбить, чтоб уж не поднялся, да это ещё успеется…
Не хотелось Степану на людей глядеть. Видеть он их спокойно не мог и сильно боялся обидных слов всему миру наговорить. Сошлись, глядят… Кому оно ныне надобно, гляденье ваше? Где вы были, куда глядели, когда кат боярский Ольгу из избы за косы тащил?!
А может, и видели, да перечить боярскому слуге побоялись. И Степану теперь ничего не скажут, сколь ни пытай. И совестно им, и страшно, и поправить уж ничего нельзя, вот и будут молчать, яко дубовые колоды, да глаза таращить. А верно всё ж тот же Ванька Долгопятый говорит: смерды – быдло безответное, что с ними ни делай, как ни мытарь, всё стерпят и ещё в ножки поклонятся… Тьфу!
– Расходитесь, люди, – сказал Степан глухо. – Утро вечера мудренее.
И, спиной к ним повернувшись, в избу ушёл.
А как совсем стемнело, постучался к старосте в окошко. Староста знатно вино курил, про то все ведали. Когда при Зиминых жили, так, бывало, сам Андрей Савельевич покойный тем вином угощался да хвалил. А Долгопятые даже и пробовать не стали, сказали: дрянь. Откуда, мол, у смерда из захудалой лесной деревеньки доброму вину взяться? Будто дорогое иноземное вино, кое они без меры хлещут, князья или даже цари заморские делают, а не такие ж, как у нас, крестьяне.
Постучался, стало быть, Степан к старосте в окошко и сказал:
– Дай, Фрол Егорыч, винца твоего испить. Негоже то посередь ночи, да не спится мне, не дремлется. Душа горит!
Староста кивнул молчком и в погреб полез. Вылез из погреба и протянул Степану большой, мало не на ведро, пузатый кувшин. Фрол Егорыч – мужик с понятием, недаром всем миром старостой избран. Сообразил, видно, что человеку горе залить надобно, вот и не поскупился.
– Только через меру не налегай, – предупредил. – Мужик ты трезвый, степенный, бражничать не привык, а оно, проклятущее, крепко в голову шибает. Ты помаленьку, помаленьку… И не убивайся ты так. Глядишь, всё ещё и образуется…
– Дай-то Бог, – сказал Степан, принимая увесистый кувшин. Спорить со стариком он не стал, ибо попусту молоть языком не любил с малолетства и с малолетства же запомнил: на Бога надейся, да сам не плошай.
Всю ночь, до самого утра, горела в избе у Степана лучина. Одна прогорит – он в светец другую вставляет, та к концу подойдёт, а у него уж и третья наготове. Кувшин так нетронутым на столе и простоял – не до вина было Степану, да и не затем он то вино у старосты просил, чтоб вусмерть упиться и о горе своём позабыть. Сидел, вертел в пальцах перо от петушиного наряда, ниточки, коими оно пришито было, теребил да брови хмурил. А едва начало светать, с первыми петухами, сунул кувшин в котомку и из дома вышел.
Путь ему предстоял неблизкий – вёрст двадцать, почти половина того, что до Москвы. Только не по московской дороге, а левее – в ту примерно сторону, где по утрам солнышко встаёт. Обширны боярские угодья; пока из конца в конец их пройдёшь, о многом передумать можно. Только Степану то нынче не в радость было: сколь ни гнал от себя тревожные, чёрные мысли, они всё едино к нему возвращались – донимали, липли, как липнет к потной коже назойливая мошкара на покосе.
Дважды встречались ему на пути разъезды конной боярской стражи, и оба раза он успевал, первым их заметив, в кустах схорониться. Видно, помог ему, устыдясь своего бездействия, Никола-чудотворец, а может, и какой иной святой, узрев его муку, простёр над ним свою длань, отвёл зоркие, как у стервятников, глаза стражников от белевшей за кустами домотканой холопьей рубахи. Кабы заметили, на том бы всё и кончилось: свели б слоняющегося без дела незнакомого мужика на боярский двор – а вдруг и вправду разбойник попался? Там пернатый кат скоро сведал бы, кто он таков, откуда пришёл да чей муж, и получился бы у Ваньки Долгопятого первый пойманный и казнённый ватажник. Всё это Степан в миг единый сообразил, как только впервой скачущих навстречу всадников вдалеке углядел. Да так ясно сие сообразилось, будто кто-то невидимый в ухо нашептал: затаись, не давай тем упырям удобного случая от тебя избавиться… И Степан тому шёпоту внял, хотя неделей или даже днём раньше ничего такого ему бы и в голову не пришло. И прятаться бы он не стал, потому что всегда думал: раз ни в чём не повинен, то и прятаться незачем. Дурнем набитым он, конечно, не был, а просто, всю жизнь под Зимиными прожив, привык, что так оно и есть и что судит барин по справедливости. Ныне ж всё кругом изменилось, и Степан, сам того не заметив, изменился тоже.
Добравшись до боярского двора, подстерёг челядинца, что за какой-то нуждой за ворота вышел, отозвал его в сторонку и в ноги поклонился. Дворня любит, чтоб мужики ей кланялись: сами всю жизнь перед хозяевами в три погибели гнутся, вот и отыгрываются после на деревенских. Никогда Степан боярской челяди не кланялся, а ныне поклонился: коль для дела надобно, так спина, поди, не переломится.
Заговорили. Степан с хитростью, коей сам немало удивился, ибо никогда её за собой не замечал, повёл разговор издалека: каково, мол, при молодом боярине дворне живётся и нельзя ль, ежели что, в боярском тереме местечко сыскать – ну, хотя бы дворником иль сторожем ночным, всё равно.
Челядинец, понятно, при таких его словах важности на себя напустил, раздулся, как жаба, – ну, ровно он сам боярин и есть, а если не боярин, так главный его управляющий. Это дело, говорит, с наскоку не решится, тут думать надобно. Да и к тебе приглядеться не мешает, каков ты есть человек…
Чтоб доказать, что человек он зело хороший и с понятием, Степан достал из котомки Старостин кувшин и пробку из него вынул. Челядинец горлышко понюхал, глаза у него затуманились, после замаслились, а после пугливо из стороны в сторону стрельнули: не видал ли кто? Никто их не видел, а чтоб и вперёд не увидел, дворовый, мужик, по всему видать бывалый и в таких делах зело поднаторевший, увлёк Степана вместе с кувшином от греха подальше, на пригорочек, где три берёзки ветвями шумят да редкие кустики под ветром перешёптываются. Местечко было и впрямь хорошее: и тенисто, и солнечно, и мягко, и ветерок обвевает. К тому ж отсюда, сверху, во все стороны на пять вёрст видать, а самого тебя за кустиками и с пяти шагов не враз углядишь. Словом, чтоб тайком от боярина бражничать, местечко самое подходящее.
Выпили по глотку, после ещё. Степан, конечно, не столь пил, сколь губы мочил, а челядинец, дармовщинке обрадовавшись, хлебал, как конь, на коем без передышки сто вёрст галопом проскакали. Вино, как и ожидал Степан, развязало ему язык, и челядинец сам, без понуждения, весьма довольный наличием благодарного слушателя, который старательно изумлялся, таращил глаза, пугался и, цокая языком, покачивал головой – словом, изо всех сил ему подыгрывал, – повёл многословный и красочный рассказ о том, каково живётся дворне при молодом боярине.
«Возьмут тебя на боярский двор или не возьмут, то ещё поглядеть надобно, – говорил он. – Однако ж и ты хорошенько подумай, допрежь такой доли себе искать. Помыкать тобой станут денно и нощно, пороть нещадно, а уж страху натерпишься – Господи, помилуй! Один шут боярский, который в перьях, чего стоит. Ведь одно название, что шут, а на деле – кат кровоалчущий, ненасытное страшилище. Сказывают, будто он и не человек вовсе, а демон; лица его никто не видывал, и с перьями своими он не расстается, будто сие не одеяние, а его собственная кожа перьями вместо волос утыкана.
И дела в боярском тереме порой творятся чёрные, злые. К примеру, давеча привезли из какой-то деревни боярину на потеху молодуху. Шут пернатый и привёз – по всему видать, выкрал и силой увёл, потому как и перья у него попортились, и рука после того три дня тряпицей обмотана была – не то укусила его молодуха, не то, может, ножом полоснула. Тут и пошла у молодого боярина потеха. В доме, слышь-ка, покойник лежит, да не просто покойник – отец; бабы над ним голосят, дьяк молитвы бубнит, а сын, коему по отцу убиваться полагалось бы, в опочивальне холопку всяко тиранит…»
Вино, хоть и бесовская потеха, порой и пользу принести может. Кабы не вино, челядинец тот, во-первых, ничего Степану не сказал бы, а во-вторых, кабы и сказал, так, до сего места в своём рассказе дойдя, враз умолк бы, смекнув, кому он всё это рассказывает. Одного взгляда на Степана хватило б, чтобы всё понять, а Степана самого только на то и хватало, чтоб, зубы стиснув, молчать да слушать. Внутри чёрная буря бушует, ревмя ревёт, демоны зубы скалят, хохочут да кривляются, стены каменные рушатся, моря из берегов выходят, горы опрокидываются и адское пламя полыхает.
Горько пожалел Степан, что не помер раньше, чем это услышал. Век бы ему жить, всего того не зная!
После спохватился: нет, брат, шалишь! Как жить, не ведая, что с родным человеком стряслось? Изведёшься, зачахнешь, а страшная правда тебя всё едино сыщет, хотя бы и на том свете. Помереть же всегда успеется; раньше надобно в скорбной земной юдоли все свои дела завершить, долги раздать, а после уж и о кончине подумать можно.
Кашлянул, чтоб голос себе вернуть, размял, отвернувшись, закаменевшие губы и спросил:
– А что молодуха? По сию пору под замком сидит?
Голос прозвучал хрипло, мёртво – так, помнится, Никита Зимин в последний свой вечер разговаривал. Но челядинец, который к тому времени уже выхлебал добрую половину кувшина, того не заметил.
– Упорхнула птичка, – с хмельной горечью качая головой, сказал он. – Руки на себя наложила. Не она первая, и, мнится, не она последняя…
У Степана потемнело в глазах. Показалось – всё, отмучился раб Божий, сейчас и дух вон. А челядинец всё не мог остановиться – говорил про то, как молодой барин, узнав про смерть наложницы, велел было, чтоб её отвезли, откуда взяли, и там кинули на двор – пущай, стало быть, родня хоронит как знает. А пернатый шут его будто бы отговорил: на что, дескать, тебе, барин, лишний шум? Зароем втихую за кладбищенской оградой, где и жена твоя с иными самоубийцами покоится, могилку с землёй сровняем, и концы в воду…
Степан его едва слышал, а после, когда отдышался, оказалось, что челядинец уже спит, похрапывая и по-хозяйски обняв одной рукой почти опустевший кувшин. Солнечный, яркий день теперь был тускло-серым, словно его присыпали пеплом, птицы не щебетали, а злобно, с издёвкой каркали и скрипели. Какое-то время Степан сидел неподвижно, сквозь затянувшую весь мир мутную пелену разглядывая видневшийся поодаль за тесовой оградой боярский терем. По двору ходили взад-вперёд, справляя повседневную работу, люди. Он смотрел на людей и думал: да люди ли это? О чём они думали, что чувствовали, когда у них на глазах зверь в богатом боярском платье творил такое, чего и вслух не вымолвишь? Ведь все, до последнего человека, о том ведали, и никто пальцем не шевельнул, словечка не проронил! Ходили в церковь, ставили свечки перед иконами, били поклоны, молили Господа и святых угодников о милости, а сами одной лишь милости достойны – смерти лютой и подлого погребения…
Каков поп, таков и приход. Когда кругом хорошо, и люди недурны – и слово доброе скажут, и поклонятся, и по мелочи, когда надобно, пособят – избу ль поставить, дрова из леса привезти, невод ли закинуть… А когда приходит беда великая, настоящая, всякому своя рубашка к телу ближе. Затаятся по щелям, как тараканы, и об одном Бога молят: пускай кого угодно мучают да казнят, лишь бы не меня.
Поглядел Степан на храпящего челядинца, подумал: нетто удавить сонного, чтоб после языком не болтал? Мимоходом подивился, откуда у него в голове взялась эта грешная мысль, но тут же удивляться перестал: а откуда бы ныне у него иным мыслям взяться?
Пьяного он, конечно, пощадил. И не потому, что пожалел иль побоялся грех на душу взять, а потому, что понял: грех тот пустым, бесполезным окажется. Дворовый, когда проспится да вспомнит, чего незнакомому мужику во хмелю наболтал, рот свой на семь замков запрёт и слова о том не проронит. До смерти ведь запорют, ежели сведают, сколь сору он из боярского терема вынес! Посему пусть его живёт, коль ему с таким грузом на совести живётся.
Могилу безымянную искать не стал: опасался, что приметят и, чего доброго, раньше срока изловят, да и сказать покойнице нечего. Клятвы произносить да кресты целовать – этим пущай бояре да дворяне занимаются, кои ни кебе и никому иному без крестного целования не верят, да и с целованием верят не до конца – больше вид делают, а у самих непременно камень за пазухой да фига в кармане. А Степан, мужичий сын, не таков; ему и без клятв ведомо, что не успокоится, пока вороги лютые, через которых жена его, лебёдушка белая, лада ненаглядная, в великом грехе да нестерпимой муке без покаяния умерла, чашу свою горькую до дна не выпьют. Вороги те сильны, ему не чета, и очень может статься, что не он их, а они его погубят. Так на что обещанья давать, коль не ведаешь, сумеешь ли выполнить? Уж после, когда всё кончится, можно будет и могилке поклониться, а пока дело делать надобно.
На обратном пути опять услышал он за поворотом дороги тяжкий конский топот и в кусты нырнул. Проскакала мимо конная стража, а меж стражниками углядел Степан знакомый расписной возок. Ванька Долгопятый в возке развалился и пьяным голосом срамную песню орёт, а на козлах сидит его прихвостень. Личина носатая золочёная на солнце так и сверкает, перья птичьи на ветру трепещут, и вблизи видать, что они уж не такие белые, как раньше, – обтрепались, посерели, а кое-где на них и бурые пятна засохшей крови виднеются. Демон и есть.
Как Степан тогда в кустах усидел, на дорогу не выскочил, про то одному Господу Богу ведомо. Усидел, однако ж, вытерпел – счастье ещё, что терпеть недолго пришлось. Пронеслись вихрем, будто и впрямь из чёртова пекла вырвались, пылью обдали, топотом оглушили и исчезли, будто их и не было. Степан зубы до хруста стиснул, из кустов на дорогу выбрался и дальше пошёл.
Домой, в Лесную, вернулся уж затемно. Покидал в котомку, что нашлось в избе съестного, взял топор, лопату да нож, с коим, бывало, отец на охоту хаживал. Добрый нож, с таким хоть и на медведя идти, и топор добрый – тот самый, которым Степан не одну избу срубил. А только мнилось, что не рубить ему больше изб, и петухов на оконных наличниках тож боле не резать.
Собрал, стало быть, всё, что надобно, а после факелом, с коим по сараям да кладовкам шарил, соломенную крышу подпалил – сперва на избе, после на сарае. Дверь хлева пинком отворил и факел на сеновал бросил – гори ты ясным пламенем, прежняя жизнь! Ежели самое дорогое, чем душа была жива, из сердца с кровью вырвали, так и иное всё пущай горит, никому не достаётся!
Уж на опушке спохватился, что икону Николая-чудотворца и иные, числом три, в горящей избе оставил. Глянул назад, а там уж и крыша провалилась, искры столбом в чёрное небо взвились. На деревне гомон, беготня. «Пожар! – кричат. – Горим!» Повернулся Степан ко всему этому спиной и прямиком в лес зашагал.
Так-то вот и завёлся в окрестностях Свято-Тихоновой обители вор, коего боярин Иван Феофанов сын Долгопятый долго ловил, да так и не поймал.








